Текст книги "Исповедь"
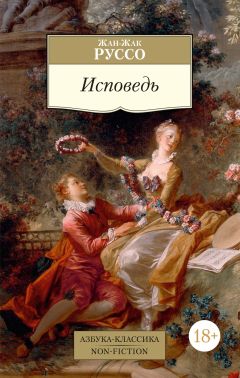
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Книга десятая
(1758–1759)
Необычайная энергия, вызванная во мне временным возбуждением и позволившая мне уехать из Эрмитажа, покинула меня, как только я оказался за его пределами. Едва я устроился на новом месте, как сильные и частые приступы моей болезни осложнились новыми страданиями: меня с некоторых пор мучила грыжа, причем я не знал, что со мной. Скоро я стал жертвой жесточайших припадков. Врач Тьерри, мой старый друг, навестил меня и объяснил мне мое состояние. Зонды, свечи, бандажи и прочие атрибуты старческих недугов, разложенные вокруг, заставили меня жестоко почувствовать, что нельзя безнаказанно сохранять молодое сердце, когда тело перестало быть молодым. Весна нисколько не восстановила моих сил; я провел весь 1758 год в состоянии изнеможенья и думал, что уже подхожу к концу своего жизненного пути. Я ждал этого момента с каким-то нетерпеньем. Отрешившись от химер дружбы, освободившись от всего, что заставляло меня любить жизнь, я больше не видел в ней ничего, что могло бы сделать ее для меня приятной; впереди мне представлялись одни страданья и беды, мешающие наслаждаться существованием. Я мечтал о том, как я стану мгновенно свободным и навеки спасусь от врагов. Но вернемся к нити событий.
Мой переезд в Монморанси как будто озадачил г-жу д’Эпине: она этого, видимо, не ожидала. Плохое состояние моего здоровья, суровое время года, всеобщее забвенье, в котором я оказался, – все внушало ей и Гримму уверенность, что, доведя меня до последней крайности, они вынудят меня просить пощады и униженно добиваться, чтоб меня оставили в убежище, откуда чувство чести повелевало мне удалиться. Я переехал так внезапно, что у них не было времени предотвратить удар и не оставалось другого выбора, как только поставить все на карту и либо окончательно потерять меня, либо постараться вернуть в Эрмитаж. Гримм выбрал первое; но мне кажется, г-жа д’Эпине предпочла бы второе; об этом я сужу по ее ответу на мое последнее письмо, где она заметно смягчает тон, взятый ею в предыдущих письмах, и как будто оставляет открытым путь к примирению. Она заставила меня ждать ответа целый месяц, и такое запоздание тоже говорит о том, что ей трудно было придать ему приличную форму и придумать необходимое объяснение. Выказывать особую любезность она не могла, не компрометируя себя; но после прежних ее писем и моего неожиданного отъезда можно только удивляться, как тщательно она избегает какого бы то ни было обидного слова. Привожу ее ответ целиком (связка Б, № 23), чтобы читатели могли судить об этом:
Женева, 17 января 1758 г.
«Только вчера, милостивый государь, я получила ваше письмо от 17 декабря. Мне прислали его в ящике, полном разных вещей, а ящик находился в пути все это время. Я отвечу только на приписку: само письмо мне не совсем понятно. Если б у нас была возможность объясниться, я охотно отнесла бы все происшедшее за счет недоразуменья. Возвращаюсь к приписке. Как вы, наверно, помните, милостивый государь, мы условились, что жалованье садовнику в Эрмитаже будет проходить через ваши руки, чтобы дать ему сильнее почувствовать свою зависимость от вас и избавить вас от смешных и непристойных сцен, подобных тем, которые устраивал его предшественник. Доказательством этому служит то, что его жалованье за первые два квартала было вручено вам, а за несколько дней до своего отъезда я условилась с вами, что суммы, выданные вами вперед, будут вам возвращены. Я знаю, что сначала вы отказывались; но ведь вы выплачивали вперед по моей просьбе – следовательно, я должна вернуть долг, как мы и договорились. Кагуэ сообщил мне, что вы не пожелали взять эти деньги. Решительно тут какое-то недоразумение. Я отдала распоряжение, чтобы их опять отнесли вам; право, я не вижу причины, почему вы, несмотря на наш уговор, желаете оплачивать моего садовника, – и даже за то время, когда вы уже не жили в Эрмитаже. Итак, я надеюсь, милостивый государь, что, вспомнив все, о чем я имею честь вам писать, вы не откажетесь принять деньги, любезно уплаченные вами за меня».
После всего, что произошло, я потерял доверие к г-же д’Эпине и решил не возобновлять с ней отношений; я не ответил на это письмо, и наша переписка на этом кончилась. Видя, что мое решение принято, она приняла свое и, примкнув уже целиком к замыслу Гримма и гольбаховской клике, сообща с ними старалась потопить меня. Пока они орудовали в Париже, она действовала в Женеве. Гримм, впоследствии уехавший к ней, довершил то, что она начала. Троншен, которого они привлекли без труда, оказал им деятельную поддержку и стал одним из самых свирепых моих преследователей, хотя, подобно Гримму, никогда не имел ни малейшего повода на меня жаловаться. Все трое в полном согласии принялись тайно сеять в Женеве семена, давшие жатву четыре года спустя.
Трудней пришлось им в Париже, где я был более известен, а сердца менее расположены к ненависти и не так легко проникаются ею. Чтобы наносить удары с большей меткостью, они прежде всего пустили слух, будто я отошел от них по своему почину (смотрите письмо Делейра, связка Б, № 30). После этого, прикидываясь по-прежнему моими друзьями, они стали ловко распространять коварные обвинения, придавая им характер жалоб на несправедливость друга. Таким образом они вызывали больше доверия, их охотнее выслушивали, а меня порицали. Глухие обвинения в предательстве и неблагодарности произносились с большой осторожностью, но тем большее впечатление производили. До меня дошло, что они приписывают мне чудовищные злодейства, но я никогда не мог узнать, в чем, по их рассказам, эти злодейства заключались. На основании молвы я мог вывести только то, что речь шла о следующих четырех главных преступленьях: 1) моем удалении в деревню; 2) моей любви к г-же д’Удето; 3) отказе сопровождать в Женеву г-жу д’Эпине; 4) отъезде из Эрмитажа. Если они прибавляли к этому еще другие упреки, то приняли при этом такие надежные меры, что мне оказалось совершенно невозможным когда-либо узнать, в чем эти упреки заключались.
Именно к этому-то моменту я, кажется, могу приурочить изобретение той системы, которую мои гонители применяли с успехом столь огромным, что это может показаться чудом всякому, кто не знает, с какой легкостью принимается на веру все, что благоприятствует человеческой злобе. Постараюсь в немногих словах объяснить, к чему сводится эта темная и таинственная система, насколько мой взгляд мог проникнуть в нее.
Обладая именем уже знаменитым и известным во всей Европе, я сохранил всю простоту своих прежних вкусов. Мое смертельное отвращение ко всему, что называется сговором, кликой, интригой, сохранило мне свободу и независимость, не знающую других цепей, кроме сердечных привязанностей. Одинокий, всюду чужой, живущий в уединении, без опоры, без семьи, не признавая ничего, кроме своих принципов и обязанностей, я бесстрашно следовал путями правды, ни в ком не заискивая и никого не щадя в ущерб истине и справедливости. Более того, удалившись за два года перед тем в уединение, не переписываясь ни с кем о злободневных событиях, не имея отношения к тому, что делается в свете, не получая никаких известий и не интересуясь ими, я жил в четырех лье от Парижа, столь же отделенный от этой столицы своим равнодушием, как был бы отделен от нее морским пространством, живя на острове Тиньяне{367}367
Остров Тиньян – остров в Тихом океане, к северо-востоку от Новой Гвинеи.
[Закрыть].
Гримм, Дидро, Гольбах, наоборот, находясь в центре круговорота, жили, вращаясь в самом высшем свете, и делили между собой едва ли не все его сферы. Сговорившись, они могли заставить слушать их всюду: среди вельмож, остроумцев, литераторов, судейских чинов и женщин. Ясно, какое это давало преимущество трем тесно сплотившимся лицам против четвертого, находившегося в том положении, в каком оказался я. Правда, Дидро и Гольбах были не из тех (по крайней мере я так думаю), кто способен плести черные интриги: у одного на это не хватило бы злости[48]48
С тех пор как была написана эта книга, все, что мне удалось различить в окружающей меня тайне, вызывает во мне опасение, что я не знал Дидро. (Прим. Руссо.)
[Закрыть], а у другого – ловкости; но именно благодаря этому союз их был прочнее. Гримм один составлял у себя в голове план и сообщал из него остальным только то, что могло привлечь их к соучастию. Он имел на них такое влияние, что легко этого добивался, а результаты соответствовали его великой изобретательности.
Эта великая изобретательность подсказала ему, какое преимущество представляет его позиция по сравнению с моей; поэтому он замыслил, не компрометируя себя, испортить мою репутацию и создать мне совершенно противоположную, окружая меня при этом глухой стеной, которую мне невозможно было пробить, чтобы бросить свет на его происки и сорвать с него маску.
Такое предприятие было нелегким, поскольку надо было скрыть всю его мерзость от глаз тех, кто должен был принять в нем участие. Надо было обмануть порядочных людей; надо было отстранить от меня всех, не оставив мне ни одного друга – ни малого, ни великого. Да что я говорю! Надо было устроить так, чтобы ни одного слова правды не дошло до меня. Если бы хоть один великодушный человек пришел и сказал мне: «Вы разыгрываете добродетельного, а между тем вот что говорят про вас и вот на основании чего о вас судят. Что вы на это скажете?», правда восторжествовала бы, и Гримм был бы уничтожен. Он это знал; но он изучил самого себя и мерил людей по своей мерке. Мне обидно за честь человечества, что расчет его был так верен. Он вел свой подкоп во мраке и поневоле должен был продвигаться к своей цели медленно. Вот уж двенадцать лет, как он следует своему замыслу, а самое трудное еще не сделано: надо еще обмануть все общество. Еще есть глаза, следящие за ним пристальней, чем он думает. Он этого опасается и еще не смеет выставить свои козни на свет божий[49]49
С тех пор как это было написано, он совершил этот шаг с самым полным и непостижимым успехом. Мне кажется, это Троншен сообщил ему необходимое мужество и средства. (Прим. Руссо.)
[Закрыть]. Но он открыл нетрудный способ вовлечь в них власть, и эта власть вершит мою судьбу. Имея эту опору, он подвигается вперед с меньшим риском. Так как приспешники власти не испытывают особого стремления к правому пути и еще меньше к откровенности, ему уже больше не приходится опасаться вмешательства кого-либо из порядочных людей; прежде всего нужно, чтоб я был окружен непроницаемым мраком и чтобы его козни были постоянно скрыты от меня, ибо он знает, что, с каким бы искусством он ни ткал их, они никогда не выдержат моего взгляда. Великая ловкость этого клеветника заключается в том, что он как бы щадит меня и придает своему вероломству видимость великодушия.
Я уловил первые последствия этой системы по глухим обвинениям со стороны гольбаховской клики, хотя и не мог ни понять, ни даже догадаться, в чем эти обвинения заключаются. Делейр сообщал мне в своих письмах, что мне приписывают какие-то злодейства; то же самое, но более таинственно, говорил мне Дидро. Но когда я вступал с тем и другим в объяснения, все сводилось к вышеперечисленным пунктам. Я чувствовал постепенное охлаждение в письмах г-жи д’Удето. Я не мог приписывать это Сен-Ламберу, – он продолжал мне писать все так же дружески и даже навестил меня после своего возвращения. Не мог я приписать причину этого и себе, потому что мы расстались с нею очень дружелюбно. И с того времени только мой отъезд из Эрмитажа мог быть ей неприятен, но она сама поняла его необходимость. И вот, не зная, чему приписать это охлаждение, в котором она не признавалась, но которое было слишком заметно моему сердцу, я стал опасаться всего. Я знал, что она очень считается со своей невесткой и Гриммом, из-за их отношений с Сен-Ламбером; я боялся их интриг. Из-за этих волнений опять открылись мои раны, и мои письма стали такими бурными, что она прекратила со мной переписку.
Мне мерещились тысячи ужасов, но что происходило в действительности, я не мог разобрать отчетливо. Такое положение невыносимо для человека с воображением, легко воспламеняющимся. Если бы я жил в совершенном уединении, если б не знал ничего, я был бы спокойнее; но сердце мое еще хранило привязанности, дававшие моим врагам тысячу преимуществ передо мною, и пробивавшиеся в мое убежище слабые лучи позволяли мне лучше различать глубину скрываемых от меня тайн.
Я, несомненно, изнемог бы от этой муки, слишком жестокой, слишком невыносимой для моего открытого и прямого характера, ибо я не умею скрывать свои чувства и страшусь тех, которые скрыты от меня; но, по счастью, представилось нечто интересное для моего сердца, отвлекшее меня от того, чем я был поглощен против воли, и это подействовало на меня благотворно. Навестив меня последний раз в Эрмитаже, Дидро говорил мне о статье «Женева», которую д’Аламбер написал для «Энциклопедии»;{368}368
…о статье «Женева», которую д’Аламбер написал для «Энциклопедии». – В этой статье, помещенной в VII томе «Энциклопедии», д’Аламбер выступил защитником театра как полезного учреждения, решительно осуждая запрет, которому подвергался этот вид искусства в Женеве со стороны господствовавшей там кальвинистской (протестантской) церкви, и выдвигая проект создания в Женеве театра. Статья была вдохновлена Вольтером. Руссо, напротив, дорожил удаленностью родного города от того, что он считал развращающим влиянием цивилизации.
[Закрыть] он сообщил мне, что эта статья, согласованная с некоторыми женевцами из высшего круга, имела целью учреждение в Женеве театра, что меры приняты и театр не замедлит открыться. Так как Дидро, по-видимому, находил, что это очень хорошо, и не сомневался в успехе, и так как у меня с ним было слишком много других спорных вопросов, помимо этой статьи, я ничего не сказал ему; но, возмущенный всей этой затеей, имеющей целью занести соблазн на мою родину, я с нетерпением ждал тома «Энциклопедии» с этой статьей, чтобы решить, не будет ли возможности выступить с каким-нибудь возраженьем, которое отразило бы жестокий удар. Я получил этот том после того, как поселился в Мон-Луи, и нашел, что статья написана очень ловко, искусно и достойна ее автора. Это, однако, не заставило меня отказаться от намерения ответить на нее. Несмотря на угнетенное состояние, несмотря на свои жестокие огорченья, на суровое время года и неудобства моего нового жилища, где я еще не успел устроиться, я принялся за работу с усердием, все преодолевшим.
Довольно суровой зимой, в феврале месяце, находясь в состоянии, описанном выше, я каждый день отправлялся на два часа по утрам и на столько же после обеда в открытую башню, стоявшую на краю сада, в котором находился мой домик. Башня эта, возвышавшаяся в конце проведенной по насыпи аллеи, выходила на долину и пруд в Монморанси, и с нее можно было видеть на горизонте простой, но внушительный замок Сен-Грасьен, убежище добродетельного Катина{369}369
Катина (1637–1712) – маршал Франции, один из наиболее выдающихся полководцев Людовика XIV; был любим солдатами; оставил «Мемуары».
[Закрыть]. В этом помещении, в то время обледенелом, не защищенном от ветра и снега, я работал, не согреваемый никаким огнем, кроме огня своего собственного сердца, и в течение трех недель составил свое «Письмо к д’Аламберу о зрелищах»{370}370
«Письмо к д’Аламберу о зрелищах». – Речь идет о знаменитом письме Руссо к д’Аламберу, появившемся в 1758 г. в ответ на упомянутую выше статью д’Аламбера «Женева» в «Энциклопедии».
[Закрыть]. Это было – поскольку «Юлия» была готова только наполовину – первое из моих произведений, работая над которым я испытывал удовольствие. До тех пор возмущенная добродетель заменяла мне Аполлона; на этот раз его заменили душевная нежность и кротость. Несправедливости, которых я был лишь свидетелем, приводили меня в гнев; те, которых я стал жертвой, опечалили меня; но моя печаль, лишенная желчи, была печалью сердца, слишком любящего, слишком нежного, обманувшегося в тех, кому оно приписывало свой собственный склад, и вынужденного замкнуться в самом себе. Переполненное всем, что со мной только что произошло, еще встревоженное столькими потрясениями, сердце мое смешивало свои страдания с мыслями, которые рождались во мне при обдумывании моей темы, и это сказалось в моем сочиненье. Сам того не замечая, я описал в нем свое тогдашнее положение; я обрисовал Гримма, г-жу д’Эпине, г-жу д’Удето, Сен-Ламбера, самого себя. Сколько восхитительных слез пролил я за этой работой! Увы, в ней слишком чувствуется, что любовь, роковая любовь, от которой я старался излечиться, не покинула моего сердца. Ко всему этому примешивалась какая-то жалость к себе: я чувствовал себя умирающим и обращался к людям с последним прости. Далекий от страха смерти, я смотрел на ее приближение с радостью; но мне было жаль покинуть ближних, прежде чем они узнают, чего я стою, прежде чем поймут, как любили бы они меня, если б лучше меня знали. Вот тайные причины особого тона, которым это сочинение так резко отличается от предыдущего.
Я исправил «Письмо к д’Аламберу», переписал его начисто и уже собирался отдать в печать, как вдруг, после долгого молчания, получил письмо от г-жи д’Удето, повергшее меня в новую печаль, самую сильную из всех, какие мне до тех пор доводилось испытывать. В этом письме (связка Б, № 34) она сообщала мне, что моя страсть к ней известна всему Парижу; что я говорил о своем чувстве людям, предавшим его огласке; что слухи о нем, дойдя до ее любовника, чуть не стоили ей жизни; что, наконец, он оценил ее поведение по справедливости и мир между ними восстановлен, но что она обязана ради него, так же как ради себя самой и своей репутации, порвать со мной всякие отношения; впрочем, она уверяла меня, что оба они никогда не перестанут интересоваться мной, будут защищать меня в обществе, а она будет время от времени справляться обо мне.
«И ты, Дидро! – воскликнул я. – Недостойный друг!..» Однако я все еще не мог решиться осудить его. Ведь моя слабость была известна и другим людям, и они могли рассказать о ней. Я хотел сомневаться… но вскоре это уже стало невозможным. Некоторое время спустя Сен-Ламбер совершил поступок, достойный его великодушия. Достаточно зная меня, он представлял себе, в каком состоянии я должен был находиться, когда одни из друзей меня предали, а другие покинули. Он навестил меня. В первый раз у него было мало времени. Он приехал второй раз. К сожалению, я не ждал его и меня не было дома. Он застал Терезу, и их беседа продолжалась более двух часов. Они сообщили друг другу немало фактов, которые было очень важно знать и ему, и мне. Через него я с изумлением узнал, что в свете все уверены, будто г-жа д’Эпине жила со мной, как она живет теперь с Гриммом, и Сен-Ламбер изумился в свою очередь, узнав, насколько этот слух ложен. К великому неудовольствию этой дамы, Сен-Ламбер был на моей стороне; и все разъяснения, полученные мной в результате этой беседы, окончательно уничтожили во мне всякое сожаление о том, что я бесповоротно порвал с ней. Относительно г-жи д’Удето он сообщил Терезе несколько подробностей, неизвестных ни ей, ни даже самой г-же д’Удето; знал их только я и доверил одному Дидро на правах дружбы; и для того чтобы поведать о них, он выбрал как раз Сен-Ламбера. Это последнее обстоятельство заставило меня окончательно решиться и порвать с Дидро; но я долго обдумывал, как это осуществить, – я заметил, что тайные разрывы оказывались невыгодными для меня, поскольку позволяли самым жестоким моим врагам по-прежнему носить маску дружбы.
Правила приличия, установленные на этот счет в свете, словно продиктованы духом лжи и предательства. Казаться другом человека, когда вы перестали им быть, – значит, оставлять за собой возможность вредить ему, обманывая честных людей. Я вспомнил, как знаменитый Монтескье, поссорившись с отцом де Турнемином{371}371
Турнемин– французский иезуит, один из сотрудников реакционного иезуитского органа «Журналь де Треву», который вел ожесточенную борьбу с энциклопедистами.
[Закрыть], стал во всеуслышание объявлять об этом, говоря всем и каждому: «Не слушайте ни отца Турнемина, ни меня, когда мы говорим друг о друге, потому что мы перестали быть друзьями». Этот образ действий встретил живое одобрение; все хвалили его прямоту и великодушие. Я решил в отношении Дидро последовать этому примеру. Но как из моего уединения объявить о разрыве достоверным образом и не вызвать скандала? Я решил вставить в свое сочиненье, в виде примечания, отрывок из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова»{372}372
Я решил вставишь в свое сочинены в виде примечания отрывок из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова». – В «Письме к д’Аламберу», касаясь своего конфликта с Дидро, Руссо писал: «У меня был Аристарх, строгий и справедливый. У меня его больше нет, и я не хочу другого. Но я буду всегда сожалеть о нем, и сердцу моему его не хватает еще больше, чем моим сочинениям». В подстрочном примечании к этому месту дана выписка из Библии, кончающаяся следующими словами: «…поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга».
[Закрыть], полагая, что тогда этот разрыв и даже повод к нему станут совершенно ясными для посвященных, а остальные ничего не будут знать; а главное – я старался упоминать о друге, от которого отказывался, с уважением, подобающим даже угасшей дружбе. Все это можно видеть в самом сочинении.
В этом мире не знаешь, где найдешь, где потеряешь; и, видно, всякий честный поступок становится преступлением, если враждебна судьба. Тот самый шаг, которым восхищались в Монтескье, на меня навлек только порицания и упреки. Как только сочиненье мое было напечатано и я получил его экземпляры, я послал один из них Сен-Ламберу, который накануне написал мне от имени г-жи д’Удето и своего самую дружескую записку (связка Б, № 37). А вот что он написал мне, отсылая обратно экземпляр моей книги (связка В, № 38):
Обои, 10 октября 1758 г.
«Право, сударь, я не могу принять вашего подарка. Когда я прочел строки, где, упоминая о Дидро, вы цитируете отрывок из «Экклезиаста» (он ошибается: это из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова»), книга выпала у меня из рук. После наших разговоров этим летом вы, казалось мне, убедились в том, что Дидро неповинен в нескромности, которую вы ему приписываете. Может быть, он в чем-нибудь и виноват перед вами, – мне это неизвестно. Но я полагаю, что это не дает вам права наносить ему публичное оскорбление. Вы знаете, каким преследованиям он подвергается, и вы присоединили голос прежнего друга к крикам завистников. Не могу скрыть от вас, сударь, насколько этот чудовищный поступок возмущает меня. Я не связан дружбой с Дидро, но я почитаю его и глубоко чувствую, какое огорчение вы причиняете человеку, которого – по крайней мере при мне – вы никогда не упрекали ни в чем, кроме некоторой слабости характера. Сударь, мы слишком расходимся в принципах, чтобы когда-нибудь договориться. Забудьте о моем существовании; наверное, это вам будет нетрудно. Я никогда не делал людям ни большого добра, ни большого зла, о которых помнят долго. Со своей стороны обещаю вам, сударь, забыть вашу личность и помнить только ваш талант».
Это письмо столько же истерзало, сколько возмутило меня; чрезмерность огорченья наконец вернула мне гордость, и я ответил ему следующей запиской:
Монморанси, 11 октября 1758 г.
«Сударь, читая ваше письмо, я оказал вам честь, удивившись ему, и имел глупость испытать из-за него волненье; но я нашел, что оно недостойно ответа.
Я больше не хочу переписывать по заказам г-жи д’Удето. Если она не имеет намерения оставить у себя то, что находится у нее, то может прислать мне обратно; я верну ей деньги. Если она оставит рукописи у себя, – пусть все-таки пришлет за оставшейся бумагой и деньгами. Прошу ее одновременно вернуть мне проспект, который у нее хранится. Прощайте, сударь».
Мужество в несчастье бесит низкие сердца, но нравится сердцам великодушным. По-видимому, записка эта заставила Сен-Ламбера одуматься, и он пожалел о том, что сделал; но, в свою очередь слишком гордый, чтобы сознаться в этом открыто, он ухватился за возможность смягчить нанесенный им удар, а может быть, сам эту возможность и подготовил. Через две недели я получил следующее письмо от г-на д’Эпине (связка Б, № 10):
Четверг, 26-го
«Я получил книгу, сударь, которую вы были так добры прислать мне, и читаю ее с величайшим удовольствием. Я всегда испытывал удовольствие при чтении всех сочинений, вышедших из-под вашего пера. Примите за это мою искреннюю благодарность. Я приехал бы выразить ее вам лично, если бы дела мои позволили мне побыть некоторое время в ваших краях; но нынешний год я провел очень мало времени в Шевретте. Господин и госпожа Дюпен просят меня устроить там обед в ближайшее воскресенье. Я рассчитываю, что приедут также гг. де Сен-Ламбер, де Франкей и г-жа д’Удето. Вы доставили бы мне большое удовольствие, сударь, если б захотели присоединиться к нам. Все мои гости желают вас видеть и будут счастливы разделить со мной удовольствие провести с вами часть дня. Имею честь быть с совершенным уважением и т. д.»
Это письмо заставило сильно биться мое сердце. Пробыв целый год притчей Парижа, я дрожал при мысли о том, чтобы выставить себя напоказ в присутствии г-жи д’Удето, и едва находил в себе мужество подвергнуться такому испытанию. Однако раз она и Сен-Ламбер этого хотят, раз д’Эпине говорит от имени всех приглашенных и не называет среди них ни одного, кого я не был бы рад видеть, я решил, что в конце концов ничем себя не скомпрометирую, если поеду туда, куда меня приглашают как бы все присутствующие. Итак, я обещал быть. В воскресенье была дурная погода. Г-н д’Эпине прислал за мной свою коляску, и я отправился.
Мое появление произвело сенсацию. Меня никогда не встречали так ласково. Казалось, вся компания хорошо понимает, как я нуждаюсь в ободрении. Одни только французские сердца способны на такую деликатность. Между тем я застал там больше гостей, чем ожидал; среди прочих – графа д’Удето, которого я совсем не знал, и его сестру г-жу де Бланвиль, об отсутствии которой не пожалел бы. За год до этого она несколько раз приезжала в Обон, и ее невестка во время своих прогулок со мною нередко подолгу заставляла ее скучать в ожидании нашего возвращения. Она питала ко мне враждебное чувство и за этим обедом потешила его вдоволь. Как нетрудно догадаться, присутствие графа д’Удето и Сен-Ламбера ставило меня в смешное положение, и я, смущавшийся при самой обыкновенной беседе, на этот раз был не слишком блестящ. Никогда я так не страдал, никогда не имел такого жалкого вида, никогда не получал таких неожиданных уколов. Наконец, когда все встали из-за стола, я отошел от этой мегеры; тут я с удовольствием увидел, что Сен-Ламбер и г-жа д’Удето подходят ко мне, и после обеда мы довольно долго беседовали втроем – по правде говоря, о предметах безразличных, но с той же непринужденностью, как до моего проступка. Такое внимание не прошло бесследно для моего сердца, и если бы Сен-Ламбер мог читать в нем, он, конечно, остался бы мною доволен. Могу поклясться, что хотя, приехав в Шевретту, я при виде г-жи д’Удето чуть не лишился чувств от сердцебиения, – возвращаясь, я почти не думал о ней: я был занят одним Сен-Ламбером.
Несмотря на язвительные сарказмы г-жи де Бланвиль, обед этот оказал на меня благотворное действие, и я был очень доволен, что согласился быть на нем. Я убедился, что интриги Гримма и Гольбаха не оторвали от меня моих прежних знакомых[50]50
Вот чему в простоте своего сердца я верил, еще когда писал «Исповедь». (Прим. Руссо.)
[Закрыть], и еще приятнее было мне видеть, что чувства ко мне г-жи д’Удето и Сен-Ламбера изменились меньше, чем я думал; и, наконец, я понял, что если он держит ее в отдалении от меня, то причина этому – больше ревность, чем дурное мнение обо мне. Это утешило и успокоило меня. Уверенный в том, что не вызываю презренья у тех, кого уважаю, я с тем большим мужеством и успехом мог бороться с собственным сердцем. Если мне не удалось окончательно потушить в нем преступную и несчастную страсть, я по крайней мере держал ее в таких границах, что с тех пор не совершил ни одной ошибки. Переписка по заказам г-жи д’Удето, которую она предложила мне возобновить, мои сочинения, которые я продолжал посылать ей по мере их выхода, – все это еще вызывало с ее стороны время от времени кое-какие послания и записки, незначительные, но любезные. Она даже сделала больше, как будет видно. Поведение нас троих в отношении друг друга, после того как дружба прекратилась, может служить образцом того, как расстаются порядочные люди, когда им больше не следует видеться.
Обед этот имел для меня и другие выгодные последствия: о нем заговорили в Париже, и он послужил окончательным опроверженьем слухам, повсюду распространявшимся моими недругами, будто я нахожусь в смертельной вражде со всеми, кто на нем присутствовал, а в особенности с г-ном д’Эпине. Уезжая из Эрмитажа, я очень учтиво благодарил его в письме, он мне ответил не менее учтиво; и свидетельства взаимного вниманья не прекратились ни в отношениях с ним, ни в отношениях с его братом г-ном де Лаливом, который даже приехал ко мне в Монморанси и прислал мне свои гравюры. Кроме обеих невесток г-жи д’Удето, у меня ни с кем из ее родных никогда не было никаких неприятностей.
«Письмо к д’Аламберу» имело большой успех. Так было со всеми моими сочиненьями, но на этот раз успех был связан с более благоприятными для меня последствиями: с тех пор измышления гольбаховской клики уже вызывали недоверие. Когда я уехал в Эрмитаж, эти господа со свойственным им самомнением предсказывали, что я не выдержу там и трех месяцев. Увидев, что я выдержал двадцать месяцев и, вынужденный уехать из Эрмитажа, все-таки поселился в деревне, они стали утверждать, что я это сделал, только чтоб настоять на своем, и что я до смерти скучаю в этом убежище, но, снедаемый гордыней, предпочитаю пасть там жертвой собственного упрямства, чем отказаться от него и вернуться в Париж. «Письмо к д’Аламберу» было проникнуто душевной кротостью, неподдельность которой чувствовалась. Если б в моем убежище меня грызла печаль, мой тон выдал бы это. Ведь эта печаль сквозила во всех моих произведениях, написанных в Париже, но ее не было в первом же написанном мною в деревне. Для всех умеющих наблюдать – это было решающим. Все убедились, что я вернулся в свою стихию.
Между тем это же самое сочинение, как ни было оно полно кротости, доставило мне из-за моей неловкости и постоянно преследующих меня неудач нового врага среди литераторов. Еще раньше я познакомился у г-на де Поплиньера с Мармонтелем{373}373
Мармонтель (1723–1799) – французский писатель-энциклопедист.
[Закрыть], и знакомство это продолжалось у барона. Мармонтель редактировал «Меркюр де Франс». Из чувства гордости я не посылал своих сочинений редакторам периодических изданий, а в то же время мне хотелось послать Мармонтелю эту статью, но так, чтобы он не подумал, будто она послана ему, как редактору журнала, для отзыва о ней в «Меркюр»; поэтому я написал на предназначавшемся для него экземпляре, что дарю его не редактору журнала «Меркюр», а г-ну Мармонтелю. Я считал, что делаю ему очень лестный комплимент, а он счел это жестоким оскорбленьем и стал моим непримиримым врагом. Он выступил в «Меркюр» против моего «Письма» вежливо, но с желчью, которую нетрудно было заметить, и с тех пор не упускал случая повредить мне в обществе и в скрытой форме поносил меня в своих сочинениях. Как трудно не задеть чрезвычайно чувствительное самолюбие литераторов и какие надо принимать предосторожности, чтобы не оставить даже в комплиментах, которые им делаешь, ничего такого, что может хотя бы самым отдаленным образом давать повод к неправильному толкованию!
Успокоившись во всех отношениях, я воспользовался достигнутым мною досугом и независимостью, чтобы с большим упорством снова приняться за свои труды. В ту зиму я кончил «Юлию» и послал ее Рею, который в следующем году напечатал ее. Однако эта работа была еще раз прервана – меня отвлекли мелкие, но довольно неприятные события. Я узнал, что в Опере готовится новая постановка «Деревенского колдуна». Возмущенный наглым обращением этих людей с моей собственностью, я отыскал докладную записку, в свое время посланную мною г-ну д’Аржансону{374}374
Д’Аржансон. – См. прим.
[Закрыть], но оставшуюся без ответа, и, подправив ее, отдал резиденту Женевы г-ну Селону вместе с письмом, которое он согласился передать графу де Сен-Флорантену{375}375
Граф de Сен-Флорантен – один из наиболее реакционных министров при Людовике XV.
[Закрыть], сменившему д’Аржансона в управлении Оперой. Де Сен-Флорантен обещал дать ответ – и не дал никакого. Дюкло, которому я написал о моем протесте, поговорил с «маленькими скрипачами», и те согласились вернуть мне – не мою оперу, а право бесплатного входа, которым я уже не мог пользоваться. Видя, что нигде справедливости не добьешься, я отступился. Дирекция Оперы, не отвечая на мои доводы и даже не слушая их, продолжала распоряжаться «Деревенским колдуном», словно своей собственностью, и извлекать из него прибыль, несмотря на то что он совершенно бесспорно принадлежит мне одному[51]51
Теперь он принадлежит ей по новому договору, который она заключила со мной совсем недавно. (Прим. Руссо.)
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































