Текст книги "Исповедь"
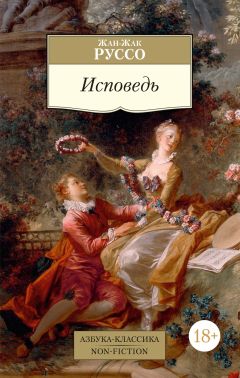
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 51 страниц)
Хотя эта неудача и охладила меня к моим музыкальным планам, я все-таки не перестал изучать своего Рамо и с большим трудом добился наконец того, что начал понимать его и сочинять небольшие пьески, успех которых ободрил меня.
Граф Бельгард, сын маркиза д’Антремона, возвратился из Дрездена после смерти короля Августа. Он долго жил в Париже, страстно любил музыку и был влюблен в произведения Рамо. Брат его, граф Нанжи, играл на скрипке; графиня де ла Тур, их сестра, немного пела. Это обстоятельство способствовало тому, что в Шамбери музыка вошла в моду; стали устраивать нечто вроде публичных концертов; дирижированье сперва хотели передать мне; но потом, заметив, что мне это не под силу, устроили иначе.
Я все время писал для этих концертов пьески своего сочинения и, между прочим, написал кантату, которая всем очень понравилась. Пьеса получилась не особенно высокого качества, однако она изобиловала новыми мотивами и эффектными местами, чего от меня не ожидали. Эти господа не могли поверить, что я, так плохо читая ноты, могу сочинять сносно, и решили, что я пользуюсь чужим трудом. Желая проверить это, Нанжи пришел ко мне однажды утром с кантатой Клерамбо, которую он, по его словам, транспонировал, чтобы удобней было петь, и для нее необходимо было написать новую басовую партию аккомпанемента, поскольку в результате транспозиции аккомпанемент Клерамбо стал неисполним. Я ответил, что работа эта серьезная и ее нельзя исполнить тотчас. Он подумал, что я хочу отделаться, и стал уговаривать меня, чтобы я написал хотя бы аккомпанемент для речитатива. Я написал, конечно, плохо, потому что для любой работы, чтобы сделать ее хорошо, мне нужны спокойствие и свобода; но я написал, во всяком случае, по правилам, и, так как это было в его присутствии, он не мог сомневаться, что элементарные основы композиции мне знакомы. Таким образом, я не потерял учениц, но немного охладел к музыке, видя, что при устройстве концертов обходятся без меня.
Приблизительно тогда же, после заключения мира, французская армия совершила обратный переход через горы. Многие офицеры пришли навестить маменьку, и среди них граф де Лотрек, полковник Орлеанского полка, впоследствии полномочный посланник в Женеве, а в конце концов маршал Франции. Она представила меня; на основании ее рассказов он как будто очень заинтересовался мною и надавал мне кучу обещаний, но вспомнил о них только в последний год своей жизни, когда я уже не нуждался в нем. Молодой маркиз де Сенектер, отец которого был тогда посланником в Турине, тоже проезжал в это время через Шамбери. Он обедал у г-жи де Ментон; я тоже обедал у нее в этот день. После обеда разговор зашел о музыке; маркиз хорошо знал ее. Тогда была новинкой опера «Иевфай»; он заговорил о ней; принесли ноты. Он сильно смутил меня, предложив мне исполнить эту оперу вдвоем; открыв ноты, он попал на знаменитое место в два хора:
Земля, и ад, и даже небо – Трепещет все перед Творцом.
Он спросил меня: «Сколько вы хотите пропеть партий? Я возьму на себя эти шесть». Я еще не привык тогда к французской легкости и хотя напевал иногда с грехом пополам партитуры, но никак не мог взять в толк, как может один человек исполнять одновременно не только шесть партий, но хотя бы две. В музыке самое для меня трудное – это быстро перескакивать с одной партии на другую, в то же время зорко следя за всей партитурой. Так как я постарался отделаться от этого предложения, г-н Сенектер, видимо, подумал, что я в музыке ничего не смыслю. Вероятно, для того чтобы проверить, так ли это, он предложил мне положить на ноты песню, которую он хотел преподнести м-ль Ментон. Я не мог отказаться. Он пропел песню; я записал ее, даже не заставив много раз повторять. Потом он прочитал ее и нашел, что она записана совершенно точно и правильно. Он заметил мое смущение и с удовольствием похвалил меня за этот маленький успех. Дело, однако, было очень просто. В сущности, я очень хорошо знал музыку; мне не хватало только умения схватывать с первого взгляда, которое ни в чем мне не давалось и которое в музыке приобретается только тщательным упражнением. Как бы то ни было, я был тронут благородным старанием графа изгладить из памяти других и из моей собственной впечатление от моей маленькой неудачи. Лет через двенадцать или пятнадцать, встречаясь с ним в разных домах Парижа, я не раз хотел напомнить ему об этом случае и доказать, что храню о нем воспоминанье. Но с тех пор граф лишился зрения, и, боясь огорчить его напоминанием о его прежней зоркости, я молчал.
Я приближаюсь к тому моменту, с которого начинается переход от моей прошлой жизни к теперешней. Некоторые дружеские отношения того времени, сохранившиеся до сих пор, особенно для меня драгоценны. Они часто заставляют меня пожалеть о том периоде счастливой неизвестности, когда люди, называвшие себя моими друзьями, действительно были ими и любили меня ради меня самого, из чистого доброжелательства, а не из тщеславного стремления быть близким к известному человеку или ради тайного желания иметь благодаря этому больше возможности вредить ему. К этому времени относится начало моего знакомства с моим старым другом Гофкуром, которого я сохранил навсегда, несмотря на все усилия отнять его у меня. Сохранил навсегда! Увы, нет. Недавно я потерял его. Но любовь его ко мне прекратилась только вместе с его жизнью. Г-н де Гофкур был одним из самых любезных людей, когда-либо живших на свете. Невозможно было не полюбить его, жить вместе с ним и не привязаться к нему всем сердцем. Никогда не встречал я более открытого, более ласкового лица, выражавшего больше ясности духа, больше чувства и ума и внушавшего больше доверия. Самый сдержанный человек с первого же взгляда не мог побороть в себе желание тесно сблизиться с ним, как будто знал его двадцать лет; и, хотя обычно я крайне смущаюсь в присутствии новых лиц, с ним я в первую же минуту почувствовал себя свободно. Его тон, манера говорить, его речь вполне гармонировали с его лицом. Голос его – отчетливый, звучный, прекрасного тембра бас – чудесный голос чаровал слух и проникал в сердце. Невозможно было обладать веселостью более ровной и мягкой, грацией более естественной и простой, талантами более приятными и развитыми с большим вкусом. Прибавьте к этому не только любящее, но даже слишком любвеобильное сердце, характер услужливый, но недостаточно разборчивый, готовность ревностно служить своим друзьям или, верней, делаться другом тех, кому можно быть полезным, уменье с великим участием заниматься делами других, в то же время весьма искусно устраивая свои собственные. Гофкур был сыном простого часовщика и сначала сам был часовщиком. Но его наружность и достоинства призывали его в иную сферу, куда он не замедлил вступить. Он познакомился с г-ном де ла Клозюром, французским резидентом в Женеве, и подружился с ним. Последний доставил ему другие полезные знакомства в Париже, благодаря которым Гофкур получил подряд на поставку соли из Вале, что принесло ему двадцать тысяч ливров ренты.
В кругу мужчин его удача – довольно большая – этим и ограничилась; зато у женщин он был нарасхват; он имел возможность выбирать и поступал, как ему нравилось. Особенно редким и похвальным его качеством было то, что, имея связи в разных слоях общества, он везде был любим, везде желанен, нигде не вызывал ничьей зависти или ненависти; и я уверен, что до самой своей смерти он не имел ни одного врага. Счастливый человек! Каждый год приезжал он на воды в Экс, где собирается лучшее общество из соседних провинций. Находясь в дружеских отношениях со всем дворянством Савойи, он приезжал из Экс-ле-Бен в Шамбери навестить графа Бельгарда и его отца, маркиза д’Антремона, у которого маменька сама познакомилась с ним и познакомила меня. Это знакомство, казалось, должно было кончиться ничем и на долгое время было прервано, но оно возобновилось в обстановке, о которой я скажу потом, и перешло в настоящую привязанность. Этого довольно, чтобы я был вправе говорить о друге, с которым был так тесно связан; но даже если я не был лично заинтересован в сохранении его памяти, то считал бы нужным для чести человеческого рода увековечить память человека, столь обаятельного и счастливого от рождения. Как будет видно из дальнейшего, этот очаровательный человек, подобно другим, имел свои недостатки; но если б он не имел их, то, может быть, нравился бы менее. Чтобы быть интересным, он должен был иметь нечто такое, что приходилось ему прощать.
Другая связь, возникшая в то же время, не прекратилась и продолжала обольщать меня надеждой на земное счастье, с таким трудом угасающей в человеческом сердце. Г-н де Конзье, савойский дворянин, тогда еще молодой и привлекательный, вздумал учиться музыке или, вернее, познакомиться с тем, кто преподавал ее. Обладая умом и вкусом к изящным искусствам, он имел кроткий характер и потому отличался обходительностью, а я очень ценил в людях это качество. Мы подружились[13]13
Я видел его впоследствии и нашел совершенно изменившимся. Что за великий чародей г-н де Шуазель! Ни один из моих старых знакомых не избежал его колдовства. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть]. Зародыши литературных и философских идей, начинавших уже бродить в моей голове и ждавших для своего полного развития только обработки и соревнования, получили это в общении с г-ном де Конзье. Он не имел особенного влечения к музыке; это было для меня благом: часы занятий проходили в чем угодно, но только не в исполнении сольфеджий. Мы завтракали, болтали, читали разные новинки и – ни слова о музыке. Переписка Вольтера с прусским наследником наделала в то время много шума; мы часто беседовали об этих двух знаменитых людях, из которых один, взойдя на трон незадолго до этого, уже отчасти проявил себя таким, каким должен был сделаться впоследствии, а другой, в то время вызывавший такое же осуждение, как теперь – восторги, заставлял нас искренне сочувствовать несчастьям, которые, казалось, преследовали его и которые так часто являются уделом великих талантов. Прусский монарх был не очень счастлив в молодости, а Вольтер, казалось, был создан для того, чтобы никогда не быть счастливым. Интерес, который мы питали к тому и другому, распространялся на все, что имело отношение к ним. Ничто из того, что писал Вольтер, не ускользало от нас. Мой интерес к его произведениям вызывал во мне желание научиться писать изящно и стараться подражать прекрасному слогу этого автора, который восхищал меня. Немного позже появились его «Философские письма». Они, конечно, не являются лучшим его произведением, но именно они развили во мне любовь к знанию, и эта зародившаяся страсть с тех пор уже не угасала.
Но для меня еще не настало время предаться ей целиком. Я сохранял еще некоторое легкомыслие, жажду скитаний, не исчезнувшую, а лишь уменьшившуюся, так как она находила себе пищу в образе жизни г-жи де Варанс, слишком шумном для моего характера, любившего уединение. Толпа незнакомых лиц, ежедневно стекавшихся к ней со всех сторон, и моя уверенность, что все эти люди ищут только возможности надуть ее, каждый на свой манер, делали мое пребывание в доме настоящим мучением. С тех пор как я наследовал Клоду Анэ в доверии его госпожи и ближе присмотрелся к состоянию ее дел, я увидел ухудшение, испугавшее меня. Сотни раз я укорял, просил, настаивал, умолял – все напрасно. Я бросался к ее ногам, ярко изображал угрожающую ей катастрофу, горячо увещевал ее изменить систему своих расходов, начиная с меня, потерпеть немного, пока она еще молода, не увеличивая количества долгов и кредиторов, чтобы на старости лет не подвергаться преследованиям и не очутиться в нищете. Чувствительная к искренности моего порыва, она умилялась вместе со мной. Она не скупилась на самые прекрасные обещания, но стоило появиться какому-нибудь проходимцу, и в одно мгновение все было забыто. После тысячи доказательств бесполезности моих увещаний – что мне оставалось делать, как не закрыть глаза на бедствие, которое я не мог предотвратить? Я стал удаляться от дома, дверь которого не в силах был охранять, совершая небольшие путешествия в Нион, в Женеву, в Лион; заглушая мое тайное горе, они в то же время увеличивали его причину, ибо вводили меня в расходы. Могу поклясться, что ради экономии с радостью переносил бы всевозможные лишения, если бы маменька действительно извлекала из этого пользу. Но, уверенный, что то, в чем я отказал себе, достается каким-то негодяям, я злоупотреблял ее щедростью, чтобы урвать у них хоть частицу, и, как собака, возвращающаяся с бойни, уносил свой клочок от куска, которого не мог спасти.
У меня не было недостатка в поводах для всех этих путешествий, к тому же маменька предоставляла мне их сама: всюду у нее были связи, дела, переговоры, поручения, которые она могла доверить лишь надежному лицу. Она только того и желала, чтобы послать меня, а я только того и желал, чтобы поехать, – все это неизбежно делало мою жизнь довольно кочевою.
Благодаря этим поездкам я завязал хорошие знакомства, оказавшиеся впоследствии приятными или полезными; между прочим, в Лионе я познакомился с г-ном Перришоном и упрекаю себя, что не поддержал этого знакомства, так как он был очень добр ко мне; с добряком Паризо – о нем я скажу в свое время; в Гренобле – с г-жой Дейбан и женой президента Бардонанша, очень умной женщиной, с которой мы могли бы подружиться, если бы мне пришлось чаще видеться с ней; в Женеве – с г-ном де ла Клозюром, французским резидентом, часто рассказывавшим мне о моей матери, с которой, несмотря на то что ее давно уже не было в живых, сердце его не могло расстаться; с обоими Барильо, один из которых, отец, называвший меня своим внуком, принадлежал к очень милому обществу и был одним из самых достойных людей, каких я когда-либо знал. В смутные времена Республики эти два гражданина бросились в ряды двух враждебных партий: сын примкнул к буржуазии, отец стал на сторону правительства, и когда в 1737 году дело дошло до оружия, я видел, находясь тогда в Женеве, как отец и сын вышли вооруженными из одного и того же дома: один – чтобы отправиться в городскую ратушу, другой – чтобы остаться в своем квартале, – будучи уверены, что часа через два они встретятся лицом к лицу, быть может для того, чтобы уничтожить друг друга. Это ужасное зрелище произвело на меня такое сильное впечатление, что я поклялся никогда не вмешиваться ни в какую гражданскую войну и никогда не поддерживать внутреннюю свободу ни силой оружия, ни путем личного участия, ни путем одобрения, если когда-либо снова получу свои гражданские права. Должен отдать себе справедливость, что в одном щекотливом случае я выполнил свою клятву, и эта умеренность, думается мне, будет оценена по достоинству.
Но тогда, еще далекий от этой мысли, я был охвачен первым порывом патриотизма, какой возбудила во мне восставшая с оружием в руках Женева. О том, как эта мысль была мне чужда, можно судить по одному очень важному факту; я забыл рассказать о нем в свое время, но его нельзя опустить.
За несколько лет до того мой дядя Бернар уехал в Каролину, руководить там постройкой города Чарльстоуна, по плану, составленному им самим. Вскоре он там умер. Мой бедный кузен тоже умер – на службе у прусского короля, и моя тетка потеряла почти одновременно мужа и сына. Эти потери немного подогрели ее чувство ко мне – единственному из оставшихся у нее родственников. Во время моих поездок в Женеву я жил в ее доме и для развлечения просматривал книги и бумаги покойного дядюшки. Я нашел много интересных сочинений и писем, о которых, конечно, никто не подозревал. Тетка моя, придававшая мало значения этому бумажному хламу, разрешила бы мне взять с собой все, если б я захотел. Я удовлетворился двумя-тремя книгами с пометками моего деда – священника Бернара; среди них оказались «Посмертные произведения» Рого, in-quarto, с превосходными заметками на полях, заставившими меня полюбить математику. Эта книга осталась у г-жи де Варанс среди ее собственных, и я очень жалею, что не сохранил ее. К отобранным книгам я добавил пять или шесть рукописных докладов и один напечатанный, принадлежавший известному Мишели́ Дюкре, человеку с большим талантом, ученому выдающемуся, но слишком беспокойному, с которым женевское правительство очень жестоко расправилось. Он умер в крепости Арберг, где долгие годы находился в заключении, как говорят, за участие в Бернском заговоре.
Доклад этот представлял собой довольно обоснованную критику большого и нелепого плана укрепления Женевы, частично уже выполненного на посмешище знатоков, не понимавших, какую цель преследовал Совет двухсот при выполнении этого великолепного предприятия. Г-н Мишели, исключенный из комитета по постройке укреплений за то, что порицал этот план, думал, что он как член Совета двухсот и даже просто как гражданин имеет право высказать свое мнение более подробно; он сделал это в своем докладе и имел неосторожность его напечатать, хотя и не выпустил в свет: отпечатано было небольшое количество экземпляров, только для членов Совета двухсот, да и те по распоряжению Малого совета были задержаны на почте. Я нашел этот доклад среди бумаг моего дяди вместе с ответом, который ему поручено было составить, и захватил с собой то и другое. Эту поездку я совершил вскоре после своего ухода из налогового управления, когда еще поддерживал отношения с моим начальником, адвокатом Кокчелли. Через некоторое время директор таможни вздумал просить меня быть крестным отцом его ребенка, а моей кумой сделал г-жу Кокчелли. У меня голова закружилась от этой чести; гордый сближением с г-ном адвокатом, я решил придать себе важности и показать, что достоин такого почета.
Задавшись этой целью, я не нашел ничего лучшего, как показать ему доклад, напечатанный Мишели и являвшийся действительно редким документом, – этим я хотел доказать, что принадлежу к женевской знати, осведомленной в государственных тайнах. Однако из какой-то осторожности, смысл которой я затруднился бы объяснить, я не показал ему ответа моего дяди на доклад, – может быть, потому, что этот ответ был в рукописи, а г-ну адвокату подобало подносить только произведения печатного станка. Однако он так хорошо понял всю ценность бумаги, которую я имел глупость ему доверить, что я уже не получил ее обратно и даже никогда больше не видел, и, убедившись в тщетности своих усилий, решил обратить свой промах в заслугу и считать это подарком. Ни минуты не сомневаюсь, что он сумел объяснить туринскому двору значение этого документа, впрочем более любопытного, чем полезного, и приложил все усилия к тому, чтобы тем или иным способом получить деньги, которые должен был бы за него заплатить, если б достал его путем покупки. К счастью, из всех возможных случайностей наименее вероятна та, чтобы король Сардинии решил когда-либо повести осаду Женевы. Но так как считать ее исключенной все же нельзя, я всегда буду упрекать себя за свое глупое тщеславие, из-за которого наиболее уязвимые места города стали известны его давнишнему врагу.
Так провел я два или три года в занятиях музыкой, в преподавании, в путешествиях и проектах, беспрестанно бросаясь от одного дела к другому, стараясь на чем-нибудь остановиться, но не зная на чем; однако мало-помалу чувствовал все более сильное влечение к знанию, встречаясь с писателями, слушая разговоры о литературе, вмешиваясь в них иногда, усваивая из книг больше их фразеологию, чем содержание. Во время посещений Женевы я иногда встречался со своим добрым старым другом Симоном, который разжигал зарождавшееся во мне влечение свежими новинками литературного мира, взятыми у Байе или Коломье.
Часто также виделся я в Шамбери с одним якобинцем, учителем физики, добряком-монахом, имя которого я позабыл; он производил маленькие опыты, очень меня забавлявшие. По его примеру, я захотел сделать симпатические чернила. Для этого я наполнил бутылку более чем до половины негашеной известью, сернистым мышьяком и водою и хорошенько ее закупорил. Кипение началось почти мгновенно и со страшной силой. Я бросился к бутылке, чтобы откупорить ее, но опоздал: она взорвалась, как бомба, прямо мне в лицо. Я наглотался извести и сернистого мышьяка и чуть не умер. Более шести недель я был слепым и таким путем научился не браться за опыты по физике, не зная ее начал.
Это приключение сильно повредило моему здоровью – оно с некоторого времени значительно ухудшилось. Не знаю, как это случилось, но, будучи крепкого сложения и не предаваясь никаким излишествам, я стал заметно чахнуть. Плечи и грудь у меня довольно широкие, и легкие должны были бы дышать свободно, а между тем я страдал одышкой, мне не хватало воздуха, я невольно вздыхал, испытывал сердцебиение и харкал кровью; потом прибавилась лихорадка, от которой я никогда уже не мог избавиться. Как можно было впасть в подобное состояние в расцвете сил, не имея никаких внутренних повреждений и не сделав ничего, что могло бы разрушить здоровье?
«Меч портит ножны», – говорит пословица. В этом вся моя беда. Страсти мои поддерживали во мне жизнь, и они же убивали меня. Какие страсти? – спросит кто-нибудь. Сущие пустяки, предметы самые ребяческие, какие только могут быть на свете, но они так захватывали меня, словно дело шло об обладании Еленой или о господстве над вселенной. Прежде всего женщины. С тех пор как я стал обладать одной из них, чувства мои успокоились, но сердце по-прежнему не знало покоя. Потребность любви пожирала меня в самом разгаре наслаждения. У меня была нежная мать, милая подруга, но мне нужна была любовница. Я представлял ее себе на месте г-жи де Варанс, я видоизменял ее на тысячи ладов, чтобы обмануть самого себя. Если бы, держа в объятиях г-жу де Варанс, я думал о том, что держу именно ее, объятия мои были бы не менее страстны, но все мои вожделения погасли бы; я рыдал бы от нежности, но не испытывал бы наслаждения. Наслаждение! Разве оно удел человека? Ах, если бы хоть раз в жизни испытал я всю полноту любовных наслаждений, не думаю, чтобы хрупкое существо мое вынесло это: я умер бы на месте.
Итак, я сгорал от беспредметной любви, а именно такая любовь, может быть, более всего истощает силы. Меня беспокоило и мучило плохое денежное положенье бедной маменьки, а также ее неблагоразумный образ действий, который не мог не привести ее в самом скором времени к полному разорению. Мое жестокое воображенье, всегда опережающее беду, беспрестанно представляло мне картину этого несчастья со всеми крайностями, во всех последствиях. Я заранее представлял себе, как нужда разлучит меня с той, которой я посвятил всю свою жизнь и без которой не мог бы находить в ней радость. Вот отчего душа моя была вечно в тревоге. Желанья и опасения поочередно терзали меня.
Музыка была второй моей страстью, менее пылкой, но не менее пожиравшей меня, благодаря тому пламенному увлечению, с каким я предавался ей, упорно изучая непонятные книги Рамо, с непобедимым упрямством стараясь нагрузить ими свою память, отказывавшуюся служить мне, постоянно бегая по урокам, составляя огромные компиляции и проводя целые ночи за их переписыванием. Но что говорить о постоянных причинах, когда все безумства, бродившие в моей ветреной голове, все мимолетные увлечения дня, путешествие, концерт, ужин, затеваемая прогулка, еще не прочитанный роман, спектакль, который мне предстояло увидеть, – все, что было наименее предусмотренного в моих развлечениях или делах, превращалось у меня в столь же бурные страсти, доставлявшие мне, при всей своей смешной пылкости, настоящее страданье? Вымышленные несчастья Клевеланда, о которых я читал с неистовым волнением, хотя мне часто приходилось откладывать книгу, испортили мне, кажется, больше крови, чем мои собственные бедствия.
Был один женевец по фамилии Багере, служивший в свое время при дворе Петра Великого в России, самый дрянной и самый сумасбродный человек, какого я когда-либо видел, вечно полный проектов, таких же безумных, как и он сам; миллионы у него падали, как дождь, нули для него ничего не значили. Этот человек, приехавший в Шамбери из-за какого-то процесса в сенате, конечно, завладел маменькой, и за свои сокровища из нулей, которые он великодушно расточал, искусно вытягивал ее жалкие экю монета за монетой. Я страшно не любил его; он это видел, – когда имеешь дело со мной, это нетрудно заметить, – и не было такой низости на свете, на которую он не пошел бы, лишь бы меня задобрить. Зная немного игру в шахматы, он предложил научить меня. Я попробовал почти что нехотя и, мало-мальски узнав ходы, стал делать такие большие успехи, что к концу первого сеанса отдал ему вперед туру, которую он уступал мне вначале. Этого было для меня достаточно, чтобы превратиться в раба шахмат. Я покупаю шахматную доску, покупаю Калабрийца, запираюсь у себя в комнате и провожу там дни и ночи, стараясь выучить наизусть все партии, во что бы то ни стало запомнить их, играя один, без отдыха и срока. После двух-трех месяцев этой бешеной работы и невероятных усилий я отправляюсь в кафе, худой, желтый, почти ошалевший. Делаю опыт, снова играю с Багере; он бьет меня раз, два раза, двадцать раз; в голове у меня спуталось столько комбинаций, и воображение мое до такой степени притупилось, что все передо мной было как в тумане, и каждый раз, когда я брался за книгу Филидора или Стаммá и упражнялся в изучении партий, со мной происходило то же самое: изнемогая от страшной усталости, я играл еще слабей, чем раньше.
Впрочем, бросал ли я шахматы или вновь ревностно принимался за них, я никогда не поднимался ни на одну ступень, навсегда оставаясь на том уровне, на каком был в конце первого сеанса. Упражняйся я тысячу лет, я достиг бы только того, чтобы давать Багере туру вперед, – и ничего больше.
Стоило тратить время! – скажете вы. А я потратил его немало таким образом. Этот первый опыт я прекратил только после того, как у меня уже не было сил продолжать. Когда я показывался из своей комнаты, я похож был на выходца из могилы, и, продолжай я подобный образ жизни, мне недолго пришлось бы бродить по земле. Читатели согласятся, что с такой головой, да еще в молодости, очень трудно сохранить здоровье.
Ухудшение здоровья подействовало на расположение духа и умерило пылкость моих фантазий. Ослабев, я стал спокойнее, и моя страсть к путешествиям несколько остыла. Сделавшись более усидчивым, я изведал не только скуку, но и меланхолию; страсти сменились ипохондрией; томление мое перешло в печаль; я плакал и вздыхал по пустякам; я чувствовал, что жизнь уходит, а я даже не насладился ею; я сокрушался о том, что оставляю мою бедную маменьку в состоянии, близком к разорению: могу сказать, что я скорбел единственно о том, что покидаю ее, да еще в таком плачевном положении. Наконец я совсем расхворался. Она ухаживала за мной, как ни одна мать не ухаживает за своим ребенком. Это ей самой принесло некоторую пользу, так как отвлекало от всяких проектов и отдаляло от прожектеров. Как сладостна была бы смерть, если бы она пришла ко мне тогда! Я мало насладился благами жизни, зато испытал и мало ее бедствий. Умиротворенная душа моя могла бы отлететь без тягостного сознания людской несправедливости, отравляющего и жизнь и смерть. У меня было утешение, что я переживу самого себя в лучшей части своего существа, а это почти то же, что не умирать вовсе. Если бы я не тревожился о ее судьбе, я умер бы так же просто, как отошел бы ко сну, но самые тревоги мои были порождены любовью и нежностью, и этим умерялась их горечь. Я говорил ей: «Вы – хранительница всего моего существа; сделайте так, чтобы я был счастлив». Два или три раза, когда мне было особенно плохо, я, поднявшись ночью с постели, с трудом пробирался к ней в комнату, чтобы подать ей советы насчет ее поведения, – советы, смею сказать, правильные и благоразумные, в которых особенно явно выражалось мое участие к ее судьбе. Словно слезы были моей пищей и моим лекарством, я подкреплял себя ими, проливая их подле нее, вместе с нею, сидя на ее кровати и держа ее руки в своих. Часы протекали в этих ночных беседах, и я возвращался к себе в лучшем состоянии, чем приходил. Довольный и успокоенный обещаниями, которые она мне давала, я засыпал с миром в душе и упованием на Провидение. Имея столько причин ненавидеть жизнь, после стольких бурь, волновавших мое существование и превращавших его в бремя, я желал, чтобы смерть, которая должна прекратить его, была бы для меня столь же мало жестокой, какой она была в те минуты.
Благодаря заботам и вниманию, ценой невероятных усилий маменька спасла меня, и, конечно, только она одна могла это сделать. Я мало доверяю врачеванию наших медиков, зато очень верю в целебные заботы истинного друга: то, от чего зависит наше счастье, мы делаем лучше, чем что-либо другое.
Если существует в жизни сладостное чувство, так именно то, которое мы испытали, когда были возвращены друг другу. Наша взаимная привязанность от этого не возросла – это было бы невозможно, но при всей своей великой простоте она приобрела какую-то особенную задушевность, особенную трогательность. Я стал всецело ее созданием, ее ребенком, больше, чем если бы она была мне родной матерью. Сами того не замечая, мы стали неразлучными, наше существование сделалось как бы единым. Мы чувствовали, что не только необходимы, но и достаточны друг для друга, мы привыкли не думать ни о чем постороннем и ограничили свое счастье и все свои желания только взаимным обладанием, быть может единственным на свете, – которое, как я уже говорил, было не любовью, но чем-то более существенным, что не зависит от чувственности, пола, возраста, наружности, но от всего, что делает человека самим собой и чего он не может потерять иначе, как прекратив свое существование.
Почему же следствием такого бесценного перелома в отношеньях не явилось счастье до конца ее и моих дней? В этом была не моя вина, могу подтвердить себе в утешение. Не было в этом и ее вины, по крайней мере сознательной. Было суждено, чтобы неодолимая природа вскоре снова предъявила свои права. Но этот роковой возврат произошел не сразу. Благодарение небу, был промежуток, короткий и бесценный промежуток, окончившийся не по моей вине, и я не могу упрекнуть себя в том, что дурно им воспользовался!
Хотя я поправился от тяжкой болезни, но еще не восстановил своих сил. Грудь еще болела, лихорадка еще продолжала изнурять меня. Мне хотелось только одного: кончить жизнь подле той, что была мне так дорога, поддерживая ее в добрых ее намерениях, давая ей чувствовать, в чем состоит истинное счастье, и делая ее жизнь счастливой, насколько это зависело от меня. Но я видел, я чувствовал, что постоянное уединение с глазу на глаз в этом мрачном и печальном доме в конце концов станет тоже печальным. Средство избавиться от этого представилось как бы само собой. Маменька считала, что мне необходимо пить молоко, и решила отправить меня для этого в деревню. Я не возражал, но поставил условием, что она поедет вместе со мной. Этого было достаточно, чтобы она согласилась; оставалось лишь выбрать место. Наш сад в предместье, собственно говоря, не был загородным; окруженный домами и другими садами, он вовсе не имел сельской привлекательности. К тому же после смерти Анэ мы расстались с этим садом из экономии, так как у нас больше не было охоты разводить в нем растения; да и по другим причинам мы не особенно сожалели об этом убежище.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































