Текст книги "Исповедь"
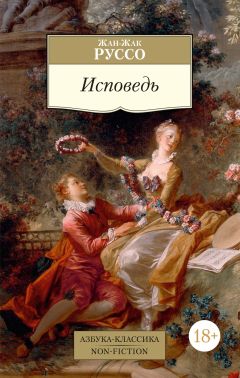
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц)
Фамилия антонианца была Ролишон; он любил музыку, знал ее и пел в маленьких концертах, которые устраивал со своими приятелями. Это было вполне невинное и пристойное развлечение; но, вероятно, его интерес к музыке переходил порой в неудержимую страсть, которую ему приходилось отчасти скрывать. Он проводил меня в маленькую комнату, где я нашел много переписанных им нот. Он дал мне другие ноты для переписки, в частности кантату, которую я пел и которую он сам должен был петь через несколько дней. Я провел у него три или четыре дня, посвящая переписке все время, кроме того, которое посвящал еде; в жизни своей я не был так голоден и никогда меня так вкусно не кормили. Он сам приносил мне еду, и надо думать, что кухня антонианцев была действительно хороша, если их обычный стол был такой же, какой получал я. Никогда еще не ел я с таким удовольствием, и при этом надо сознаться, что даровые харчи пришлись весьма кстати, так как я стал сух как палка. Я работал почти с такой же охотой, как ел, – а это не мало. Правда, качество моей работы не всегда соответствовало моему усердию. Через несколько дней Ролишон, встретив меня на улице, сказал мне, что переписанные мною партии совершенно непригодны для исполнения: так много оказалось в них пропусков, повторений и перестановок. Надо сознаться, что на этот раз я избрал ремесло, к которому был наименее способен. Не то чтобы мое нотное письмо было некрасиво или чтобы я переписывал недостаточно четко, – но, наскучив продолжительной работой, я становлюсь таким рассеянным, что трачу больше времени на подчистки, чем на самую переписку, и, если не сверю партитуру с подлинником и не выправлю ее с величайшим вниманием, исполнение неизбежно будет сорвано. Поэтому, желая сделать хорошо, я делал плохо и, стремясь выполнить работу быстро, выполнял ее как попало. Несмотря на это, Ролишон до самого конца хорошо относился ко мне и еще дал мне на прощанье экю, которого я вовсе не заслужил, но который помог мне окончательно стать на ноги. Через несколько дней я получил весть от маменьки, находившейся в Шамбери, и деньги, чтобы приехать к ней, что я сделал с восторгом. С тех пор мои средства часто бывали весьма ограниченны, но мне уже больше не приходилось голодать. Я отмечаю это время, и сердце мое полно благодарности Провидению за его заботу обо мне. Последний раз в жизни пришлось мне тогда изведать нищету и голод.
Я пробыл в Лионе еще неделю, дожидаясь покупок, которые по поручению маменьки делала м-ль дю Шатле, и посещал ее в течение этого времени гораздо чаще, чем прежде. Мне доставляло удовольствие беседовать с ней о ее подруге, особенно теперь, когда меня не отвлекали от этого мучительные мысли о моем положении, заставлявшие меня умалчивать о нем. М-ль дю Шатле нельзя было назвать молодой или красивой, но она не лишена была некоторой привлекательности; она была доброжелательна, проста, а ум ее придавал этой простоте особенную ценность. У нее была склонность наблюдать характеры и нравы, что помогает изучать людей, и в первую очередь именно от нее я и научился тому же. Она любила романы Лесажа, в особенности «Жиль-Блаза». Она рассказывала мне о нем и одолжила мне эту книгу; я прочел ее с удовольствием; но я еще не созрел для такого чтения – мне нужны были романы с пылкими чувствами. Таким образом, я проводил время у камелька м-ль дю Шатле, соединяя приятное с полезным; не подлежит сомнению, что интересная и разумная беседа с достойной женщиной скорее дает молодому человеку должное направление, чем педантичная философия, изложенная в книгах. В Шазотте я познакомился еще с другими пансионерками и их подругами, между прочим с одной молодой особой лет четырнадцати, некоей м-ль Сэрр. В то время я не обратил на нее особенного внимания, но лет через восемь или девять страстно в нее влюбился, что вполне понятно, так как это была очаровательная девушка.
Поглощенный ожиданием скорого свидания с дорогой маменькой, я дал передышку своим химерам; подлинное счастье, ожидавшее меня в недалеком будущем, избавляло меня от необходимости искать его в видениях. Я не только снова нашел ее, но приобрел в ее близости и благодаря ей хорошее положение, так как она сообщала в письме, что нашла для меня занятие, которое, как она надеялась, позволит мне оставаться при ней. Я ломал себе голову, стараясь угадать, какое это могло быть занятие, и в самом деле, об этом можно было только гадать. У меня было достаточно денег для того, чтобы добраться до нее с удобствами. М-ль дю Шатле хотела, чтобы я нанял лошадь, – я не мог согласиться, и был прав: я лишился бы возможности насладиться последним в своей жизни путешествием пешком, так как не могу назвать путешествиями небольшие прогулки в окрестностях, которые я совершал, пока жил в Мотье.
Странное дело, мои мечты становятся самыми приятными только в тот момент, когда мое положение наименее благополучно, и, наоборот, они наименее радужны, когда все улыбается вокруг меня. Моя упрямая голова не умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Она не довольствуется тем, чтобы украшать действительность, – она желает творить. Реальные предметы рисуются в ней в лучшем случае такими, как они есть; она умеет украшать лишь воображаемые предметы. Если я хочу нарисовать весну – в действительности должна быть зима; если я хочу описать прекрасную местность – я должен сидеть в четырех стенах; и я сто раз говорил, что, если бы меня заключили в Бастилию, я создал бы там картину свободы. Уезжая из Лиона, я предвкушал только приятное будущее; я был так же доволен – и имел на то достаточное основание, – как был недавно расстроен, покидая Париж. Однако во время этого путешествия у меня не было тех сладостных мечтаний, какие сопутствовали мне в предыдущем. На сердце у меня было светло, но и только. Я приближался с умилением к прекрасному другу, которого мне предстояло снова увидеть. Я заранее предвкушал, но без опьянения, удовольствие жить подле нее; я всегда ждал этого; было так, будто со мной не произошло ничего нового. Я тревожился о том, что буду делать, словно было какое-то основание для тревоги. Мои мысли были спокойны и приятны, но не восхитительны и небесны. Все предметы, мимо которых я проходил, поражали мой взгляд; я обращал внимание на пейзаж и замечал деревья, дома, ручьи; я обдумывал направление на перекрестках, боялся заблудиться и не сбивался с пути. Словом, я не витал в эмпиреях: я был там, где находился или куда шел, – не дальше этого.
Рассказывая о своих путешествиях, я поступаю так же, как совершал их: не спешу дойти до конца. Сердце мое билось от радости, когда я шел к моей дорогой маменьке, но я не прибавлял шагу. Я люблю идти не спеша и останавливаться когда вздумается. Бродячая жизнь – вот что мне надо. Идти не спеша в хорошую погоду по живописной местности и знать при этом, что в конце пути меня ждет нечто приятное, – вот условия существования, которое мне больше всего по вкусу. Впрочем, уже известно, что я называю живописной местностью. Никогда равнина, как бы прекрасна она ни была, не покажется мне прекрасной. Мне нравятся бурные потоки, скалы, сосны, темные леса, горы, крутые дороги, по которым нужно то подниматься, то спускаться, страшные пропасти по сторонам. Я вкусил это удовольствие и наслаждался им во всем его очаровании, приближаясь к Шамбери. Неподалеку от горы со срезанной вершиной, которая называется Па-де-л’Эшель, как раз под широкой дорогой, высеченной в скале, у местечка Шай, бежит и клокочет в глубине ущелья маленькая речка, словно потратившая тысячелетия для того, чтобы пробить себе путь. Во избежание несчастных случаев вдоль края дороги устроили барьер, благодаря чему я мог смотреть в бездну и испытывать головокружение сколько мне угодно, – в моем пристрастии к кручам забавно то, что у меня от них кружится голова, и мне очень нравится это головокружение, лишь бы я был в безопасности. Крепко опираясь на барьер, я высовывал нос и стоял так целыми часами, глядя время от времени на пену и голубую воду, рев которой я слышал сквозь крики ворон и ястребов, перелетавших со скалы на скалу, из одной чащи кустарников в другую в сотнях туазов надо мной. Там, где скат был ровный и кустарник достаточно редок, чтобы сквозь него могли пролетать камни, я ходил собирать самые большие, которые едва мог поднять; я складывал их в кучу на барьере, потом, бросая их один за другим, наслаждался, глядя, как они катятся, отскакивают и рассыпаются на тысячу кусков еще до того, как долетят до дна пропасти.
Ближе к Шамбери я наблюдал подобное же зрелище, но в обратном порядке. Дорога идет у подножья такого красивого водопада, каких я больше никогда не видел. Гора так крута, что вода отделяется от нее и падает аркой – настолько далеко, что можно пройти между водопадом и скалой, иногда даже оставшись сухим. Но если не быть достаточно осторожным, легко ошибиться в расчете, что и случилось со мной. Дело в том, что благодаря громадной высоте вода разбивается и превращается в пыль, и если подойти слишком близко к этому облаку, то сначала не заметишь, что попал под брызги, но скоро промокнешь до нитки.
Наконец приезжаю, снова вижу ее. Она была не одна. Когда я вошел, у нее был в гостях главный интендант. Не сказав мне ни слова, она берет меня за руку и представляет ему с той приветливостью, которая открывала ей все сердца: «Вот он, сударь, – этот бедный юноша; не откажите ему в вашем покровительстве на все время, пока он будет достоин его. Теперь мне нечего будет беспокоиться о его судьбе». Потом, обращаясь ко мне, она сказала: «Дитя мое, отныне вы принадлежите королю. Поблагодарите господина главного интенданта, который дает вам кусок хлеба». Я смотрел широко открытыми глазами, не произнося ни слова и не зная, что подумать: зародившееся честолюбие едва ли не вскружило мне голову, я чуть не вообразил себя маленьким интендантом. Однако карьера моя оказалась менее блестящей, чем я ожидал, судя по такому началу; но в данное время и этого было довольно, чтобы прожить, а для меня это было уже много. Вот о чем шла речь.
Король Виктор-Амедей на основании предыдущих войн и местоположения доставшихся ему от предков владений видел, что рано или поздно они уйдут из его рук, и искал только подходящего случая, чтобы выкачать из них все что можно. За несколько лет до того, имея в виду обложить дворянство налогом, он приказал произвести кадастровую опись всего королевства, с тем чтобы при проведении обложения его можно было распределить более справедливо. Эта работа, начатая отцом, была закончена при сыне. Двести или триста человек землемеров, называемых почему-то геометрами, и писарей, именуемых секретарями, были направлены на эту работу, и в число этих последних маменька ухитрилась записать меня. Место, хотя и не особенно доходное, обеспечивало в той стране безбедное существование. К несчастью, работа была временная; но она давала возможность искать другую и выжидать; маменька предусмотрительно старалась заручиться для меня особым покровительством интенданта, чтобы я мог по окончании этой работы перейти на какую-нибудь более солидную должность.
Я приступил к своим обязанностям через несколько дней после приезда. Работа не представляла никакой трудности, и я вскоре с ней освоился. Таким образом, после четырех– или пятилетних скитаний, безрассудств и невзгод, последовавших за моим отъездом из Женевы, я в первый раз стал честно зарабатывать кусок хлеба.
Эти длинные подробности о моей ранней юности, верно, покажутся ребяческими, и это жаль: несмотря на то что в некоторых отношениях я от рождения был взрослым, во многих других я очень долго оставался ребенком, а в иных остаюсь им до сих пор. Я не обещал читателям изобразить великого человека – я обещал описать себя таким, каков я есть; а чтобы знать меня в зрелом возрасте, надо хорошо знать меня в молодости. Сами предметы обычно производят на меня меньше впечатления, чем воспоминание о них; все мои мысли не что иное, как образы; первые штрихи, запечатлевшиеся у меня в памяти, остались там навсегда; те же, которые появились впоследствии, скорее слились с первыми, чем изгладили их. Есть известная преемственность душевных движений и мыслей: они последовательно видоизменяют друг друга, и это необходимо знать, чтобы правильно судить о них. Я стараюсь повсюду раскрыть первопричины, чтобы дать почувствовать связь последствий. Я хотел бы сделать свою душу прозрачной для взгляда читателей и с этой целью стремлюсь ее показать со всех точек зрения, осветить ее со всех сторон, достигнуть того, чтобы в ней не совершалось ни одного движения, им не замеченного, чтобы он мог сам судить о порождающем их начале.
Если бы я взял на себя труд сделать вывод и сказал бы читателю: «Вот каков мой характер», он мог бы подумать, что если даже я его не обманываю, то во всяком случае сам заблуждаюсь. Тогда как, излагая подробно со всей простотой все, что со мной было, все, что я делал, все, что думал, все, что чувствовал, я не могу ввести его в заблуждение, если только не стану намеренно добиваться этого; но даже намеренно мне таким путем нелегко было бы его обмануть. Его дело – собрать воедино все элементы и определить, каково существо, которое они составляют; вывод должен быть сделан им самим; и, если он тут ошибется, это будет всецело его вина. Итак, недостаточно, чтобы повествование мое было правдиво: нужно еще, чтоб оно было точно. Не мне судить о значительности фактов; я обязан отметить их все и предоставить читателю в них разобраться. Вот что я стремился до сих пор осуществить, прилагая к этому все свои силы, и в дальнейшем не отступлю от этого. Но воспоминания о зрелом возрасте всегда менее ярки, чем о ранней молодости. Я начал с того, что постарался воспользоваться последними как можно лучше. Если остальные вернутся ко мне с той же силой, иные нетерпеливые читатели, может быть, найдут их скучными, но что касается меня – я не останусь недовольным своей работой. Одного только приходится мне опасаться при выполнении задуманного: не того, что я скажу слишком много или солгу, а того, что не скажу всего и умолчу об истине.
Книга пятая
(1732–1736)
Я прибыл в Шамбери, кажется, в 1732 году и, как только что сказал, начал работать на королевской службе по налоговому управлению. Мне было уже двадцать лет, почти двадцать один. В умственном отношении я был достаточно развит для своего возраста, но не обладал еще рассудительностью и очень нуждался в помощи тех, в чьих руках находился, чтобы научиться, как себя вести. Испытания, длившиеся несколько лет, не могли еще излечить меня полностью от моих романтических грез, и, несмотря на все пережитые страдания, я так мало знал свет и людей, словно ничем не заплатил за жизненные уроки.
Я жил у себя, то есть у маменьки. Но здесь уже не было такой комнаты, как в Аннеси. Ни сада, ни ручья, ни пейзажа. Дом, занимаемый маменькой, был мрачен и уныл, а моя комната – самая мрачная и самая унылая во всем доме. Стена вместо вида, глухой переулок вместо улицы, мало света, мало воздуха, мало простора. Прогнившие полы, сверчки да крысы – все это не делало моего жилища приятным. Но я был у нее, возле нее. Находясь постоянно в конторе или в комнате у маменьки, я не замечал убожества моего обиталища; мне некогда было размышлять об этом. Может показаться странным, что маменька поселилась в Шамбери нарочно для того, чтобы нанять этот скверный домишко. С ее стороны это была хитрость, о которой я должен рассказать. Она ехала в Турин неохотно, чувствуя, что после недавнего переворота не время представляться ко двору, где все еще царило волнение. Тем не менее дела требовали, чтобы она показалась там: маменька боялась, что ее забудут или ей навредят. В частности, она знала, что граф де Сен-Лоран, главный интендант финансов, не расположен к ней. У графа в Шамбери был старый дом, очень плохой, к тому же в таком скверном месте, что он вечно пустовал; маменька сняла его и поселилась там. Этим она достигла больше, чем поездкой: у нее не отняли пенсии, а граф де Сен-Лоран с тех пор стал одним из ее друзей.
Я нашел ее хозяйство почти в таком же состоянии, как и прежде, и верного Клода Анэ по-прежнему три ней. Это был, как я, кажется, уже говорил, крестьянин из Мутрю, в детстве собиравший на Юре травы для швейцарского чая. Маменька взяла его к себе в услужение ради своих лекарств, находя удобным иметь лакеем гербариста. Он так увлекся изучением растений и благодаря маменьке так развил в себе эту склонность, что стал настоящим ботаником, и, если б не ранняя смерть, он приобрел бы имя в этой науке, как заслужил его среди честных людей. Так как он был серьезен, даже важен, а я был моложе его, он стал для меня чем-то вроде наставника и часто спасал меня от сумасбродств: он внушал мне уважение, и при нем я не смел забываться. Он внушал уважение даже своей госпоже, которая знала его благоразумие, прямоту, непоколебимую преданность и платила ему тем же. Клод Анэ был, бесспорно, человек редкий и даже единственный в своем роде. Такого мне больше не приходилось встречать. Неторопливый, положительный, вдумчивый, поведения осторожного, холодный в обращении, лаконический и наставительный в речах, он в страстях своих доходил до исступления, которое, впрочем, никогда не позволял себе проявлять, но оно тайно грызло его и заставило за всю его жизнь сделать одно только, зато ужасное, безрассудство: он отравился. Это трагическое событие произошло вскоре после моего приезда, и только оно открыло мне близость этого человека к его госпоже, потому что она тогда все рассказала мне, иначе я никогда не заподозрил бы этих отношений. И действительно, если привязанность, усердие и верность заслуживают подобной награды, то Клод Анэ ее заслужил, а что он был ее достоин, доказывается тем, что он никогда ею не злоупотреблял. Ссоры у них бывали редко и кончались всегда хорошо. Но одна кончилась плохо: госпожа в гневе сказала оскорбительное слово, которого он не мог снести. Отчаяние было единственным его советчиком в ту минуту, и, увидев под рукой склянку с лауданумом, он проглотил его и спокойно лег спать, рассчитывая никогда больше не проснуться. По счастью, г-жа де Варанс, встревоженная, взволнованная сама, бродя по дому, нашла пустую склянку и догадалась об остальном. Бросившись к нему на помощь, она закричала так, что я услышал. Она призналась мне во всем и умоляла помочь ему; с большим трудом удалось добиться, чтобы его вырвало опиумом. Будучи свидетелем этой сцены, я поражался собственной глупости, не позволявшей мне ничего подозревать о связи, которую она открыла мне. Но Клод Анэ был так сдержан, что даже люди более проницательные, чем я, могли ошибиться. Примирение было таким трогательным, что глубоко умилило меня, с этого времени я относился к нему не только с уважением, но и почтительно, стал в некотором роде его учеником и не чувствовал себя от этого хуже.
Однако не без горечи я узнал, что другой был с ней в гораздо большей близости, чем я. Я даже не мечтал занять это место, но все-таки мне было тяжело видеть, что оно занято. Это было вполне естественно. Но вместо того чтобы испытывать неприязнь к тому, кто вытеснил меня, я в действительности почувствовал, что моя привязанность к г-же де Варанс распространяется и на этого человека. Выше всего я ставил ее счастье, а так как для этого она нуждалась в Клоде Анэ, я был рад, что счастлив и он. Со своей стороны, он, совершенно входя в интересы своей госпожи, искренне подружился с избранным ею другом. Не присваивая себе авторитета, право на который давало ему его положение, он, естественно, пользовался тем, который давала ему надо мной его рассудительность. Я не осмелился бы сделать ничего такого, что он мог бы осудить, а осуждал он лишь то, что было дурно. Так жили мы в единении, делавшем нас всех счастливыми, и только одна смерть могла бы его разрушить. Одним из доказательств превосходного характера этой милой женщины было то, что все, кто любил ее, любили и друг друга. Ревность, даже соперничество уступали преобладающему чувству, которое она внушала, и я никогда не видал, чтобы окружавшие ее желали друг другу зла. Пусть те, кто будет читать мою исповедь, прервут на минуту свое чтение при этой похвале, и если, поразмыслив, они найдут другую подобную женщину, – пусть соединятся с ней для спокойствия своей жизни, будь она даже последняя из распутниц.
Тут начинается новый период – от моего прибытия в Шамбери до отъезда в Париж в 1741 году, период в восемь или девять лет, не богатый событиями, о которых стоило бы рассказать, так как жизнь моя была проста и тиха, но как раз в этом однообразии я нуждался больше всего для того, чтобы завершилось развитие моего характера, которому постоянные волнения мешали установиться.
Именно в эти драгоценные для меня годы мое воспитание, беспорядочное и непоследовательное, получило твердую устойчивость и сделало меня тем, чем я остался на всю жизнь, пройдя сквозь все ожидавшие меня житейские бури. Эта перестройка совершалась медленно, незаметно и не была памятна событиями; все же она заслуживает того, чтобы рассказать о ней последовательно и не торопясь.
Сначала я не занимался ничем, кроме своей работы. Заботы, связанные с канцелярией, не позволяли мне думать ни о чем другом. Короткое время, которым я располагал, я проводил вместе с милой моей маменькой и, не имея досуга для чтения, даже не думал о книгах. Но когда работа моя, обратившись в своего рода рутину, стала меньше занимать мой ум, – он опять пришел в беспокойство: чтение снова сделалось для меня необходимостью; и эта склонность, разжигаемая невозможностью всецело отдаться ей, могла бы перейти в страсть, как это было со мною когда-то, у хозяина мастерской, если бы другие склонности, шедшие вразрез с ней, не отвлекли меня от нее.
Хотя в нашем деле и не требовалось особенно сложных арифметических подсчетов, я иногда испытывал затруднения. Чтобы преодолеть эти трудности, я накупил книг по арифметике и хорошо изучил эту науку, так как изучал ее один. Практическая арифметика простирается гораздо дальше, чем думают, пытаясь точно определить ее. Бывают вычисления чрезвычайно длинные, в которых на моих глазах запутывались даже хорошие математики. Размышление, соединенное с практикой, сообщает мыслям отчетливость, и тогда находишь сокращенные способы, изобретение которых льстит самолюбию, а точность удовлетворяет ум, – и это превращает в удовольствие работу, саму по себе неблагодарную. Я так овладел этим, что не было вопроса, поддающегося разрешению при помощи одних лишь цифр, который бы затруднил меня; еще теперь, когда все, что я знал, с каждым днем все больше стирается в моей памяти, этот навык отчасти сохранился у меня даже после тридцатилетнего перерыва. Несколько дней тому назад, во время поездки в Давенпорт, присутствуя на уроке арифметики у детей хозяина дома, где я жил, я произвел безошибочно одно из самых сложных вычислений, и это доставило мне огромное удовольствие. Мне казалось, что я еще в Шамбери, в те счастливые дни. Это было возвращением в далекое прошлое.
Раскраска планов нашими землемерами снова пробудила во мне интерес к рисованию. Я накупил красок и стал рисовать цветы и пейзажи. Жаль, что у меня не оказалось достаточно таланта к этому искусству: склонность к нему была велика. Я готов был проводить целые месяцы, безвыходно сидя дома со своими карандашами и кистями. Так как это занятие становилось для меня слишком увлекательным, пришлось оторвать меня от него. Так случается со всеми моими увлечениями, которым я начинаю предаваться, – они растут, переходят в страсть, и я уже больше ничего в жизни не вижу, кроме того, чем занят. Годы не излечили меня от этого недостатка и даже не уменьшили его; и теперь, когда я пишу эти строки, я, как старый бездельник, увлекаюсь другим бесполезным занятием… ничего в нем не смысля; люди, отдававшиеся ему в юности, принуждены оставить его в том возрасте, в котором я хочу за него приняться.
Но там, в Шамбери, оно было бы своевременно. Случай был очень подходящий, у меня возникло сильное искушение воспользоваться им. Радость, которую я видел в глазах Анэ, когда он возвращался, нагруженный новыми растениями, несколько раз чуть не побудила меня пойти собирать вместе с ним. Я почти уверен, что если б хоть раз пошел – это увлекло бы меня, и теперь я стал бы, может быть, великим ботаником, потому что не знаю никакой другой науки на свете, которая была бы так близка моим природным вкусам, как наука о растениях, и жизнь, которую я веду уже десять лет в деревне, не что иное, как беспрестанное гербаризирование, правда бесцельное и лишенное движения вперед; но тогда, не имея ни малейшего понятия о ботанике, я относился к ней с каким-то презрением и даже отвращением, – как все невежды, я считал ее занятием для аптекарей. Маменька любила ее, но тоже не находила ей другого применения: она разыскивала только полезные травы, чтобы готовить из них лекарства. Таким образом, ботаника, химия и анатомия, соединенные в моем представлении под общим названием медицины, давали мне только повод для вечного зубоскальства, за которое меня награждали порой шлепками. К тому же другая склонность, совсем не похожая на эту, постепенно росла во мне и скоро поглотила все другие. Я говорю о музыке. Я, верно, рожден для этого искусства, так как начал любить его еще в детстве и только его любил постоянно и всегда. Странно, что искусство, для которого я был создан, тем не менее давалось мне с таким трудом, и я делал в нем столь медленные успехи, что после упражнений, продолжавшихся в течение всей жизни, я так и не достиг возможности уверенно петь все с листа. Занятие музыкой было особенно приятно для меня потому, что я мог заниматься ею вместе с маменькой. Хотя вкусы у нас были довольно разные, музыка была для нас связующим звеном, и я любил пользоваться этим. Она не отказывалась; подготовка была у нас обычная: мы разбирали арию в два-три приема. Иногда, видя, как она хлопочет, я говорил ей: «Маменька, вот прекрасный дуэт, ради него можно дать пригореть вашим снадобьям». – «Честное слово, – отвечала она, – если они пригорят по твоей вине, я заставлю тебя проглотить их». Препираясь таким образом, я увлекал ее к клавесину; там все забывалось – полынный или можжевельный сок пригорал, она пачкала мне лицо этим соком, – и все это было восхитительно.
Как видите, у меня было много способов заполнить краткие часы досуга. Однако появилось еще одно развлечение, придававшее цену всем остальным.
Мы занимали такое душное помещение, что необходимо было иногда подышать чистым воздухом. Анэ убедил маменьку нанять в предместье сад, чтобы разводить там растения. К саду примыкала довольно хорошенькая хижина, которую мы меблировали по-своему. Поставили туда кровать; мы часто обедали там, и я иногда оставался ночевать. Незаметно я полюбил это маленькое убежище; перевез туда несколько книг, много гравюр. Часть свободного времени я тратил на то, чтобы украсить его и приготовить какой-нибудь приятный сюрприз для маменьки, когда она приедет сюда. Я покидал маменьку для того, чтобы заняться ею, чтобы с еще большим удовольствием думать там о ней, – вот еще одна причуда, в которой я не оправдываюсь и не винюсь, а просто говорю о ней потому, что это так было. Помню, как однажды герцогиня Люксембургская рассказывала мне с насмешкой о человеке, покидавшем свою возлюбленную только для того, чтобы писать ей письма. Я сказал ей, что тоже был бы способен на это, и мог бы добавить, что когда-то действительно поступал почти так же. Однако подле маменьки я никогда не испытывал потребности удаляться от нее, чтобы любить ее еще больше, так как наедине с ней чувствовал себя так же хорошо, как если б был один. Этого я никогда не испытывал возле других, будь то мужчина или женщина и какова бы ни была моя привязанность к ним. Но она так часто бывала окружена людьми, и притом такими для меня не подходящими, что досада и скука гнали меня в мое убежище, где я мысленно оставался с нею сколько хотел, не опасаясь прихода докучных посетителей.
Пока я жил тихо и безмятежно, деля время между трудом, удовольствием и ученьем, Европа не была так спокойна, как я. Император и Франция только что объявили друг другу войну. Король Сардинии вмешался в ссору, и французская армия двигалась к Пьемонту, чтобы вступить в Миланскую область. Одна колонна прошла через Шамбери, в ее составе был, между прочим, Шампанский полк, которым командовал герцог де ла Тримуй. Я был ему представлен, он много мне наобещал и, конечно, ни разу не вспомнил обо мне. Наш садик возвышался как раз над предместьем, через которое входили войска; таким образом, я мог вдоволь насмотреться на них. Я искренне желал успешного исхода войны, словно она затрагивала мои интересы. До того времени я вовсе не думал о делах общественных, теперь я впервые стал читать газеты, и с таким пристрастием к Франции, что сердце мое билось от радости при малейших ее удачах, а ее поражения так меня огорчали, точно обрушивались на меня самого. Если б это странное увлечение было мимолетным, я не стал бы говорить о нем, но оно без всякой причины до такой степени укоренилось в моем сердце, что, когда впоследствии, в Париже, я выступал против деспотизма как убежденный республиканец, – я чувствовал, вопреки самому себе, тайное расположение к той самой нации, которую считал рабской, и к правительству, которое порицал. Забавно было то, что, стыдясь склонности, столь противоположной моим убеждениям, я никому не решался в ней признаться и смеялся над французами за понесенные ими поражения, хотя сердце мое обливалось кровью больше, чем у них самих. Без сомнения, я – единственный, кто, живя среди народа, хорошо к нему относящегося и обожаемого им, почитает своим долгом делать вид, будто презирает его. Это увлечение оказалось у меня в конце концов таким бескорыстным, таким сильным, таким постоянным и непреодолимым, что даже после того как я оставил французское королевство, после того как правительство, чиновники и писатели соединились в общей злобе против меня, после того как стало признаком хорошего тона осыпать меня обидами и оскорблениями, – я не мог исцелиться от своего пристрастия. Я люблю французов против своей воли, хотя они дурно обращаются со мной. Видя уже начавшийся упадок Англии, который я предсказывал еще во время ее торжества, я позволяю себе лелеять безумную надежду, что французский народ, в свою очередь победоносный, быть может, освободит меня когда-нибудь из печального плена, в котором я нахожусь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































