Текст книги "Исповедь"
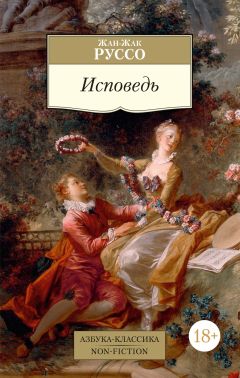
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 51 страниц)
Я не мог понять недоброжелательства этой женщины, которой старался понравиться и за которой довольно усердно ухаживал. Гофкур объяснил мне причины: «Во-первых, – сказал он, – ее дружба с Рамо, которому она поклоняется, ненавидя при этом его возможных соперников; кроме того – вы женевец, а такого преступления она вам никогда не простит». И тут он рассказал мне, что аббат Юбер, тоже женевец и преданный друг г-на де ла Поплиньера, старался удержать его от женитьбы на этой женщине, которую он хорошо знал; за это после свадьбы она воспылала непримиримой ненавистью к нему и ко всем женевцам. «Хотя ла Поплиньер хорошо к вам относится, – прибавил он, – но, насколько я знаю его, – не рассчитывайте на его поддержку. Он влюблен в свою жену; она ненавидит вас; она злая, она ловкая; вы никогда ничего не достигнете в этом доме». Я принял эти слова к сведению.
Тот же самый Гофкур оказал мне приблизительно в то же самое время услугу, в которой я очень нуждался. Только что умер мой добродетельный отец в возрасте около шестидесяти лет. Я перенес эту утрату легче, чем это было бы в другое время, когда трудности моего положения менее поглощали меня. Я не хотел требовать при жизни отца своей доли состояния моей матери, приносившего ему маленький доход; теперь, после его смерти, у меня уже не было причин стесняться в этом вопросе. Но отсутствие юридического доказательства смерти моего брата составляло затруднение, которое Гофкур взялся устранить и действительно устранил при содействии адвоката де Люльма. Так как у меня была самая крайняя нужда в этом маленьком источнике дохода, а получение его было сомнительно, я ожидал решительного известия с живейшей тревогой. Однажды вечером, вернувшись домой, я нашел письмо, в котором должно было содержаться это известие; я схватил письмо, торопясь распечатать его, дрожа от нетерпенья, которого сам устыдился. «Что это! – сказал я себе с презреньем. – Неужели Жан-Жак позволит до такой степени покорить себя корысти и любопытству?» Я тотчас же положил письмо обратно на камин, разделся и спокойно лег в постель; я спал лучше, чем обычно, и встал на другой день довольно поздно, не думая больше о письме. Одеваясь, я увидел его; я вскрыл его не спеша и нашел в нем вексель. Я пережил сразу много радостей; но могу поклясться, что самой сильной была та, что я сумел одержать победу над собой. Я мог бы привести двадцать подобных же случаев в своей жизни, но мне надо торопиться, чтоб иметь возможность обо всем рассказать. Я послал небольшую часть полученных мною денег моей бедной маменьке, сожалея до слез о том счастливом времени, когда я положил бы всю сумму к ее ногам. Она писала мне, и каждое письмо выдавало ее бедственное положение. Она присылала мне груды рецептов и секретов, настаивая, чтобы я при помощи их составил состояние себе и ей. Сознание своей нищеты уже сжимало ей сердце и суживало ум. То немногое, что я ей послал, стало добычей осаждавших ее мошенников. Она не воспользовалась ничем. Это отбило у меня охоту делиться необходимым с какими-то негодяями, в особенности после того, как я сделал бесплодную попытку вырвать ее из их рук, о чем будет сказано ниже.
Время текло, а с ним и деньги. Нас было двое, даже четверо, или, вернее сказать, нас было семь или восемь человек: ведь если Тереза отличалась редким бескорыстием, ее мать была не такова. Как только она поправила свои обстоятельства благодаря моим заботам, она выписала всю семью, чтобы разделить плоды этих забот. Сестры, сыновья, дочери, внучки – все явились, кроме ее старшей дочери, которая была замужем за смотрителем станции почтовых карет в Анжере. Все, что я делал для Терезы, обращалось ее матерью в пользу этих голодных. Так как я имел дело не с жадной женщиной и не был охвачен безрассудной страстью, я не делал безумных трат. Довольствуясь тем, что содержу Терезу прилично, но без роскоши, избавив ее от острой нужды, я соглашался, чтобы то, что она зарабатывала своим трудом, шло целиком в пользу ее матери, и не ограничивался только этим; но по воле преследовавшей меня судьбы, в то время как маменька была жертвой окружавших ее проходимцев, Тереза была жертвой своей семьи, – и сколько бы я ни делал для дочери и для матери, сами они не пользовались тем, что я для них предназначал. Было странно, что младшая из дочерей г-жи Левассер, единственная не получившая приданого, оказалась кормилицей отца и матери, и после того как ее в детстве били братья, сестры, даже племянницы, они теперь обирали бедную девушку, а она так же плохо умела оградить себя от их воровства, как от их побоев. Только одна из ее племянниц, Готон Ледюк, была довольно славная и довольно кроткого нрава, хоть и испорченная примером и внушениями других. Я часто видел ее вместе с Терезой и стал называть их так, как они называли друг друга: племянницу – племянницей, а тетку – теткой. Обе называли меня дядей. Отсюда имя тетя, которым я всегда называл Терезу и которое мои друзья повторяли иногда в шутку.
Ясно, что мне нельзя было терять ни минуты в поисках выхода из создавшегося положения. Полагая, что г-н де Ришелье меня забыл, и больше не надеясь на покровительство двора, я сделал несколько попыток поставить в Париже свою оперу, но встретил трудности, требовавшие много времени для преодоления, а мне с каждым днем приходилось все больше и больше торопиться. Я рискнул предложить свою маленькую комедию «Нарцисс» итальянскому театру. Она была там принята, и я получил туда бесплатный вход, что доставило мне громадное удовольствие; но это было все. Я никак не мог добиться постановки своей пьесы и, наскучив ухаживаньем за актерами, плюнул на них. Я прибег наконец к последнему остававшемуся у меня средству – единственному, к которому должен бы был прибегнуть. Навещая семью г-на де ла Поплиньера, я отдалился от семьи г-на Дюпена. Обе дамы, хоть и родственницы, не ладили друг с другом и не встречались; между двумя семьями не было никакого общения, и только Тьерио уживался и тут и там. Ему было дано порученье постараться вернуть меня к Дюпену. Де Франкей занимался тогда естественной историей и химией и устраивал научный кабинет. Мне кажется, он стремился попасть в Академию наук, хотел написать книгу для этого и считал, что я могу быть ему полезен в этой работе. Г-жа Дюпен, тоже задумавшая написать книгу, имела на меня почти такие же виды. Обоим хотелось иметь в моем лице нечто вроде секретаря, – в этом и была цель увещаний Тьерио. Я предварительно потребовал, чтобы Франкей воспользовался своим влиянием и влиянием Желиотта, для того чтобы мою пьесу начали репетировать в Опере. Он на это согласился. «Галантные музы» были репетированы несколько раз в реквизитной Большой оперы, потом в самом театре. На генеральной репетиции было много народа, и некоторые отрывки вызвали шумные аплодисменты. Однако я сам понял во время исполнения, которым очень плохо дирижировал Ребель, что пьеса не пройдет и даже не может быть поставлена без больших исправлений. Я взял ее обратно, не говоря ни слова и не подвергая себя отказу; но я видел ясно по многим признакам, что мое произведение, будь оно безупречно, все равно не прошло бы. Г-н Франкей обещал мне, правда, что его будут репетировать, но не обещал, что оно будет принято. Он точно сдержал свое слово. Мне всегда казалось и в этом, и во многих других случаях, что ни он, ни г-жа Дюпен и не думали помочь мне приобрести некоторую известность в обществе: может быть, оба опасались, как бы не заподозрили, увидев их книги, что они привили мои таланты к своим. Но г-жа Дюпен всегда считала мои дарования весьма посредственными и пользовалась моими услугами лишь для писанья под ее диктовку или для чисто ученых изысканий, и этот упрек, особенно по ее адресу, был бы очень несправедлив.
Эта последняя неудача окончательно лишила меня мужества. Я оставил всякую надежду на продвижение и славу и, не думая больше о своих подлинных или мнимых талантах, от которых мне было так мало проку, решил посвятить все свое время и свои усилия на то, чтобы обеспечить существование самому себе и своей Терезе любой работой, какую вздумают предложить мне те, кто согласится оказать мне поддержку. Итак, я совсем связал себя с г-жой Дюпен и г-ном Франкеем. Это не дало мне большого богатства: в течение первых двух лет я получал восемьсот-девятьсот франков, мне едва хватало на самое необходимое, так как я был вынужден жить неподалеку от г-жи Дюпен, в меблированных комнатах, в довольно дорогом районе, и оплачивать другое помещение, на краю Парижа, в самом конце улицы Сен-Жак, куда при любой погоде я ходил ужинать почти каждый вечер. Я скоро втянулся и даже вошел во вкус своих новых занятий. Я пристрастился к химии, прослушал вместе с Франкеем несколько лекций у Руэля, и мы принялись марать бумагу, как бог на душу положит, составляя книгу по предмету, из которого усвоили лишь начатки. В 1747 году мы отправились на осень в Турень, в замок Шенонсо – величественное здание на Шере, построенное Генрихом II для Дианы де Пуатье, чьи вензеля еще видны на нем, и ныне принадлежащее г-ну Дюпену, главному откупщику. В этом прекрасном доме жилось очень весело; там был отличный стол, и я разжирел, как монах. Много занимались музыкой. Я сочинил несколько трио для пения, полных довольно выдержанной гармонии, о которых я, может быть, еще буду говорить в приложении, если когда-нибудь напишу его. Ставили комедии. Я сочинил в две недели трехактную комедию под названием «Смелая затея». Ее найдут среди моих бумаг; в ней нет других достоинств, кроме того, что она очень веселая. Я сочинил и несколько других маленьких произведений, между прочим стихотворение – «Аллея Сильвии», по названию одной из аллей парка, тянувшегося вдоль берега Шера. И все это не прерывало ни моей работы по химии, ни работы у г-жи Дюпен.
Пока я толстел в Шенонсо, моя бедная Тереза толстела в Париже на другой лад; и когда я туда вернулся, то оказалось, что работа, которую я вложил в станок, ближе к завершению, чем я ожидал. Это поставило бы меня, ввиду моих обстоятельств, в безвыходное положение, если бы мои соседи по столу не указали мне единственное средство, которое могло меня выручить. Вот одно из тех важных признаний, которые я не могу делать вполне непринужденно, так как, комментируя их, мне пришлось бы либо оправдываться, либо клеймить себя, а здесь я не должен делать ни того ни другого.
Во время пребывания Альтуны в Париже, вместо того чтобы обедать в трактире, мы столовались обыкновенно по соседству, почти против тупика Оперы, у некоей г-жи Ласелль, жены портного; кормила она довольно плохо, но стол ее тем не менее привлекал многих из-за хорошей и дружной компании, собиравшейся в ее доме, потому что туда не допускали ни одного незнакомого и нужно было быть представленным кем-нибудь из тех, кто там обыкновенно столовался. Командор де Гравиль, старый кутила, благовоспитанный и остроумный, но любитель непристойностей, жил здесь и привлекал сюда легкомысленную и блестящую молодежь из офицеров гвардии и мушкетеров. Командор де Нонан, кавалер всех распутниц Оперы, ежедневно приносил сюда все новости этого притона. Дюплесси, подполковник в отставке, добрый и умный старик, и Анселе, офицер мушкетерского полка, поддерживали здесь известный порядок среди молодежи[30]30
Этому Анселе я преподнес маленькую комедию в свойственном мне духе под названием «Военнопленные», которую сочинил после разгрома французов в Баварии и Богемии и которую никогда не осмеливался признать своей или показать кому-либо – по той странной причине, что никогда по адресу короля Франции и французов не было высказано более искренних похвал, чем в этой пьесе, а я, отъявленный республиканец и фрондер, не решался признать себя панегиристом народа, все принципы которого противоречили моим. Более удрученный несчастьями Франции, чем сами французы, я боялся, чтобы не сочли лестью и низкопоклонством выраженья искренней привязанности, возникновение и причину которой я указал в первой части (кн. V) и которую стыдился обнаружить. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть]. Приходили сюда также коммерсанты, финансисты, поставщики провианта – люди воспитанные, порядочные, из тех, что выделялись в своей среде: де Бесс, де Форкад и другие, чьи имена я забыл. Короче говоря, здесь бывали приличные люди всех сословий, кроме аббатов и судейских, которых я здесь никогда не видал: было условлено не вводить их сюда. Словом, общество было довольно многочисленное, очень веселое, но без шумливости; там часто дурачились, но без грубости. Старый командор, несмотря на свои по существу сальные рассказы, всегда соблюдал старинную придворную учтивость и если говорил непристойности, то в такой шутливой форме, что даже женщины простили бы его. Он задавал тон всему столу: все эти молодые люди рассказывали о своих любовных проказах столь же вольно, сколь и изящно. Рассказов о женщинах легкого поведения было тем больше, что на улице, по которой нужно было проходить к г-же Ласелль, был магазин Дюшá, знаменитой модистки, где работали очень хорошенькие девушки, с которыми наши кавалеры заходили побеседовать до или после обеда. Я развлекался бы там, как и другие, будь у меня больше смелости. Нужно было только войти, как они, но я никогда не решался. Довольно часто обедал я у г-жи Ласелль и после отъезда Альтуны.
Я узнал там тьму очень забавных анекдотов, а также усвоил мало-помалу… нет, слава богу, отнюдь не нравы, но житейские принципы, которые, как я видел, установились в этой среде. Люди честные, но сбившиеся с пути, обманутые мужья, соблазненные женщины, тайные роды – были там самыми обычными темами разговоров; и тот, кто больше других увеличивал население Воспитательного дома, всегда встречал наибольшее одобрение. Я поддался этому; я согласовал свой образ мыслей с тем, который, как я видел, господствует среди очень милых и, в сущности, очень порядочных людей. И я сказал себе: «Раз таков обычай страны, то, живя в ней, можно следовать ему. Вот выход, которого я искал». Я смело решился на него без малейших угрызений совести; мне оставалось только победить сомнения Терезы, и я с огромным трудом заставил ее согласиться на это единственное средство спасти ее честь. Когда ее мать, больше всего боявшаяся новой возни с ребятами, пришла мне на помощь, она сдалась. Выбрали осторожную и надежную акушерку, некую м-ль Гуань, жившую в конце улицы Св. Евстафия, чтобы доверить ей это дело, и, когда пришло время, мать отвела Терезу к м-ль Гуань для родов. Я навещал ее там несколько раз и отнес ей метку, нарисованную мною в двух экземплярах на кусках картона: один из них был положен в пеленки младенца, и акушерка сдала ребенка в контору Воспитательного дома в обычном порядке. На следующий год то же затруднение – и тот же выход, кроме метки, о которой не позаботились. Больше никаких размышлений с моей стороны, никаких возражений со стороны матери: она подчинилась, горько вздыхая. В дальнейшем будет видно, какое пагубное влияние имели эти поступки на мой образ мыслей и мою судьбу. Пока будем держаться этой ранней эпохи. Ее последствия, столь же мучительные, сколь непредвиденные, заставят меня слишком часто к ней возвращаться.
Отмечаю здесь первое свое знакомство с г-жой д’Эпине, имя которой будет часто упоминаться в этих воспоминаниях. Ее девичья фамилия была д’Эсклавель, и она только что вышла замуж за г-на д’Эпине, сына де Лалив де Бельгарда, главного откупщика. Ее муж был музыкантом, подобно Франкею. Она тоже была музыкантша, и страсть к этому искусству установила между этими тремя лицами тесную близость. Де Франкей ввел меня к г-же д’Эпине; я ужинал иногда у нее вместе с ним. Она была приветлива, умна, даровита; это было во всяком случае приятное знакомство. Но у нее была подруга, некая м-ль д’Этт, – она слыла злой женщиной; ее любовник, шевалье де Валори, тоже не отличался добротой. Мне кажется, что общение с этими двумя лицами принесло вред г-же д’Эпине, от природы наделенной превосходными качествами, которые смягчали или искупали ошибки ее требовательного темперамента. Франкей сообщил ей часть дружеского чувства, какое он питал ко мне, и признался мне в своей связи с ней. Я не решился бы говорить здесь об этой связи, если б она не стала общеизвестной настолько, что не осталась скрытой от самого г-на д’Эпине. Де Франкей даже сделал мне относительно этой дамы довольно странные признания; сама она никогда их не делала и даже не знала, что я посвящен в ее тайны, так как я никогда в жизни не вымолвил и не вымолвлю о них ни слова ни ей, ни кому бы то ни было. Доверие, оказанное мне той и другой стороной, поставило меня в очень затруднительное положение, особенно по отношению к г-же де Франкей, – она достаточно знала меня и доверяла мне, хоть я и был связан с ее соперницей. Я утешал как мог эту бедную женщину; муж не платил ей той любовью, какую она питала к нему. Я выслушивал порознь этих трех лиц, но хранил их тайны с величайшей верностью, ни один из троих не мог никогда вырвать у меня тайну двух других; при этом я не скрывал от каждой из этих двух женщин своей привязанности к ее сопернице. Г-жа де Франкей, желавшая воспользоваться моей дружбой для многого, получала решительные отказы, а когда г-жа д’Эпине как-то захотела передать через меня письмо Франкею, она не только получила такой же отказ, но еще очень определенное заявление, что, если она желает навсегда изгнать меня из своего дома, ей стоит только сделать мне вторично такое же предложение. Нужно отдать справедливость г-же д’Эпине: этот поступок не только не вызвал ее неудовольствия, но она рассказала о нем Франкею с похвалой и продолжала принимать меня ничуть не хуже. Таким-то образом, при напряженных отношениях этих трех лиц, которых я должен был щадить, от которых до известной степени зависел и к которым был привязан, – я сохранил до конца их дружбу, уважение и доверие благодаря тому, что держал себя мягко и услужливо, но всегда с прямотой и твердостью. Несмотря на мою глупость и неловкость, г-жа д’Эпине хотела привлечь меня к развлечениям в Шевретте, замке близ Сен-Дени, принадлежавшем де Бельгарду. Там был театр, где часто устраивались спектакли. Мне поручили роль, которую я учил шесть месяцев непрерывно, но на спектакле пришлось ее суфлировать мне от начала до конца.
После этого опыта мне уже больше не предлагали ролей.
Познакомившись с г-жой д’Эпине, я познакомился также с ее невесткой, м-ль де Бельгард, которая вскоре стала графиней д’Удето. В первый раз я видел ее перед самой ее свадьбой; она долго беседовала со мной с обаятельной простотой, так свойственной ей. Я нашел ее очень милой, но был далек от мысли, что эта молодая особа однажды определит мою судьбу и увлечет меня, хотя и без всякой своей вины, в бездну, в которой я теперь нахожусь.
Хотя со времени моего возвращения из Венеции я еще не упоминал о Дидро, а также о своем друге Рогене, однако я не забыл ни того ни другого и день ото дня все больше и больше сходился с ними, особенно с первым. У него была Нанетта, как у меня – Тереза, – еще одна черта сходства между нами. Но разница была в том, что у моей Терезы, столь же миловидной, как и его Нанетта, был кроткий нрав и уступчивый характер, созданный для того, чтобы привязать порядочного человека, между тем как подруга Дидро, сварливая и злоязычная женщина, не проявляла себя в глазах посторонних ничем, что могло бы искупить ее дурное воспитание. Тем не менее Дидро на ней женился. Это был очень хороший поступок, если он обещал это сделать. Я же, не обещав ничего подобного, не спешил подражать ему.
Я близко сошелся также с аббатом де Кондильяком; как и я, он ничего не представлял собою в литературе, но создан был для того, чтобы стать тем, чем стал теперь. Я первый, может быть, увидел его одаренность и оценил его по достоинству. Ему, кажется, тоже было приятно мое общество, и в ту пору, когда я, запершись у себя в комнате на улице Жан-Сен-Дени, близ Оперы, писал акт о Гесиоде, он нередко приходил пообедать вдвоем со мной в складчину. Он работал тогда над «Опытом о происхождении человеческих знаний», своим первым трудом. Когда этот труд был закончен, возникла тяжелая задача найти издателя, который взял бы на себя его опубликование. Парижские книгопродавцы заносчивы и грубы со всяким начинающим, а метафизика была тогда не в моде и не представляла собой особенно привлекательного предмета. Я рассказал Дидро о Кондильяке и его труде; познакомил их. Они были созданы для того, чтобы сойтись; они сошлись. Дидро уговорил книгоиздателя Дюрана взять рукопись аббата, и этот великий метафизик получил за свою первую книгу – и то почти из снисхождения – сто экю, которых, может быть, не имел бы без меня. Так как мы жили в очень отдаленных друг от друга кварталах, то собирались все трое раз в неделю в Пале-Рояле и отправлялись вместе обедать в гостиницу «Панье-Флери». По-видимому, эти еженедельные обеды очень нравились Дидро, потому что он, почти никогда не являвшийся на назначенные свидания, не пропустил ни одной из этих встреч. Там у меня возник проект периодического листка под названием «Зубоскал», который мы должны были составлять по очереди – Дидро и я. Я набросал первый номер, и это познакомило меня с д’Аламбером, которому Дидро говорил о нашем замысле. Непредвиденные обстоятельства помешали нам, и проект так и не был осуществлен.
Два этих писателя только что предприняли составление «Энциклопедического словаря», который сперва должен был быть чем-то вроде перевода Чемберса, похожего на перевод «Медицинского словаря» Джемса, только что законченного Дидро. Последний захотел, чтобы я принял хоть какое-нибудь участие в этом втором начинании, и предложил мне отдел музыки, на что я согласился и написал статьи для этого отдела, наспех и очень плохо, в те три месяца, которые он мне дал, как всем авторам, привлеченным к этому изданию. Но только я один представил работу в назначенный срок. Я передал Дидро свою рукопись, переписанную начисто одним из лакеев г-на де Франкея, Дюпоном, обладавшим очень хорошим почерком, – за переписку я заплатил десять экю из своего кармана, которые никогда не были мне возмещены. Дидро обещал мне от имени книгопродавцев вознаграждение, однако ни он больше не заговаривал со мной об этом, ни я с ним.
Издание «Энциклопедии» было прервано его арестом. «Философские мысли» навлекли на него некоторые неприятности, не имевшие последствий. Иначе вышло с его «Письмом о слепых», не содержавшем ничего предосудительного, кроме некоторых личных намеков, обидевших г-жу Дюпре де Сен-Мор и г-на де Реомюра, за что он был посажен в Венсенскую башню. Невозможно передать, как огорчила меня эта беда, постигшая моего друга. Мое мрачное воображение, которое всегда делает плохое еще худшим, закипело. Мне казалось, что он останется там до конца своих дней. Голова у меня пошла кругом. Я написал г-же де Помпадур, умоляя ее настоять на освобождении Дидро или добиться, чтобы меня заключили вместе с ним. Я не получил никакого ответа на свое письмо: оно было слишком неблагоразумно, чтобы оказать действие, и я не обольщаю себя мыслью, что условия заключения бедного Дидро были в скором времени смягчены именно из-за моего вмешательства. Но если бы это заключение продлилось еще с той же строгостью, мне кажется, я умер бы от отчаяния у подножия этой злосчастной башни. Впрочем, если мое письмо принесло мало пользы, то я и не ставил его себе в большую заслугу, так как говорил об этом письме очень немногим и никогда не рассказывал о нем самому Дидро.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































