Текст книги "Исповедь"
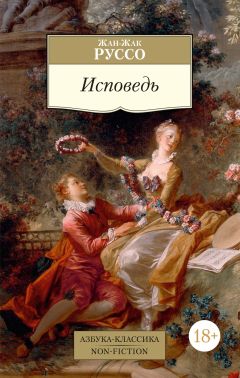
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 51 страниц)
Среди всех этих мелких литературных дрязг, все более укреплявших меня в моем решении, я был удостоен самой большой почести, какую только доставляли мне мои произведения и к которой я был всего чувствительней: принц де Конти соблаговолил дважды посетить меня – один раз в «Малом замке», другой – в Мон-Луи. Он даже выбрал оба раза такое время, когда герцогини Люксембургской не было в Монморанси, желая подчеркнуть, что он приехал ради меня. Я никогда не сомневался, что первыми знаками внимания со стороны этого принца я обязан ей и г-же де Буффле; но не сомневаюсь также, что благоволением, которое он с тех пор всегда выказывал мне, я обязан самому себе и его приязни ко мне лично[60]60
Обратите внимание, как упорно держалось это слепое и глупое доверие после всех оскорблений, которые должны были открыть мне глаза. Оно прекратилось только после моего возвращения в Париж в 1770 году. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть].
Так как моя квартира в Мон-Луи была очень мала, а местоположение башни очаровательно, я повел принца туда, и он в довершение своих милостей пожелал оказать мне честь, сыграв со мною в шахматы. Я знал, что он выигрывает у кавалера де Лоранзи, который был сильнее меня. Однако, несмотря на знаки и ужимки кавалера и других присутствующих, я делал вид, будто не замечаю их, и выиграл обе партии. Кончив, я сказал тоном почтительным, но серьезным: «Монсеньор, я слишком почитаю ваше высочество и поэтому не опасаюсь выигрывать у вас в шахматы». Этот великий принц, полный ума и просвещенности и столь достойный того, чтобы ему не льстили, думается мне, понял, что я один обращаюсь с ним, как с человеком, и у меня есть все основания полагать, что он был мне искренне благодарен за это.
Если б он был этим недоволен, и тогда я не стал бы упрекать себя за свое нежелание обмануть его в чем бы то ни было, и, конечно, мне не приходится также упрекать себя за то, что в сердце своем я недостаточно отвечал на его доброту, хотя иногда делал это нелюбезно, тогда как сам он необыкновенно обаятельно выказывал мне свою милость. Несколько дней спустя он прислал мне корзину дичи, и я принял ее надлежащим образом. Через некоторое время он прислал другую; и один из его ловчих написал мне по его приказанию, что это дичь от охоты его высочества, застреленная им самим. Я принял и на этот раз, но написал г-же де Буффле, что больше принимать не буду. Письмо мое было встречено всеобщим порицанием, и по заслугам: отказаться принять в подарок дичь от принца крови, да еще делающего подарок так учтиво, – это не столько щепетильность гордого человека, желающего сохранить независимость, сколько грубость зазнавшегося невежи. Я никогда не перечитывал этого письма в своем собрании без того, чтоб не покраснеть и не пожалеть, что написал его. Но ведь я задумал писать исповедь не для того, чтобы замалчивать свои глупости, а эта невежливость так возмущает меня самого, что я не позволю себе скрыть ее.
Я едва не сделал другой глупости, вздумав стать его соперником: в ту пору г-жа де Буффле была еще его любовницей, а я ничего не знал об этом. Г-жа де Буффле довольно часто навещала меня, вместе с кавалером де Лоранзи. Она была красива и еще молода. Она усвоила римский строй мыслей, а у меня он всегда был романтический, что довольно близко. Я чуть было не увлекся; думаю, она это заметила; кавалер де Лоранзи заметил тоже: по крайней мере, он заговорил со мной об этом, и в таком тоне, что отнюдь не обескуражил меня. Но на этот раз я оказался благоразумным; да и пора было образумиться в пятьдесят лет. Помня урок, преподанный мною в «Письме к д’Аламберу», я постыдился так дурно им воспользоваться самому. К тому же я узнал то, чего не знал раньше, и, конечно, только совсем потеряв голову, можно было соперничать с такой высокой особой. Наконец, я, быть может, еще не вполне исцелился от своей страсти к г-же д’Удето; чувствуя, что никто уже не может занять ее место в моем сердце, я навсегда простился с любовью. Теперь, когда я пишу это, я только что испытал на себе очень опасное заигрыванье и очень волнующие взгляды одной молодой женщины, имевшей свои виды; но если она притворилась, будто забыла о двенадцати моих пятилетиях, то я помнил о них. Выпутавшись из этих сетей, я уже не боюсь упасть и отвечаю за себя до конца моих дней.
Г-жа де Буффле, заметив, какое волнение она во мне вызвала, имела также возможность заметить, что я справился с ним. Я не настолько безумен и не настолько тщеславен, чтобы вообразить, будто мог в моем возрасте понравиться ей; но на основании некоторых слов, сказанных ею Терезе, мне показалось, что я заинтересовал ее. Если это было так и если она не простила мне этого обманутого интереса, приходится признать, что я действительно рожден для того, чтобы быть жертвой своих слабостей; победившая любовь оказалась для меня роковой, а любовь побежденная – еще более пагубной.
На этом кончается собрание писем, служившее мне путеводителем при написании этих двух книг. Дальше я пойду только по следам своих воспоминаний. Но жестокие воспоминания этих дальнейших лет запечатлелись во мне с такою силой, что, теряясь в необъятном море моих несчастий, я не могу забыть подробностей первого своего крушения, хотя последствия его помню лишь смутно. Поэтому в следующей книге я могу идти вперед еще довольно уверенно. Но дальше мне уж придется подвигаться только ощупью.
Книга одиннадцатая
(1760–1762)
Хотя «Юлия», уже давно находившаяся в печати, к концу 1760 года еще не вышла в свет, вокруг нее уже начинался шум. Герцогиня Люксембургская рассказывала о ней при дворе, г-жа д’Удето – в Париже. Последняя даже взяла у меня разрешение для Сен-Ламбера прочесть ее в рукописи польскому королю, и король пришел в восторг. Дюкло, которому ее тоже дали прочесть по моей просьбе, рассказал о ней в Академии. Весь Париж жаждал познакомиться с романом: книгопродавцев на улице Сен-Жак и ту лавку, что в Пале-Рояле, осаждали люди, справлявшиеся о нем. Наконец он появился, и успех его, против обыкновения, равнялся нетерпению, с каким его ожидали. Супруга дофина, прочитав его одной из первых, отозвалась о нем герцогу Люксембургскому как о чудном произведении. Литераторы разошлись во мнениях, но приговор света был единодушен; в особенности женщины сходили с ума от книги и от автора до такой степени, что даже и в высшем кругу не много нашлось бы таких, над которыми я, при желании, не одержал бы победу. Я располагаю доказательствами этого, но не хочу приводить их; не нуждаясь в проверке, они подтверждают мое мнение. Странно, что книга эта была лучше принята во Франции, чем в остальной Европе, хотя французы – и мужчины и женщины – получили в ней не очень хорошую оценку. Вопреки моим ожиданиям, наименьший успех она имела в Швейцарии, а наибольший – в Париже. Разве дружба, любовь и добродетель царят в Париже более, чем во всяком другом месте? Нет, конечно; но там еще царит та восхитительная способность восприятия, которая наполняет сердце возвышенным стремлением к ним и заставляет ценить в других чистые, нежные, благородные чувства, нас уже покинувшие. Теперь разврат повсюду одинаков; во всей Европе нет ни нравственности, ни добродетели; но если где еще существует любовь к ним, то именно в Париже[61]61
Я писал это в 1769 году. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть].
Надо уметь хорошо разбираться в человеческом сердце, чтобы сквозь множество предрассудков и искусственных страстей различить в нем настоящие, естественные чувства. Требуются необыкновенная чуткость и такт, которые дает лишь воспитание в большом свете, чтобы почувствовать, если смею так выразиться, всю сердечную тонкость, которой полно это произведение. Я без опасения ставлю четвертую часть его рядом с «Принцессой Клевской» и утверждаю, что, если бы обе эти книги читала только провинция, все их значенье никогда не было бы понято. Не приходится поэтому удивляться, что наибольший успех выпал этой книге при дворе. Она изобилует чертами смелыми, но затененными, которые должны нравиться в том кругу, где их умеют распознавать. Но и здесь необходимо оговориться. Такое чтение мало что даст умникам особого сорта, у которых нет ничего, кроме хитрости, которые проницательны лишь на дурное и ничего не видят там, где взгляду открывается только добро. Если бы, например, «Юлия» была выпущена в одной известной нам стране, которую я подразумеваю, я уверен, что никто не дочитал бы ее до конца и книга моя умерла бы, едва появившись на свет.
Я собрал большую часть писем, полученных в связи с этим произведением, в одну связку, – она находится у г-жи де Надайак. Если собрание этих писем выйдет когда-нибудь в свет, в нем обнаружатся очень странные явления и противоречия в оценках, показывающие, что значит иметь дело с публикой. Наименее замеченным ею осталось то, что всегда будет делать эту книгу произведением единственным: простота сюжета и цельность интриги, которая сосредоточена в трех лицах и поддерживается на протяжении шести томов, без эпизодов, без романических приключений, без каких-либо злодейств в характере лиц или в действиях. Дидро очень хвалил Ричардсона за удивительное разнообразие его картин и множество персонажей. Действительно, за Ричардсоном та заслуга, что он дал им всем яркую характеристику; но что касается большого их числа, то эта черта у него общая с самыми ничтожными романистами, возмещающими скудость своих идей количеством персонажей и приключений. Нетрудно возбудить внимание, беспрестанно рисуя неслыханные события и новые лица, проходящие наподобие фигур в волшебном фонаре; гораздо труднее все время поддерживать это внимание на одних и тех же предметах и притом без чудесных приключений. И если при прочих равных условиях простота сюжета увеличивает прелесть произведения, то романы Ричардсона, превосходные во многих отношениях, в этом не могут быть поставлены рядом с моим. Тем не менее мой роман умер, я это знаю, – и знаю причину этого; но он воскреснет.
Больше всего я опасался, как бы (из-за простоты) мое повествование не оказалось скучным и как бы в своем стремлении поддержать интерес до конца книги я не потерпел неудачу, потому что не давал ему достаточно пищи. Меня успокоил один факт, польстивший мне больше всех похвал, которые доставило мне это произведение.
Оно появилось в начале карнавала. Рассыльный доставил его княгине де Тальмон в день бала в Опере. После ужина она приказала, чтобы ее одели к балу и, в ожидании отъезда, принялась читать новый роман. В полночь она велела закладывать лошадей и продолжала чтение. Ей доложили, что лошади поданы, – она ничего не ответила. Слуги, видя, что она увлеклась, пришли напомнить ей, что уже два часа ночи. «Еще успеется», – сказала она, не отрываясь от книги. Несколько времени спустя часы ее остановились, и она позвонила, чтобы узнать, который час. Ей ответили, что пробило четыре. «Если так, – сказала она, – ехать на бал уже поздно; пусть распрягут лошадей». Она велела раздеть себя и читала до утра.
С тех пор как мне рассказали об этом случае, я всегда желал познакомиться с г-жой де Тальмон, не только для того, чтобы узнать от нее самой, действительно ли все так было, но еще и потому, что, как мне казалось, невозможно столь сильно заинтересоваться «Элоизой», не имея того шестого чувства, того нравственного чутья, которым одарены весьма немногие и без чего никто не поймет моего сердца.
Женщины потому благосклонно отнеслись ко мне, что прониклись убеждением, будто я написал свою собственную историю и сам являюсь героем этого романа. Эта вера до того укоренилась, что г-жа де Полиньяк написала г-же де Верделен, чтобы она уговорила меня показать ей портрет Юлии. Все были убеждены, что невозможно так живо изображать чувства, которых сам не испытал; нельзя живописать порывы любви иначе, как черпая их в своем собственном сердце. В этом они были правы, и нет сомненья, что я писал этот роман в самом пламенном экстазе; но они ошибались, думая, что для такого экстаза нужны реальные предметы; никто даже не представлял себе, до какой степени могут воспламенять меня воображаемые существа. Если б не воспоминания молодости и не г-жа д’Удето, любовь, мной пережитая и описанная, была бы только любовью к сильфидам. Я не хотел ни укреплять, ни уничтожать заблужденья, мне выгодного. Можно видеть из предисловия в форме диалога, напечатанного мной отдельно, как я поддерживал догадки публики. Ригористы говорят, что я должен был объявить истину напрямик. Но я не вижу, почему обязан был это сделать, и думаю, что в таком признании, не вызванном необходимостью, было бы больше глупости, чем прямоты.
Почти в это же время появился «Вечный мир», – рукопись его предыдущим летом я уступил некоему де Бастиду, редактору журнала под названием «Весь мир», в который он хотел во что бы то ни стало впихнуть все мои рукописи. Он был знаком с Дюкло и явился ко мне просить от его имени, чтоб я помог ему заполнить его журнал. Он слышал о «Юлии» и желал, чтобы я поместил ее там; он хотел также напечатать «Эмиля»; вероятно, он стал бы просить у меня и «Общественный договор», если б подозревал о его существовании. Наконец, измученный его назойливостью, я решил уступить ему за двенадцать луидоров отрывок из «Вечного мира». Мы договорились о том, что отрывок этот будет напечатан у него в журнале; но как только он завладел рукописью, то нашел более удобным напечатать ее отдельно, с некоторыми сокращениями по требованию цензора. Что было бы, если б я присоединил к этому труду и свою критику; но, к счастью, я ничего не сказал о ней де Бастиду, и она не входила в наш договор. Критика эта и теперь еще находится в рукописи среди моих бумаг. Если она когда-нибудь увидит свет, то убедятся, как жалки были мне шутки и самодовольный тон Вольтера по этому поводу, ибо я хорошо знал меру способности этого бедняги в политических вопросах, которые он брался обсуждать.
Среди своих успехов у публики и благосклонности дам я замечал, что в доме герцога и герцогини Люксембургских положение мое ухудшается, – не у маршала, который, казалось, день ото дня питает ко мне все большую дружбу и приязнь, а у его супруги. С тех пор как мне нечего было читать ей, ее покои стали менее доступны для меня; и во время приездов в Монморанси я, хотя и являлся в замок довольно часто, видел ее уже только за столом. Теперь у меня не было постоянного места возле нее. Так как она больше мне его не предлагала и мало говорила со мной, да и мне нечего было сказать ей, я предпочитал сесть где-нибудь в другом месте, где чувствовал себя свободней, – особенно вечером. И невольно у меня явилась привычка садиться поближе к маршалу.
Помнится, я уже говорил, что не ужинал в замке, и это действительно было так в начале знакомства; но, так как герцог никогда не обедал и даже не садился за стол, получилось, что через несколько месяцев, уже став своим человеком в замке, я еще ни разу не ел вместе с хозяином дома. Он был так добр, что высказал сожаленье об этом. Это заставило меня ужинать иногда в замке, когда там было мало гостей, и мне это очень понравилось. Обедали там неплотно и наскоро, зато ужин был очень продолжительный, потому что за вечерним столом с удовольствием отдыхали после долгой прогулки, очень вкусный, потому что герцог любил покушать, и очень приятный, потому что герцогиня бывала тогда очаровательной, радушной хозяйкой. Без этого объяснения трудно понять конец одного письма герцога Люксембургского (связка В, № 36), где он пишет мне, что с наслаждением вспоминает наши прогулки; в особенности, прибавляет он, когда, возвращаясь по вечерам, мы не находили во дворе следов от карет; дело в том, что каждое утро песок во дворе сглаживали граблями, чтобы уничтожить колеи, а по числу этих следов можно было судить, много ли карет привезли гостей среди дня.
В 1761 году переполнилась чаша горестных утрат, пережитых этим добрым вельможей с тех пор, как я имел честь узнать его; как будто страдания, предназначенные мне судьбой, должны были начаться с человека, к которому я был более всего привязан и который был всего более этого достоин. В первый год он потерял сестру, герцогиню де Вильруа; на второй – дочь, принцессу де Робек; на третий лишился своего единственного сына, герцога де Монморанси, и единственного внука, графа Люксембургского, – последних представителей своего рода и своего имени. Все эти утраты он перенес мужественно, но сердце его истекало кровью до конца его дней, и здоровье непрерывно ухудшалось. Неожиданная и трагическая смерть сына должна была оказаться для него ударом тем более мучительным, что произошла она как раз в тот самый момент, когда король пожаловал маршалу для сына должность капитана лейб-гвардии и обещал передать ее впоследствии внуку. Маршалу пришлось видеть жестокое зрелище медленного угасания его последнего потомка, подававшего великие надежды; а все случилось из-за слепого доверия матери к врачу, который вместо всякой пищи давал этому бедному ребенку одни лишь лекарства, и тот умер от истощения. Увы! Если б послушали меня, и дед и внук были бы оба еще живы. Сколько толковал я, сколько писал г-ну маршалу, как просил г-жу де Монморанси отменить более чем суровый режим, который она, доверясь своему врачу, заставила своего сына соблюдать. Герцогиня Люксембургская, разделявшая мое мнение, не хотела вторгаться в права матери; герцог, добрый и слабохарактерный, не любил противоречить. Г-жа де Монморанси слепо верила Борде, и сын ее в конце концов стал жертвой этой веры. Как радовался этот бедный ребенок, когда ему позволяли пойти с г-жой де Буффле в Мон-Луи, где Тереза угощала его чем могла! Как счастлив он был ввести в свой голодный желудок немного пищи! Я оплакивал в душе жалкое положение знати, видя, как этот единственный наследник такого большого поместья, такого громкого имени, стольких титулов и званий с жадностью нищего пожирает какой-нибудь маленький кусочек хлеба! Но сколько я ни толковал и как ни бился, врач одержал победу, и ребенок умер с голоду.
Доверие к шарлатанам, погубившее внука, свело в могилу и деда; к этому еще присоединилось малодушное желание герцога скрыть от самого себя свои старческие недуги. Время от времени маршал испытывал некоторую боль в большом пальце ноги; приступ ее случился однажды в Монморанси, вызвав бессонницу и легкую лихорадку. Я осмелился произнести слово «подагра»: г-жа герцогиня стала меня бранить. Лакей, исполнявший обязанности хирурга маршала, заявил, что это не подагра, и принялся лечить больное место успокаивающей мазью. К несчастью, боль утихла, а когда она вернулась, прибегли к тому же успокоительному средству. Состояние ухудшилось, боли усилились, а вместе с ними было усилено применение лекарства. Герцогиня, убедившись наконец, что это подагра, воспротивилась бессмысленному лечению. Его, однако, продолжали применять втайне, и через несколько лет герцог Люксембургский погиб по своей вине, – из-за того, что лечился у доморощенного целителя. Но не будем так сильно забегать вперед: о скольких несчастьях должен я рассказать, прежде чем дойду до этого.
Удивительно, с какой роковой неизбежностью решительно все, что я говорил и делал, вызывало неудовольствие герцогини, меж тем как у меня не было другого желания, как сохранить ее расположение. Несчастья, которые обрушились на герцога одно за другим, еще сильней привязывали меня к нему, а следовательно, и к герцогине, так как оба они всегда казались мне настолько тесно связанными, что чувства, направленные на одного из них, неизбежно распространялись и на другого. Маршал старел. Постоянное присутствие при дворе, беспокойства, с этим связанные, непрерывные охоты, а в особенности утомительные очередные дежурства – все это требовало юношеских сил, а уже не было ничего, что могло бы поддержать его силы на этом поприще. Раз его титулам суждено было разойтись по чужим рукам, а имя его должно было угаснуть вместе с ним, какой интерес был ему продолжать хлопотливую жизнь, главной целью которой было обеспечить своим детям благоволенье монарха. Однажды, когда мы были втроем, без посторонних и он жаловался на утомленье от службы при дворе, как человек, утративший бодрость после жестоких утрат, я осмелился заговорить с ним об отставке и подал ему такой же совет, какой Киней подал Пирру. Он вздохнул и не дал решительного ответа. Но лишь только мы остались вдвоем с герцогиней, она принялась сильно выговаривать мне за этот совет, видимо ее встревоживший. Она привела один довод, который я счел правильным, и потому решил больше не касаться этого вопроса: от долгой привычки придворная жизнь стала для герцога настоящей потребностью, а в то время была для него даже средством рассеяться, и отставка, которую я советовал ему, оказалась бы для него не столько отдыхом, сколько изгнанием; причем праздность, скука, печаль окончательно и очень скоро извели бы его. Хотя герцогиня должна была бы видеть, что убедила меня и вполне могла рассчитывать на мою верность данному ей обещанию, которого я не нарушил ни разу, она явно не была спокойна на этот счет, и я вспоминаю, что с тех пор мои беседы с маршалом наедине стали реже и почти всегда их прерывали.
Итак, моя неловкость и незадачливость дружно вредили мне во мнении герцогини, а люди, которых она чаще всего видела и больше всего любила, не выручали меня из беды. Особенно не хотел это делать аббат де Буффле, самый блестящий молодой человек, какого только можно себе представить; он, кажется, никогда не был ко мне особенно расположен. Из всего общества, окружавшего супругу маршала, он единственный не оказывал мне ни малейшего внимания, а теперь мне даже казалось, что с каждым его приездом в Монморанси я что-нибудь терял в ее отношении ко мне. Правда, даже помимо его желания, для этого было достаточно одного его присутствия: до такой степени грация и острота его шуток подчеркивали неуклюжесть моих тяжеловесных spropositi[62]62
Промахов (ит.).
[Закрыть]. В первые два года он почти не приезжал в Монморанси, и благодаря снисходительности супруги маршала я там держался; но как только он стал появляться чаще, я был бесповоротно уничтожен. Я захотел было укрыться под его крылом, устроив так, чтобы он отнесся ко мне дружелюбно; но я искал его приязни с обычной своей угрюмостью, которая не могла ему нравиться, да и принялся за это дело так неловко, что окончательно погубил себя в глазах супруги маршала, нисколько не улучшив отношения ко мне аббата. При его уме все дороги были ему открыты; но неспособность к труду и жажда развлечений позволили ему достигнуть во всем только полуталантов. Зато у него их много, а в большом свете только это и надо, чтобы блистать. Он очень мило сочиняет стишки, очень мило пишет записочки, бренчит на цитре и с грехом пополам мажет пастелью. Он вздумал писать портрет герцогини Люксембургской: портрет вышел ужасный. Она утверждала, что сходства нет никакого, и это была правда. Злодей-аббат спросил мое мнение, и я, как дурак и лжец, сказал, что портрет похож. Я хотел польстить аббату, но зато не польстил герцогине, и она это запомнила; а аббат, добившись своего, насмеялся надо мной. Такой исход моего запоздалого первого опыта научил меня воздерживаться от угодничества и глупой лести.
Мой талант в том, чтобы с достаточной энергией и смелостью говорить людям полезные, но суровые истины; этого мне и надо было держаться. Я не создан не только для лести, но и для славословия. Мои неловкие похвалы причинили мне больше вреда, чем мои резкие осуждения. Приведу здесь один пример, такой ужасный, что его последствия не только определили мою судьбу на весь остаток жизни, но, быть может, окажутся решающими и для всей моей репутации в потомстве.
Во время наездов в Монморанси г-н де Шуазель иногда приезжал в замок ужинать. Однажды он явился туда в тот момент, когда я только что ушел. Заговорили обо мне: герцог рассказал ему мою венецианскую историю с г-ном де Монтэгю. Шуазель выразил сожаленье, что я оставил это поприще, и сказал, что, если я хочу опять вступить на него, он очень охотно устроит меня. Герцог передал мне его слова. Меня они тронули, тем более что я не избалован вниманием министров; и если бы здоровье позволяло мне думать об этом – кто знает, не повторил ли бы я прежней глупости, несмотря на принятое решение. Честолюбие обыкновенно овладевало мною лишь в те короткие промежутки, когда меня покидали все остальные страсти. Но одного такого промежутка было бы достаточно, чтобы вернуть меня на службу. Доброе намерение г-на де Шуазеля расположило меня в его пользу и увеличило уваженье, которое я питал к нему за его таланты, судя о них по мероприятиям возглавляемого им правительства; в частности, Семейный договор, казалось мне, говорил о нем как о первоклассном государственном деятеле. Еще более выигрывал он в моих глазах по сравнению со своими предшественниками, не исключая и г-жи де Помпадур, которую я считал своего рода премьер-министром; и когда прошел слух, что один из двух – он или она – вытеснит другого, мне казалось, что, желая его победы, я желаю славы Франции. Я всегда чувствовал к г-же де Помпадур антипатию, даже до того, как она попала в фавор, – когда видел ее у г-жи де ла Поплиньер и ее фамилия была еще д’Этиоль. С тех пор я был недоволен ее молчаньем по поводу Дидро и всеми ее поступками относительно меня, как в связи с «Празднествами Рамиры» и «Галантными музами», так и в связи с «Деревенским колдуном», не доставившим мне ни в каком виде тех выгод, которые соответствовали бы его успеху. И во всех обстоятельствах я убеждался, что она очень мало расположена оказать мне услугу; это не помешало, впрочем, кавалеру де Лоранзи предложить мне написать что-нибудь в честь этой дамы, и он даже намекнул, что это может быть мне полезным. Такое предложение меня возмутило; я отлично понял, что оно исходило не от него, – я знал, что этот человек, ничтожный сам по себе, всегда думает и действует только по внушению других. Я слишком плохо владею собой и не мог скрыть от него свое презренье к его предложению, так же как не мог таить от кого бы то ни было свою антипатию к фаворитке; и она знала об этом, я уверен; словом, желая победы г-ну де Шуазелю, я следовал своему естественному расположению к нему и думал также о своих интересах. Проникнутый уважением к его талантам и совсем не зная его лично, полный благодарности за его доброе отношенье ко мне и совершенно неосведомленный в своем уединенье об его вкусах и образе жизни, я заранее смотрел на него как на мстителя за общество и за меня самого. Приложив тогда и последний раз руку к «Общественному договору», я в одном штрихе дал понятие обо всем, что думал о предшествующих министрах, и о том человеке, который начал их затмевать. В данном случае я нарушил самое твердое свое правило и, кроме того, не подумал о том, что, когда хочешь в своем произведении хвалить и порицать людей, не называя имен, надо привести свою хвалу в такое соответствие с тем лицом, к кому она относится, чтобы самое болезненное самолюбие не могло усмотреть здесь чего-либо двусмысленного. В этом вопросе мной владела безумная беспечность: мне даже не пришло в голову, что кто-нибудь может исказить смысл моих слов! Дальше будет видно, был ли я прав.
Мне всегда везло на знакомства с женщинами-писательницами. Я надеялся, что избегу этого по крайней мере среди великих мира сего. Как бы не так! Это и здесь меня преследовало. Впрочем, герцогиня Люксембургская, насколько я знаю, никогда не страдала этой манией; зато графиня де Буффле ею страдала. Она сочинила трагедию в прозе, которая была прочитана, ходила по рукам и превозносилась в кругу принца де Конти; но, не удовлетворившись этими похвалами, она пожелала услышать также мое мнение. Она услышала его: мнение было сдержанное, – такое, какого заслуживало ее сочиненье. Кроме того, я почел своим долгом указать, что пьеса ее, озаглавленная «Великодушный раб», имеет очень большое сходство с малоизвестной, но все же переведенной английской пьесой под заглавием «Оруноко». Г-жа де Буффле поблагодарила меня за сообщенье, но, впрочем, уверяла, что ее пьеса ничуть не похожа на английскую. Я никогда никому не говорил об этом плагиате, кроме нее; да и ей самой сказал лишь для того, чтоб выполнить обязанность, ею возложенную на меня. И все-таки не раз мне пришлось вспоминать об участи Жиль-Блаза, выполнившего такую же обязанность при архиепископе-проповеднике.
Помимо аббата де Буффле, не любившего меня, помимо г-жи де Буффле, по отношению к которой я совершил проступки, каких никогда не прощают ни женщины, ни авторы, остальные друзья герцогини тоже были, как мне всегда казалось, совсем не расположены стать моими друзьями. Это относится к председателю Эно, который, вступив в ряды писателей, не был свободен от их недостатков; это же относится к г-же Дюдефан и мадемуазель де Леспинас: обе они находились в очень дружеских отношениях с Вольтером и были близкими приятельницами д’Аламбера, причем вторая в конце концов даже стала вместе с ним жить, – разумеется, с самыми честными намереньями: ничего другого тут и увидеть нельзя. Сначала я очень заинтересовался г-жой Дюдефан, которую утрата зрения делала в моих глазах достойной состраданья; но ее образ жизни, столь противоположный моему (я вставал почти в тот час, когда она ложилась спать); ее безудержная страсть к пустому остроумию; значение, придаваемое ею, в хорошем или в дурном смысле, всякому появившемуся грязному пасквилю; исключительная пристрастность, не позволявшая ей говорить ни о чем уравновешенно и спокойно; невероятные предрассудки, непреодолимое упрямство, нелепое сумасбродство, до которого доводила ее упорная предвзятость суждений, – все это скоро отвратило меня от желания оказывать ей услуги. Я отдалился от нее; она это заметила; этого было довольно, чтобы привести ее в ярость; и хотя мне было достаточно ясно, до какой степени может быть опасна женщина с подобным характером, я все же предпочел бич ее ненависти бичу ее дружбы.
Мало того что я почти не имел друзей в кругу герцогини Люксембургской, у меня еще были враги в ее семье. Враг был у меня там только один, но такой, что в моем теперешнем положении он опаснее ста врагов. Конечно, это был не брат ее, герцог де Вильруа: он не только навестил меня, но несколько раз приглашал в Вильруа, и когда я ответил ему со всем возможным уважением и учтивостью, он, приняв этот неопределенный ответ за согласие, уговорился с герцогом и герцогиней Люксембургскими о поездке туда на две недели, причем и мне предложено было принять в ней участие. Состояние моего здоровья требовало ухода и не позволяло мне сниматься с места без риска: я просил герцога помочь мне уклониться от поездки. Из его письма (связка Д, № 3) можно видеть, что он это сделал самым любезным образом, и герцог де Вильруа продолжал относиться ко мне так же хорошо, как прежде. Его племянник и наследник, молодой маркиз де Вильруа, не разделял благосклонности герцога ко мне, но, признаться, и с моей стороны племянник не пользовался тем уважением, с каким я относился к дяде. Развязные манеры этого маркиза делали его несносным в моих глазах. Я обращался с ним холодно и навлек на себя его вражду. Однажды вечером, за столом, он позволил себе резкость, на которую я отвечал неудачно, потому что я глуп, всегда теряюсь, а гнев, вместо того чтобы подстегнуть ничтожную мою находчивость, совсем отнимает ее. У меня была собака, которую мне подарили щенком вскоре после моего переезда в Эрмитаж; я назвал ее Герцог. Эта собака, не отличавшаяся красотой, но редкой породы, стала моим спутником, моим другом и без сомнения заслуживала это звание более, чем многие из тех, кто его получил; она была знаменита в замке Монморанси своим преданным, ласковым нравом и привязанностью, нас с ней соединявшей. Но из очень глупого малодушия я переименовал ее в Турка, между тем как множество собак носят кличку Маркиз, и ни один маркиз на это не обижается. Маркиз де Вильруа, узнав о том, что я переменил кличку собаки, так пристал ко мне с этим, что мне пришлось поведать всем сидевшим за столом о своем поступке. В этой истории для герцогов было оскорбительным не столько то, что я дал псу такую кличку, сколько то, что я ее переменил. На беду, за столом сидело несколько герцогов: герцог Люксембургский, его сын, да и сам маркиз де Вильруа, который должен был со временем получить титул герцога и теперь носит его; он злорадно наслаждался, видя, в какое затруднительное положение поставил меня и какое это произвело впечатление. На другой день меня уверили, что герцогиня Люксембургская сильно журила за это своего племянника: можно представить себе, насколько этот выговор – если допустить, что он действительно имел место, – должен был улучшить его отношенье ко мне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































