Читать книгу "Плоть"
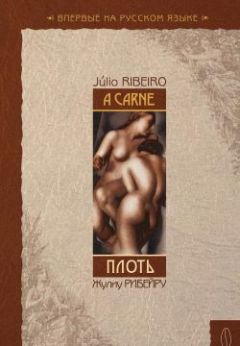
Автор книги: Жулиу Рибейру
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XVI
Ленита отослала служанку и стала спать одна у себя в комнате. Полковник удивился такому решению. Сказал, что это опасно, что Ленита может заболеть, что ночью у нее может случиться приступ и некому будет прийти ей на помощь.
Нет, ответила Ленита, она уже совершенно здорова и опасаться тут нечего. Кроме того, служанка громко храпит и не дает ей заснуть.
Часов в одиннадцать приходил Барбоза, ступая чуть слышно, входил в комнату и запирал дверь на ключ изнутри.
Дверные петли были тщательно смазаны, поэтому дверь отворялась без малейшего скрипа.
Замок был старинной португальской работы – обе скважины в нем совпадали – и, чтобы никто не мог подглядеть – хотя никто и не ходил мимо этой двери ночью,– Барбоза вешал на ключ свою шляпу.
Пользуясь полной, совершенной свободой, он уже не довольствовался тем, что обладает Ленитой. Его прельщал умственный грех, те самые mala mentis guadia, о которых говорит Вергилий. Ему хотелось созерцать, пожирать глазами великолепную пластику тела девушки – как во всем блеске волнующей наготы, так и украшенного модными изысками.
Он раздевал ее, придавал ей позу Венеры Милосской, располагая руки так, как, по мнению знатоков, они должны были быть у статуи, выпрямлял ей торс, заставлял выпячивать грудную клетку, чтобы яснее выступали ее вызывающие, крепкие, стоячие груди.
С помощью мощного рефлектора он отражал и направлял белый свет бельгийской лампы, набрасывая на девушку покров из мягких и живых бликов, располагаемых по всем правилам науки.
Он отходил, приближался, снова отходил. Он разглядывал, изучал Лениту и наслаждался ею, как Пигмалион – Галатеей, а Микеланджело – Моисеем.
Наступал момент, когда ему было не сдержаться. С хриплым, резким, сдавленным криком он бросался на нее, точно похотливый козел, а она бросалась ему навстречу – и оба падали на диван или на пол, сжимая друг друга в объятиях, кусая, пожирая друг друга.
Иногда он заставлял Лениту завиваться, затягиваться в корсет, украшать себя цветами, натягивать перчатки со всей изысканностью и причудами светской львицы, которая собирается на великосветский бал или на дипломатический раут.
Он помогал ей, беря на себя роль лакея, и лучился гордостью.
Вся эта женская роскошь, элегантность и кокетство – все это было для него, только для него и ни для кого больше.
При этом он осознавал собственную исключительность и испытывал эгоистическое наслаждение, подобно королю Людвигу Баварскому, который сидел в пустом театре и в полном одиночестве слушал оперу Вагнера, поставленную с необычайною пышностью и божественно исполняемую лучшими певцами.
Барбоза обожал теплую, ароматную нежность нагого тела Лениты. Но в порыве утонченного сладострастия он любил сжимать ей руки, затянутые в лайковые перчатки, любил ощущать тепло ее рук сквозь сеточку старомодных митенок, любил чувствовать ее живое тело сквозь чуть жестковатые кружева, сквозь тюлевые цветочки.
Вскоре ему стало не хватать этих ночных сладострастных игрищ, совершаемых втайне, при закрытых дверях. Ему хотелось расширить рамки для своих живых картин, хотелось более просторной сцены для эротических представлений, хотелось любви на вольном воздухе, при дневном свете, без всяких ограничений.
Под предлогом охоты он каждый день углублялся в лес вдвоем с Ленитой.
По дороге он шел в нескольких шагах позади нее, чтобы полюбоваться, как она перебирает пяточками, которые то и дело показывались из-под каймы ее легкого платья.
Это непрестанное, соблазнительное колыхание юбок в такт покачиванию бедер странным и необыкновенным образом возбуждало его.
Когда в лесу попадался глубокий овраг, темная пещера, окаймленная бамбуковыми зарослями полянка, он останавливался.
Под старым раскидистым деревом, возле молодой пальмы, расправляющей свои изумрудные веера навстречу снопам солнечного света, располагал он обнаженную девушку – со вкусом, как художник, и со знанием дела, как опытный распутник – так, чтобы свет делал еще белей ее кожу на темно-зеленом фоне тенистого леса.
Ленита соглашалась на все это с податливостью снисходительной царицы или принимавшей жертву богини. Она милостиво позволяла созерцать себя и благоговейно поклоняться своей плоти.
Снова и снова Барбоза любовался Ленитой, обходя ее со всех сторон. Концентрические круги, описываемые им, походили на те, что чертит в небе ястреб, готовый упасть на жертву. Он приближался, вставал на колени и, весь дрожа, затаив дыхание, целовал ей розовые ноготки и белоснежные пальчики ног, ласкал груди, гладил округлые бедра, клал голову на гладкий живот, зажмурив глаза, вдыхая и впитывая здоровый, соблазнительный запах возбужденной женской плоти.
Однажды в лесной глуши ему вспомнилась статуя Микеланджело «Утро», которую он когда-то видел на гробнице Медичи. Неровность, покатость земли навеяли это воспоминание.
Дрожащими руками принялся он раздевать Лениту, не расстегивая, а отрывая пуговицы и крючки. Увидев ее голой, он положил ее на мох, согнул ей левую ногу в колене и опер стопу на выступающий из земли камень. Потом согнул в локте левую руку так, чтобы кончики пальцев слегка касались плеча, а правую руку и ногу расположил так, чтобы они образовали плавную, мягкую линию, контрастирующую с резким, угловатым изгибом правой стороны тела.
Отойдя, он лег на землю ничком и пополз к ней, точно ящерица.
...
Ленита едва не лишилась чувств от наслаждения.
...
Однажды ночью Барбоза не пришел в спальню к Лените.
От волнения девушка не сомкнула глаз. На рассвете она встала с постели и, не заботясь, что кто-нибудь может ее увидеть, не предпринимая никаких предосторожностей, направилась в спальню к Барбозе, толкнула дверь и вошла.
Фитиль догоравшей свечи плавал в озерце растаявшего стеарина, накопившегося в чашечке подсвечника. Пламя мерцало и дрожало, то ярко озаряя комнату, то пропадая и оставляя спальню почти полностью погруженной во мрак.
Барбоза лежал на спине, сжимая пальцами виски, и стонал. Ленита склонилась над ним.
– Что с тобой? Что случилось? – спросила она.
– Ничего страшного. Обычная мигрень. Иди к себе, а то тебя увидят – светает уже.
– Да как я могу тебя оставить в такую минуту? Плохо же ты меня знаешь!
– Хорошо я тебя знаю. Я бы не просил тебя уйти, если бы ты была мне нужна, если бы могла чем-нибудь помочь. Но ты ничего не сможешь сделать. Это не болезнь, а просто плохое самочувствие. Я здоров, просто голова побаливает.
– Я хочу остаться. Не могу видеть, как ты мучаешься. Со мной тебе станет легче.
– Не станет. Будет только хуже. Это пройдет. Уходи, прошу тебя, уходи!
Ленита ушла, совершенно расстроенная.
Мигрени у Барбозы были ужасны. Начинались они с тупой головной боли. Мало-помалу несчастному становился не мил весь свет. Он ощущал страшный упадок сил и вялость. Лицо бледнело, правый зрачок расширялся. Малейшее движение причиняло ему муку, ничтожнейшее усилие делалось невозможным. Он не держался на ногах, ему непременно нужно было лечь. По лбу катился холодный, ледяной пот. С правой стороны вздувалась височная артерия, глазное яблоко сжималось, словно на него сильно надавливали, и малейшее прикосновение к нему вызывало нестерпимые страдания. Темя болело так, будто в него вогнали гвоздь. При каждом ударе пульса чудилось, что гвоздь все глубже забивают в череп. Желудок наполнялся желчью. Крайняя слабость вызывала необходимость чем-нибудь подкрепиться, однако сама мысль о еде представлялась ему невыносимой. Перед глазами мелькали искры, огненные мухи. Легчайший шум, словно многократно усиленный адским эхом, казался страшным грохотом, неистово терзавшим ухо. Он не мог думать, ему было не сосредоточиться.
Если бы в такую минуту к Барбозе пришли с вестью, что пожар пожирает его драгоценные книги, что его родители погибли в огне,– он ничего не смог бы сделать и даже пальцем бы не пошевелил – воля у него была полностью парализована.
И это невыносимое страдание, эта бесчеловечная пытка длилась целый день.
* * *
Рассвело.
Как только открылись двери и на фазенде началась жизнь, Ленита вернулась в спальню к Барбозе и села у него в изголовье, раздумывая, чем бы ему помочь и как вообще следует поступать в подобных случаях.
– Ничего, ничего не надо делать,– нетерпеливо повторял Барбоза,– это все от нервов и со временем пройдет, к вечеру будет все в порядке.
Ленита с удивительным тактом, словно умелая и опытная сиделка, поправила ему подушки так, что он почувствовал облегчение. Отворив шкаф, среди множества пузырьков она отыскала нужную микстуру и чуть ли не силой заставила его принять две полные столовые ложки.
Ощупав его ледяные ноги, она велела принести бутылку горячей воды, завернула его в полотенце, положила в ноги Барбозе и укутала одеялом, да так, что он почти не ощутил боли, причиняемой движениями.
Стоны Барбозы понемногу стихали, слабели и, наконец, вовсе прекратились – он заснул.
Спал он долго – часа два, не меньше.
Ленита не оставляла его ни на минуту. Она неподвижно сидела в изголовье и молча оберегала сон Барбозы.
Вдруг он проснулся, резко сел и нетерпеливым, раздраженным жестом велел ей уйти.
Ленита не подчинилась.
Барбоза, бледный, с перекошенным лицом, кое-как открыл прикроватную тумбочку, достал ночной горшок, поставил на постель рядом с собой и встал на колени.
Брюшной пресс, желудок, диафрагму и пищевод свела сильнейшая судорога. Скулы резко обозначились у него на бледном, исхудавшем лице. Изо рта хлынула струя желтой, пенистой желчи, залив дно и забрызгав стенки горшка.
Приступ рвоты повторился, за ним последовал еще и еще один. Извергаемая безо всякого усилия желчь была уже не желтой и не пенистой, а зеленой, чистой и прозрачной.
Ленита, чье лицо выражало глубокое сострадание, поддерживала Барбозу за взмокший от испарины лоб.
Обессилев, Барбоза грузно рухнул на подушки, постонал еще немного и снова заснул.
Ленита велела вынести, вымыть и принести назад горшок и опять заняла свой пост у изголовья больного, любовно оберегая его уже спокойный сон.
Когда ее позвали завтракать, она вышла бесшумно, на цыпочках.
Когда она рассказала полковнику о болезни сына, тот ответил, что ничего страшного нет, что мигреням от подвержен с малолетства, что с возрастом он их переносит легче, а приступы бывают все реже.
Ленита вернулась в спальню к Барбозе.
После полудня Барбоза проснулся. Чувствовал он себя выздоровевшим, посвежевшим. Он проголодался и велел принести поесть.
Глава XVII
Давно уже началась новая варка сахара. В самый ее разгар произошло несчастье. Мальчишка-креол попал рукой в цилиндр на сахароварне, и ему ее размозжило.
Увидев несчастного ребенка, попавшего в бездушный механизм, негр, его отец, взял попавшийся под руку стальной рычаг и засунул между шестерней.
Послышался грохот ломающихся металлических деталей. Механизм остановился.
Негритенку спасли жизнь, но мельницы пришли в негодность. Шестерни, рукоятки, оси – все было сломано.
– Вот уж бес попутал: в самый разгар варки – такая беда! – произнес раздосадованный полковник.– Креольчик-то ладно – останется калекой, да убыток-то с этого невелик. Хуже, что приходится прервать варку, когда все шло так хорошо,– вот уж не вовремя, так не вовремя, а на дворе уже 28 сентября!
Ремонтировать мельницу он не хотел, поскольку это заняло бы много времени и весь урожай бы пропал.
Решено было, что на следующий день Барбоза поедет в Ипанему поговорить с доктором Мурсой насчет того, чтобы через несколько дней установить новую машину.
Ленита, узнав о его предстоящей поездке, была огорошена, побледнела и едва не лишилась чувств. Она-то не забыла, сколько пришлось ей выстрадать, когда Барбоза ездил в Сантус еще до того, как стал ее любовником, и когда она сама не была уверена, что любит его. Что же станется теперь, когда все так переменилось? Это будет несказанная, невыносимая, адская пытка.
Но вышло иначе.
Ленита помогла Барбозе собраться в дорогу, не почувствовав и сотой доли того, что ощущала в прошлый раз. Сладострастие, необузданная ночь, проведенная перед прощанием, измучили ее.
Она сама поразилась произошедшей в ней перемене – стала холодной, равнодушной и даже раздраженной. Барбоза показался ей грубым, вульгарным, наглым, смешным и нудным.
Перед отъездом она пожала ему руку; видела, как он взбирается на коня, дергает за поводья и пропадает вдали за облаком дорожной пыли; разглядела, как он помахал рукой на прощание, исчезая из виду за холмом.
Она не опечалилась и не ощутила вокруг себя пустоты. Напротив, ей хотелось побыть в одиночестве, наедине с собою, пользуясь полной свободой мыслить и действовать.
Тем не менее, ее тщеславие тешила мысль, что Барбоза непрерывно станет думать о ней, только о ней, что ее образ не изгладится у него из памяти, что всякое его действие будет предприниматься исключительно ради нее.
Будучи тонким аналитиком, она не заблуждалась насчет своих нынешних чувств: в наслаждении, которое ей доставляла покорность Барбозе, она испытывала скорее удовлетворенную гордость, нежели радость разделенной любви.
Она пошла в спальню Барбозы и стала прибирать его вещи, книги и газеты, разбросанные по столу, по стульям и мраморной тумбочке.
Никто во всем доме, включая самого полковника, не удивился такой заботливости – крепкая и близкая дружба, установившаяся между ней и Барбозой, была веским тому основанием. Всем казалась вполне естественной роль экономки, которую она взяла на себя.
Между тем в негритянских хижинах вольные отношения Лениты и Барбозы уже становились предметом пересудов, на которые столь падка черная раса. Негры и особенно негритянки шушукались, обсуждали охоту, на которой не добывалось никакой дичи, болтали всякую чушь.
Выдвинув ящик письменного стола Барбозы, чтобы достать какую-то мелочь, Ленита наткнулась на овальную черепаховую шкатулку, инкрустированную металлом и перламутром.
Ленита открыла ее машинально, безо всякого любопытства. Внутри она обнаружила четыре сложенных листка бумаги, сильно позеленевший медальон с изображением Богородицы, засохшие цветы и несколько клубочков белой пряжи.
Что за чертовщина? Барбоза неверующий, так на что ему медальон? А клубочки шерсти? Наверняка они упали с бального платья, в которое облачалась женщина, стремившаяся попасть к нему в дом, к нему в спальню, к нему в постель. А засохшие цветы? А бумаги? Ах да, бумаги... Бумаги наверняка содержали разгадку, ключ ко всем тайнам.
Развернув первый листок, она обнаружила тонкий локон каштановых, почти черных, атласных волос.
Развернула второй. Это оказалась записка в несколько строчек, написанная изящным, убористым, округлым женским почерком. В записке говорилось:
Непременно приходите в субботу. Если не придете, я рассержусь. Я все время думаю о вас. Прощайте.
Ленита побледнела и закусила губу. Глаза у нее метали молнии. Дрожащими руками развернула она третью бумагу – большой плотный лист фирмы «Фиуме». Она была исписана почерком Барбозы – некрасивым, не очень разборчивым курсивом. Не оставалось сомнений, что это разрозненные впечатления, нанесенные на бумагу по горячим следам – бессвязные, то и дело прерываемые отточиями.
Ленита прочла:
Поезд был готов к отправлению.
Она стояла на платформе вокзала Лус, с мужем, кого-то провожая. Она поглядела на меня, а я на нее. Она опустила свои большие зеленые глаза и покраснела. Левой рукой она с видимым отвращением держала под руку мужа, а правая – тонкая, изящная, белая – безвольно повисла вдоль тела. Перчаток на ней не было. На безымянном пальце сверкало кольцо с крупным камнем. Подняв глаза, она пристально посмотрела на меня, снова потупилась, выставила правую ногу – очаровательную ножку, и недовольно притопнула. Муж сказал ей что-то по-немецки, и она ответила на том же языке. Они пошли прочь, и я последовал за ними. Они сели на трамвай, который шел из Санта-Сесилии.
...
зеленые глаза
...
любовь
...
прелесть
...
Я снова увидел ее.
Это было в Гранд-Отеле. Она ужинала за столом, поставленным посреди зала, спиной ко мне. Она откинулась на спинку кресла, чуть склонившись влево. Ее правая нога, закинутая на левую, нервно покачивалась. Ножка у нее маленькая, затянутая в ярко-красный чулок и обутая в туфельку от Кларка, открывающую восхитительную круглую пяточку. Левая ножка твердо стояла на полу. Подол платья, из-под которого виднелась белоснежная кружевная кромка нижней юбки, широкими складками распластался по креслу. Ветерок, проникавший сквозь стрельчатые окна, шевелил золотистые завитки у нее на затылке. Еще больше наклоняясь влево, она грациозно встала. Ее движение подчеркнуло пышные груди, поддерживаемые туго затянутым корсетом, в соблазнительном контрасте с тонкой талией.
Четвертый листок, пожелтевший, истрепанный, сложенный в несколько раз, содержал стихи, тоже написанные рукой Барбозы.
Ленита прочла:
М.И.
Ты красива или нет
И какие будишь чувства?
Набросаю твой портрет
Я по правилам искусства.
Бледность впалых щек твоих
С розой не идет в сравненье —
Желчный, злобный нрав она
Обличает, без сомненья.
Помню, как твои глаза
Цвета оружейной стали,
Словно мутное стекло,
Тусклой серостью блистали.
При беседе у тебя
Нервно вздрагивают губы —
Только в нижнюю губу
Вечно ты вонзаешь зубы.
Непрестанно теребишь
Ты изящные ладошки,
А в походке у тебя
Что-то есть от дикой кошки...
Все-таки пленился я
Броской внешностью твоею!
Знай – тебя я не люблю,
Но невольно вожделею.
Девушка поразилась. В душе у нее образовалась невосполнимая пустота. Все ее иллюзии рухнули.
Она знала, что в Европе Барбоза женился. Это было до их знакомства, и потому она была не вправе его упрекнуть, что когда-то он любил свою жену и, может быть, не перестает ее вспоминать.
Но здесь-то речь шла не о жене, а, по крайней мере, о трех женщинах – одна из них темноволосая и, следовательно, черноокая или кареглазая; другая – та, о которой говорится в прозаическом отрывке,– с зелеными глазами; и третья – героиня бездарных стишков, у которой серые, стальные глаза.
А кто его знает – может, их было шесть или целых семь? Записка могла быть написана четвертой женщиной, позеленевший медальон подарен пятой, засохшие цветы – шестой, а шерстяные клубочки вполне могли принадлежать седьмой.
И что такое эти клубочки, как не сувениры, любовные трофеи, собранные, конечно же, с измятой постели, с жарких еще простыней после бурно проведенной ночи?
Этот человек оказался развратником, Дон-Жуаном низшего пошиба, а она, Ленита, стала всего-навсего одной из его многочисленных любовниц.
Кто бы мог подумать, что дар, который она принесла ему, пропадет втуне и ничего не прибавит к этой гнусной коллекции?
Вот к чему привела ее гордость своим полом и самою собою!
Любовница распутника, наложница пожилого женатого мужчины, хранившего трофеи своих побед... Прекрасно! Замечательно!
Она была наказана и решила, что поделом.
Взыскуя познаний, она стремилась возвыситься над другими женщинами, но древо познания оказалось с червоточиной.
Ей хотелось взлететь в заоблачные дали, но плоть тянула ее к земле, она покорилась и пала – пала, словно птица, которой подрезали крылья, и покорилась, точно безропотная корова на лугу. Противница общественных условностей, она поставила себя вне закона общества – и была наказана собственной совестью, которая показала, насколько она в самом деле ниже презираемого ею общества.
Безумием было бы в одночасье разрушить то, что эволюция вырабатывала на протяжении сотен тысяч лет. Общество право: оно зиждется на семье, а та, в свою очередь, на браке. Любовь, не освященная созданием семьи, законным, признанным, открытым, честным браком,– это не любовь, а скотство и распущенность. Нет, она не любила Барбозу – это была не любовь. Она искала его и отдалась ему из-за плотской немощи, из-за смятения чувств, из-за невроза. Как мифическая Федра, как библейские дочери Лота, как супруга императора Клавдия, она пала под тяжестью плоти и, подталкиваемая знатным развратником, низринулась в бездну, позволила смешать себя с грязью. Нет, не любила она Барбозу, не любила. Ее чувство было не более чем затянувшимся порочным влечением, преступной страстью. Первое впечатление, которое он на нее произвел, было весьма неприятным – а ведь говорят, что первая мысль – самая верная, потому что возникает в непредвзятом сознании. В момент знакомства она могла бы оценить истинное лицо Барбозы и догадаться, как низко он пал. Невинная голубка, она сама напросилась в когти к ястребу, который ее растлил, не только лишив девственности, но и пробудив порочные чувства...
Второпях она запихала все обратно в шкатулку, бросила ее в ящик, который с грохотом закрыла, вышла из комнаты, вошла к себе в спальню, заперлась изнутри, кинулась на кровать и разрыдалась.
Вдруг она поднялась.
«Что же это такое?» – спросила она себя. Неужели ей пристало лить слезы, как какой-нибудь горничной, которой овладел сын хозяйки? Нет, конечно! Она пала, но пала сама по себе – к этому привела ее плоть и ее нервы. Мужчина здесь не при чем – он был просто орудием. Таковым оказался Барбоза – но на его месте мог оказаться управляющий, да хотя бы и сам старый полковник. Ею овладела похоть, которую она взяла и насытила...
Тут ужасная мысль обожгла ей мозг.
С недавнего времени – примерно месяц назад – она стала замечать странные изменения в своем самочувствии и поведении: стала раздражительной и нетерпеливой. Любой пустяк, любая мелочь могли вывести ее из себя. Ела она какие-то крохи. Уже сам вид накрытого стола внушал ей отвращение, чуть ли не тошноту. У нее изменился вкус, и когда разыгрывался аппетит, ей хотелось чего-нибудь необычного. Однажды на краю оврага она увидела растение карагуата[24]24
Растение семейства бомелиевых.
[Закрыть], стала рвать с него ягоды и обожгла рот их кислым, едким соком.
С большим удивлением, не понимая почему, она чувствовала, что Барбоза больше не вызывает у нее восхищения. Его тирады, его научные рассуждения, при всей их правильности и справедливости, наскучили ей. Он стал казаться ей нескладным, вульгарным, самонадеянным. Он сделался ей противен – ей даже чудилось, что от его тела и одежды пахнет чем-то вроде мышиного помета. Его ласки внушали ей отвращение, и в последнее время она действительно от них уклонялась.
Ей вспомнилось изречение Рабле: «Les betes sur-leurs ventrees n’endurent jamais le male masculant»[25]25
«...брюхатые самки животных ни за что не подпустят к себе самцов» (Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод с французского Н.М.Любимова)
[Закрыть].
Неужели она беременна?
Подбежав к комоду, она выдвинула ящик, достала карманный календарик и принялась лихорадочно его листать. Было 20 августа, а последний день, помеченный красным крестиком, был 29 июня – праздник святых апостолов Петра и Павла. Пауза длилась уже пятьдесят два дня...
Она расстегнула корсаж, спустила с плеч рубашку, выпростала левую грудь. Грудь была округлой и крепкой, в чем Ленита убедилась, наклонив голову и выпятив нижнюю губу. Сосок, прежде бледно-розовый и почти незаметный, потемнел, побурел и покрылся пупырышками. Сомнений не осталось – она беременна.
Она чувствовала или ей казалось, что у нее в матке что-то шевелится. В тот же миг ею овладела беспредельная, неописуемая нежность к существу, которое делает первые движения и просится на свет Божий. Это было предвестие бури, половодье чувств, нахлынувших на нее, словно вода из разрушенной плотины. В пронзившей ее громадной любви Ленита признала чувство, так смешно превозносимое слезливым романтизмом и в то же время столь эгоистичное, столь человечное и вместе с тем столь животное – радость материнства.
– Что же теперь делать? – задалась она вопросом и без колебаний ответила себе: – Вынашивать, родить, воспитать ребенка, узнать себя в нем, стать матерью.
Двое суток сидела она взаперти и выходила из комнаты только чтобы поесть.
На третий день, в четверг за завтраком она сообщила полковнику, что в воскресенье собирается в город, а оттуда – в Сан-Паулу, что весь ее скарб собран, а чемоданы упакованы; их нужно сложить в фургон, а сама она поедет в бричке; если она выедет рано утром, то успеет примерно за час до отхода поезда.
– Что это за новые причуды, Ленита? – изумился полковник.– Что это ты ни с того ни с сего собралась в Сан-Паулу?
Настойчивость Лениты была непоколебимой, поэтому полковник предложил хотя бы подождать, пока Барбоза вернется из Ипанемы и проводит ее – одной ей ехать нельзя, а сам он страдает ревматизмом и не сможет проводить ее.
– Пусть негр проводит меня до города,– стояла на своем Ленита,– а на поезде мне попутчик не нужен. Не ехать я не могу.
Мольбы парализованной старухи и уговоры полковника цели не достигли.
Фургон с багажом отправился в субботу вечером, а в воскресенье рано утром Ленита надела пыльник и широкополую шляпу, со слезами обняла старуху, а потом и полковника, который плакал, как дитя, села в бричку и поехала.
– Девочка! – кричал ей вослед полковник, задыхаясь и вытирая глаза.– Дурная у тебя голова, зато сердце доброе, и я взаправду тебя люблю. Если что – не забывай, что мы с твоим дедушкой были как братья, а твой отец мне был вместо сына. И я всегда готов тебе помочь, чем смогу.
И прибавил про себя:
– Ладно, хоть успела поохотиться да позаниматься своей физикой да ботаникой. И хорошо, что Мандука приехал из Парапанемы. А где теперь Ленита? Ищи-свищи!








































