Текст книги "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"
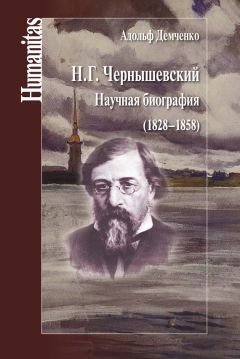
Автор книги: Адольф Демченко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Вскоре деятельность протоиерея Чернышевского распространилась и на губернию. Как член духовного правления он был назначен к губернатору (им с 1828 г. стал Александр Борисович Голицын) депутатом с духовной стороны для увещания раскольников. Раскольники преследовались государством и церковью как люди, подрывающие основы христианской религии. Они организовывали различные религиозные секты, имели в 1820-х годах в Саратовской губернии четыре монастыря, более полусотни часовен. Всего раскольников числилось тогда по губернии около 40 тысяч человек. Это была сравнительно большая цифра, обязывающая слуг православия к постоянной пропагандистской, миссионерской деятельности.
Наиболее известными и распространенными на Саратовщине были секты поповцев, поморцев, молокан и спасовцев. Почти все они отвергали современные христианские молебные книги и иконы, поклоняясь только иконам старой живописи и почитая достоверными только книги старинной печати и старинные рукописные религиозные фолианты. Поморцы, например, на молитвах никогда не поминали имя царя. Исповедующие спасовщину и молокане отвергали таинства крещения и причащения. Некоторые из поморцев сорганизовывались в самостоятельные секты субботников, члены которой следовали иудейской религии. Не поддерживая единой православной веры, раскольники подрывали один из основных догматов российского государства. Со временем они становились все более заметной и усиливающейся оппозиционной политической силой и потому подвергались гонениям как со стороны государственной власти, так и со стороны церкви. Не случайно почти все революционные партии всегда учитывали в борьбе с самодержавием силу раскольнического движения. «Движение это, – писал В. Бонч-Бруевич, – полное сильного протеста, было весьма интересно, оригинально и являло собой новое доказательство жизнетворчества русской народной крестьянской массы».[70]70
Бонч-Бруевич В. Новый опыт истории сектантства и старообрядчества в России // Современник. 1912. Кн. 8. С. 324.
[Закрыть]
Ближайшим поводом для новых и новых притеснений раскольников служили обыкновенно основанные на грубом суеверии многочисленные акты самоубийства или насильственной смерти. Так, в 1827 г. один из старообрядцев-суеверов зарезал несколько человек, добровольно подвергшихся мученической смерти, чтобы скорее войти в царство небесное.[71]71
Леопольдов А. Статистическое описание Саратовской губернии, в двух частях. СПб., 1839. С. 170.
[Закрыть] В 1828 г. Г. И. Чернышевскому пришлось соприкоснуться с другим ужасным последствием упорного невежества некоторых сектантов: на всю губернию нашумело дело о массовом самоубийстве 35 человек спасовой секты, находившейся в селе Копёны имения графини Гурьевой Аткарского уезда. Рассказы об этом событии «были еще свежи в начале моего детства», – вспоминал Н. Г. Чернышевский (I, 642).
Наставником копенских спасовцев был И. С. Бездельев, который жил в 30 верстах от Саратова в скиту Формозовского буерака. Со временем среди копенцев возникла самостоятельная группа во главе с семьей Юшковых (Юшкиных), которые в противовес Бездельеву, возлагавшему надежды на «спасову милость», призывали к «самоубийственной смерти». Предсказывая близкое пришествие антихриста, Алексей Юшков пытался в 1802 г. осуществить массовое самоубийство, но местные крестьяне, не принадлежавшие к секте, помешали ему. Секта тогда же была разгромлена, а её глава арестован. А. Юшков отбывал ссылку в Аренсбургской крепости на острове Эзель с 5 марта 1802 г.[72]72
Чешихин Е. Сектант Юшков // Русский архив. 1888. № 2. С. 313–314.
[Закрыть] Отбыв наказание, 70-летний А. Юшков вернулся в Копёны после 1810 г. и 1819 г. или несколько позже вместе с одною своею последовательницею принял «самоубийственную смерть». По-видимому, это подняло упавшие с 1802 г. настроения сектантов, среди которых постепенно сложился новый руководящий центр во главе с И. Юшковым – сыном самоубийцы. В ночь на 1 марта 1827 г. он организовал и провел массовое добровольное убийство двух семей в 35 человек, полностью, от полугодовалого ребенка до 70-летнего старика: у семи из них было перерезано, у остальных перерублено горло. 40 человек копенцев-спасовцев не повиновались И. Юшкову.[73]73
Чернов С. Н. Примечания // I, 809. См. сведения о бытовой стороне саратовского раскола: Исторические очерки беглопоповщины на Иргизе в 1762–1866 годы // Сборник для истории старообрядчества, издаваемый Н. Поповым. Т. П. Вып. V. Сочинение П. Любопытного. М., 1866. См. также: Леопольдов А. А. О расколе в Саратовской епархии // Труды СУАК. Вып. 23. 1903; Скворцов Г. А. О расколе // Труды СУАК. Вып. 32. 1915.
[Закрыть]
Миссионерские действия протоиерея Чернышевского, вносившего в грубые и беспощадные приемы гражданских и полицейских администраторов живое сочувствие и человечность обхождения, были столь успешны среди копенцев, что некоторые старообрядцы решились перейти в православную церковь и никаких беспорядков в связи с происшедшим в уезде не случилось. Все остальные поручения губернатора, относящиеся к раскольникам, он исполнял не менее усердно. Высоко оценивая деятельность Г. И. Чернышевского, саратовский начальник губернии лично обратился 24 июня 1828 г. к епископу Иринею с просьбой «украсить благочестивого протоиерея присвоенною белому духовенству наградою камилавки».[74]74
По общему государственному законоположению духовенство в России разделялось на две категории: высшее (архиереи) и низшее (архимандриты, игумены, протоиереи, священники, дьяконы и пр.). Кроме того, духовенство делилось на белое и чёрное (принявшее монашество).
[Закрыть] Преосвященный не возражал, и Голицын обратился со своим ходатайством к обер-прокурору святейшего правительствующего синода князю П. С. Мещерскому, настаивая именно на камилавке, хотя Чернышевский «не имел ещё узаконенных лет на таковые награды». Упоминая о копёнском деле, губернатор писал, что «сей отличный протоиерей» «весьма много оказал опытов своего благоразумия и истинного сознания религии». 15 ноября Голицын получил уведомление о решении царя наградить Чернышевского бархатною фиолетовою скуфьею, поскольку синод «признал разновременным удостоить означенного протоиерея испрашиваемым ему знаком отличия».[75]75
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83.
[Закрыть]
Христианское веропроповедничество Г. И. Чернышевского среди раскольников и язычников продолжалось и в последующие десятилетия и особенно интенсивно при епископе Иакове, правившем саратовской епархией в 1832–1847 гг. Делом особой важности считал Иаков борьбу с расколом на Саратовщине и прибегал нередко к самым жестоким полицейским преследованиям упорствующих иноверцев. Как лицо подчинённое Гаврила Иванович участвовал вместе со своим родственником протоиереем Ф. С. Вязовским во многих экспедициях Иакова.[76]76
Представляет интерес документ от 12 апреля – 24 мая 1837 г., известный по копии Н. А. Алексеева. Из него следует, что Г. И. Чернышевский представил епископу Иакову, а через него синоду записку с предложением ряда мер по борьбе с расколом: сектантам выдавать именной список за подписанием полицмейстера для внесения в оный вновь родившихся и умерших; запретить своевольный переход из одной секты в жругую; завести шнуровую книгу прихода и расхода денег, упразднить некоторые молитвенные дома. Император счёл предлагаемые пункты «неудобными, ибо оные согласуются с теми правилами, коими руководствуются вообще священники при церквах, между тем как раскольнические действия не признаются законными», и повелел «сделать преосвященному Саратовскому надлежащее по сему предмету наставление». 3 мая 1837 г. синод постановил: «Составленные протоиереем Чернышевским и принятые им, Преосвященным, за полезные к уничтожению раскола предположения <…> представляются вовсе неуместными и не только сомнительными в достижении желаемой цели – уменьшения и самого уничтожения раскола, но даже опасными и служащими некоторым поводом к введению в раскольническом обществе нового порядка и устройства» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 53. Л. 1–3). См. также опубликованный С. Н. Черновым документ, свидетельствующий о причастности Г. И. Чернышевского к репрессиям против раскольников (I, 809–810) и статью: Лебедев А. Отец Н. Г. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 19. С. 178–193 (публикация И. Е. Захаровой). Миссионерская деятельность Г. И. Чернышевского распространялась и на иноверцев. Так, 8 декабря 1844 г. он сообщал епископу: «На день приезда моего в Волгск состояло кантонистов-евреев 67, из них обратились в христианскую веру 15» (РОРГБ. Ф. 505. Карт. 1. № 2. Л. 94 об.). Одного из еврейских мальчиков Г. И. Чернышевский записал на своё имя и дал ему свою фамилию. Это Александр Гаврилович Чернышевский, которого Николай Чернышевский звал своим наречённым братом. А. Г. Чернышевский и некоторые из его родственников потом долгое время работали в системе школьного образования. См.: Руднева Я. Б. М. А. Чернышевская: из жизни провинциальной «эмансипе» // Чернышевский. Вып 19. С. 201–210. Дети А. Г. Чернышевского: Ольга (1860), Мария (1862), Константин (1864), Антонина (1868), Анна (1870), Михаил.
[Закрыть] Однако суровость административных мер зачастую не вызывала в душе обоих протоиереев полного согласия. «Они оба, – писал Н. Г. Чернышевский, на глазах которого протекала миссионерская деятельность отца, – были люди искренно-верующие, конечно; но люди, не делавшие дурного. Через их руки проходило много дурных дел; они смягчали их, уничтожали их, сколько могли. Мало могли; мало; архиерей (Иаков) был осёл-фанатик; впрочем, даже и это не очень важно было; но дела о расколах, о ересях возникали и велись помимо архиерея и помимо всей духовной администрации саратовской епархии, и мало могли делать в защиту раскольников и тому подобных людей Фёдор Степанович и мой отец; но, что могли, делали» (XV, 250). Авторитетное свидетельство сына многое объясняет в характере этой стороны деятельности Гаврилы Ивановича, начало которой было положено в первые же годы его восхождения по ступеням церковной иерархии.
В послужной формуляр Г. И. Чернышевского в 1828 г. сделаны ещё два вписания. «Мая 21 по предположению преосвященного Иринея, данному Пензенской духовной консистории, определён саратовским градским благочинным» – эту новую и очень почетную должность он исправлял 15 лет. Благочинный являлся прямым посредником между архиерейской властью и священниками города, и его первой обязанностью было наблюдение за поведением и нравственностью священнослужителей. Весьма показательно для характеристики Г. И. Чернышевского, что его назначение благочинным городских церквей состоялось вскоре после специального царского повеления (от 17 марта 1828 г.): «В благочинные выбирать священников примерного поведения, недеятельных из них немедленно удалять».[77]77
Минх А. Н. Быт духовенства Саратовского края // Труды СУАК. Вып. XXIV. С. 60.
[Закрыть]
В том же году (30 декабря) Г. И. Чернышевский назначен членом духовной консистории – высшего епархиального органа власти. Таким образом, в год своего 35-летия Гаврила Иванович получил самые высокие и почётные для священника посты, какие только существовали в епархии. Оставалась лишь должность кафедрального протоиерея, но и её он получит в 1856 г., после смерти Ф. С. Вязовского.
Назначение присутствующим в духовную консисторию было особо памятным, так как состоялось в день открытия саратовской епархии и её основных учреждений – духовной консистории, епископской кафедры со штатом архиерейского дома и кафедрального собора.[78]78
Сар. еп. вед. 1878. № 12. С. 219–220.
[Закрыть] Кроме того, ему была поручена благодарственная речь, которую он произнёс на торжественном церемониале открытия епархии в присутствии первого саратовского епископа Моисея, губернатора А. Б. Голицына, почётных граждан города, многочисленных чиновников и священников.[79]79
Речь Г. И. Чернышевского опубликована: Сар. еп. вед. 1865. № 8. С. 19–20.
[Закрыть] Одновременно с Чернышевским членом консистории стал Ф. С. Вязовский, в то время состоявший на священнической вакансии Александро-Невского собора, а несколько позднее – кафедральный протоиерей.[80]80
Фёдор Степанович Вязовский (1791–1856) – муж М. И. Кирилловой, родной сестры Пелагеи Ивановны Голубевой. Точная дата его смерти устанавливается по письму Г. И. Чернышевского к сыну от 15 августа 1856 г.: «Вчера в 11 часов вечера скончался твой крестный папенька о. протоиерей Фёдор Степанович Вязовский» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп.1. Д. 495. Л. 283 об.). Вместе с Г. И. Чернышевским и Ф. С. Вязовским первыми членами саратовской духовной консистории был архимандрит Арсений, служивший в Спасопреображенском монастыре, и протоиерей Н. Г. Скопин (Сар. еп. вед. 1865. № 5. С. 29).
[Закрыть]
Несмотря на высокие для саратовской епархии должности, протоиерей и благочинный Чернышевский был совершенно чужд кичливости и чиновного чванства. Он не принадлежал к людям, которых боялись и которые вызывали подобострастный трепет у окружающих, особенно подчинённых: «Мой батюшка был не такой человек», – писал об отце Н. Г. Чернышевский, рассказывая о своих ранних юношеских впечатлениях (I, 591). «Он имел власть и подчинявшихся этой власти. Но едва ли когда-нибудь эта олицетворённая кротость возвысила голос или наморщила чело, видя проступки подчинённых ей», – свидетельствовал современник.[81]81
Палимпсестов Ив. Н. Г. Чернышевский. С. 554.
[Закрыть] И это в эпоху, когда, по словам осведомлённого историка, «благочинные были чистые князьки, держали себя надменно с остальным духовенством и обирали их сильно; священник даже у себя в доме не смел сесть при благочинном».[82]82
Минх А. Н. Быт духовенства Саратовского края // Труды СУАК. Вып. XXIV. С. 60.
[Закрыть]
Вот портрет Г. И. Чернышевского, оставленный близко знавшим его современником: «Он имел осанку, невольно внушавшую уважение; тихая плавная поступь; чистое, замечательной белизны, с легким оттенком румянца лицо, шелковистые, отчасти волнистые, светло-русые волосы, самых скромных размеров такого же цвета борода; дышащие неподдельною добротою глаза; тихий, отзывающийся какою-то задушевностью голос (с слабым оттенком шепелявости); необыкновенная плавность и логичность речи; сосредоточенность взора над тем, к кому он был обращён, как будто чрез эту сосредоточенность говорилось: смотри на меня, сердце моё откровенно с тобою».[83]83
Палимпсестов Ив. Н. Г. Чернышевский. С. 554. Основные даты жизни и деятельности Г. И. Чернышевского собраны в работе: Захарова И. Е. Материалы к биографии Г. И. Чернышевского // Чернышевский. Вып. 18. С. 125–128.
[Закрыть]
В 1828 г., столь наполненном для Г. И. Чернышевского важными событиями, случилось ещё одно, пожалуй, самое значительное: родился сын. В молитвеннике появились строки: «1828 года июля 12-го дня поутру в 9-м часу родился сын Николай. – Крещён поутру 13-го пред обеднею. Восприемн<иками> протоиерей Фёдор Стеф<анович> Вязовский, вдова протоиерейша Пелагея Ивановна Голубева».[84]84
Ляцкий Е. Н. Г. Чернышевский в годы учения. С. 50. В архиве фонда саратовской духовной консистории хранится выписка из метрических книг 1828 г. Саратовской Нерукотворённо-Спасской церкви, и здесь сказано о Н. Г. Чернышевском, что «восприемниками ему были: протоиерей Фёдор Степанович Вязовский, пензенской семинарии профессор г. Магистр Василий Сергеевич Воронцов, вдова протоиерейша Пелагея Ивановна Голубева». В копии же свидетельства, подлинник которого выдан Н. Г. Чернышевскому в 1846 г., фамилия В. С. Воронцова вычеркнута (ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 1925. Л. 3, 5; Лебедев А. А. Николай Гаврилович Чернышевский (по неизданным материалам) // Русская старина. 1912. Январь. С. 91). Был ли В. С. Воронцов крестным отцом Н. Г. Чернышевского или имя его почему-либо вычеркнуто позже, установить не удалось. Однако всё же в одном отношении упоминание о профессоре Пензенской семинарии важно: оно свидетельствует, что Гаврила Иванович поддерживал связи с бывшими коллегами по Пензенской семинарии даже спустя много лет.
[Закрыть] Сыну суждено было жить, он так и остался единственным ребёнком в семье протоиерея.
Однажды, на 21 году жизни, Н. Г. Чернышевский написал в студенческом дневнике: «Не буду ли после недоволен папенькою и маменькою за то, что воспитался в пелёнках, так что я не жил, как другие, не любил до сих пор, не кутил никогда, что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это самое развитие приняло, может быть, ложный ход, – может быть» (I, 49–50). Возникшее под впечатлением порыва сомнение, бывало, возобновлялось. Но в основном позднейшие высказывания о характере семейного воспитания исполнены сознанием его неложности, положительности, правильности. Выражения «воспитался в пеленках», «не знаю жизнь», «не знаю людей» возникали чаще всего в контексте озорных и внешне привлекательных мыслей о кутежах. Впоследствии понял: жизнь и людей он научился понимать верно и глубоко во многом благодаря тому воспитанию, которое получил в ранние годы. Вот некоторые прямые автобиографические высказывания Чернышевского на этот счет: «Благодаря дельности и рассудительности моих старших, я, подобно моим кузинам и кузенам, очень рано привык понимать характер жизни, в которой рос» (XII, 498); в семье «я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой продолжительный, близкий пример в такое время, как детство, не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло» (I, 680–681). Необходим развёрнутый биографический комментарий этих высказываний, чтобы выяснить, как и по каким линиям шёл процесс воздействия воспитательных элементов на формирующееся сознание и на душевный склад, какие именно стороны и факты семейного воспитания и окружающей саратовской жизни связаны с будущими теоретическими воззрениями писателя-демократа, или, словами Чернышевского, «как и что влагала жизнь в голову и в сердце» (I, 567).
Ко времени рождения Николая (Николи, Николеньки) семья Чернышевских и Голубевых уже составляла единое целое и в бытовом и нравственном отношениях. После смерти Николая Михайловича Котляревского (1828), мужа младшей из сестёр Голубевых Александры, она вышла в 1831 г. замуж за мелкопоместного дворянина Николая Дмитриевича Пыпина (1808–1893), имея на руках двух малолетних детей.[85]85
До второго брака у А. Е. Котляревской (Голубевой) было трое де тей: Любовь Николаевна (1824–1852), Софья Николаевна (1826–1827) и Егор Николаевич (1828–1892).
Выдавая свою младшую дочь за дворянина, П. И. Голубева сохраняла право на купленных её мужем крепостных крестьян. В завещании Г. И. Голубева был пункт, по которому «состоящие при доме моём в услужении по условию от г-на надворного советника Никиты Антоновича Дуборасова крестьяне, обозначенные именно в том условии, должны находиться <…> в непосредственном распоряжении означенной жены моей» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 1). С замужеством Александры Пелагея Ивановна перевела на новую «дворянку» своих крепостных и накупила на её имя новых «орловских, саратовских и других». Об этом писала в воспоминаниях сама Александра Егоровна (Лит. наследие. Т. 1. С. 707–708). Введение в семью Голубевых Н. Д. Пыпина связано, несомненно, с теми же заботами Пелагеи Ивановны закрепить за семьёй владение крепостными.
В составленном 25 июля 1852 г. Формулярном списке Николая Дмитриевича Пыпина указано, что он имеет «родовое имение в Аткарском уезде в сельце Иткарке 1 душу мужеского пола», а у его жены приобретено в том же селе «19 душ мужеского пола и в г. Аткарске деревянный дом». Службу он начал 15 апреля 1824 г. канцеляристом в Тамбовской палате уголовного суда, перемещён в Саратовскую гражданскую палату 15 марта 1829 г. и в Саратове жил до 16 октября 1844 г. – этой датой помечен его перевод в Аткарское окружное управление письмоводителем. В январе 1846 г. по выбору дворянства определён заседателем в Аткарский уездный суд (ГАСО. Ф. 2. оп. 1. Д. 3033. Л. 5–10). Имел старшего брата Михаила Дмитриевича (род. 1805), который служил в Тамбове (с 1822 г. в палате уголовного суда), Саратове (с 1826 г. в палате гражданского суда), Аткарске (с 1831 г. заседателем уездного суда). Жена Мария Игнатьевна, дети Любовь (р. 15 сентября 1833 г.), Михаил (р. 12 сентября 1841), Варвара (р. 17 мая 1844 г.), Наталья (р. 22 августа 1846 г.), Сергей (р. 14 июня 1849 г.), Надежда (р. 11 февраля 1851 г.) (ГАСО. Ф. 179. оп. 1. Д. 861. Л. 456).
[Закрыть] У Пыпиных родилось ещё восемь человек: Варвара, Александр, Полина, Евгения, Сергей, Екатерина, Петр, Михаил. Особо дружил Николай Чернышевский с Александром (1833–1904), который впоследствии стал профессором Петербургского университета, журналистом, историком литературы, академиком. Свидетельства Пыпиных, и в первую очередь А. Н. Пыпина, выраставшего почти в одни годы с Чернышевским, являются авторитетным биографическим источником, и мы не раз будем прибегать к ним в характеристике различных периодов жизни Чернышевского.
Новое замужество младшей из Голубевых не внесло заметных изменений в сложившийся строй их жизни. По-прежнему действительной главой обоих семейств была Пелагея Ивановна. Принадлежность «почитаемого семейного патриарха» Гаврилы Ивановича к духовному сословию направляло ход жизни в привычное, традиционное для Голубевых русло, и дворянство Н. Д. Пыпина не оказывало сколько-нибудь существенного влияния на семейный уклад в целом.[86]86
Пыпина В. А. Чернышевский и Пыпин в годы детства и юности // Н. Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928. С. 273.
[Закрыть] Некоторые биографы Чернышевского преувеличивали это влияние, находя в нём немаловажное объяснение процесса расхождения будущего писателя с его отцом в вопросах религии.[87]87
В содержательной работе С. Н. Чернова «Семья Чернышевских» утверждается, что с появлением Н. Д. Пыпина «светская культура рвала голубевский фронт и без того уже далеко не прочный» (Известия Нижне-Волжского краеведческого института. Т. II. Саратов, 1927. С. 235).
[Закрыть] Источники не подтверждают подобного суждения, опирающегося на чисто внешнее обстоятельство, которое скорее затушёвывает, чем проясняет подлинную, гораздо более сложную картину формирования мировоззрения Чернышевского. Ориентация Пыпина на чиновно-дворянскую среду и влияние этого окружения на жизненный строй семьи сказались лишь на судьбе его детей, получивших не духовное, а светское образование. В религиозно-насыщенный мир Чернышевских Николай Дмитриевич никогда не вмешивался, будучи человеком верующим, набожным. По словам Чернышевского, «дядюшка, женившийся ещё юношей, потом всю молодость проживший в семействе тёщи, наполовину вошёл в интересы духовного круга», и если через Н. Д. Пыпина семейство «несколько соприкасалось с небогатым дворянством» и прочими сословиями «среднего слоя общества губернского города» («и помещики, и военные, и чиновники, и купцы, и всякие «разночинцы», как пишется в церковных (да и в гражданских) переписках»), то «всё это было довольно незначительною долею в жизни нашего семейства: главное наше родство было духовное, центр всех наших отношений и разговоров был – духовный» (XII, 491).
Религиозное влияние на Чернышевского в ранние годы было значительным, определяющим. Оно возникло как естественное, необходимое, главное звено в строго и тщательно продуманной Гаврилой Ивановичем системе воспитания своего единственного сына. Современники вспоминали, что «отец, идя в церковь, обыкновенно брал с собою и сына и ставил его в алтарь» и что таким образом до поступления в духовную семинарию мальчик «не пропустил ни одной божественной службы». Тому же мемуаристу маленький Николя припоминается как «херувимчик»: «Чистое белое личико с лёгкой тенью румянца и едва заметными веснушками, открытый лобик, кроткие, пытливые глаза; изящно очерченный маленький ротик, окаймлённый розовыми губами; шелковистые рыжеватые кудерьки; приветливая улыбка при встрече с знакомыми; тихий голос, такой же, как у отца».[88]88
Палимпсестов Ив. Н. Г. Чернышевский. С. 555–557.
[Закрыть]
Среди первых составленных отцом прописей, которыми семилетний Николя начал изучение родного языка, значились фразы: «Бога люби паче всего», «Веруй во Евангелие», «Господь даёт разум», «Един есть Бог естеством».[89]89
РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 279.
[Закрыть] «Чаще всех других сословных, деловых и общественных слов, – писал Чернышевский в автобиографических записках, – слышались моим ушам до 18 лет: „архиерей, Сергиевская церковь, священник, консистория, обедня, заутреня, вечерня, антиминс, дарохранительница, ризы, камилавка, наперсный крест”» (XII, 492).[90]90
Антиминс – пласт с изображением положения во гроб Христа, расстилают на престоле во время богослужения; дарохранительница – ковчег, в котором хранятся «савятые дары» в алтаре; камилавка – наградная шапочка священника.
[Закрыть]
Однако не будучи религиозным фанатиком, Гаврила Иванович вовсе не ограничивал интересы мальчика исключительно религиозными внушениями. Николя, например, не чуждался мальчишеских игр, запрета в них не знал, и было бы ошибочным представлять его только молящимся да посещающим церковь. Сын современницы Чернышевского И. Я. Славин писал с её слов: «Моя мать была в то время ещё маленькой девочкой и помнила Н. Г. Чернышевского маленьким мальчиком, принимавшим участие в совместных с нею детских играх. У матери моей остался в памяти от детства рыжий, бойкий, озорной Коля Чернышевский».[91]91
Славин И. Я. Минувшее-пережитое // ГАСО. Ф. 407. Оп. 1. Д. 814. Л. 33. Позднейшая публикация: Волга—XXI век.
[Закрыть] Один из сверстников Чернышевского В. Д. Чесноков вспоминал, как летом они запускали бумажного змея, играли в лапту, в козны (бабки), прыгали через ямы, зимой катались на салазках, а когда стали постарше, придумали катание на дровнях. Скатывали с дровней бочку, в которой возили с Волги воду, впрягались в них, ввозили их на крутые спуски Гимназической улицы или Бабушкиного взвоза и оттуда скатывались вниз к Волге. «Любитель больших и сильных ощущений», Николай и ещё старшие мальчики всегда стояли впереди, направляя дровни «на ухабы и шибни» и непременно норовя «проскочить через прорубь, конечную цель нашего катания»; «сколько смеху, шуму и говору было при катании! Нам только удивлялись, как мы не сломаем наших голов при таком бешеном катании».[92]92
Воспоминания (1982). С. 32.
[Закрыть]
Конечно, свобода в детских играх и широкие ребяческие общения объясняют только одну из сторон принятого в доме Чернышевских воспитания. Гораздо большее значение имела обычная повседневная обстановка, в которой, по словам самого Чернышевского, господствовал «простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни» (I, 684).
Основным первоисточником, служащим для уяснения этого важного положения, являются автобиографические записки Чернышевского, составленные в Петропавловской крепости в 1863 г. Называя свой труд «книгой» (I, 683), автор, вероятно, предполагал опубликовать его. Это видно также из многочисленных обращений к читателю, встречающихся в различных местах заметок. Ясно, что печатать свои произведения, имеющие автобиографический характер, Чернышевский мог только с учетом строжайшей цензуры, и он заранее позаботился о том, чтобы завуалировать высказывания, приобретавшие антимонархический смысл. Увидев невозможность опубликования записок, Чернышевский переработал их для беллетристического сочинения «Повесть в повести». Но и оно не было напечатано, и все эти материалы долгое время пролежали в жандармских архивах.[93]93
Впервые опубликовано в 1928 г.: Лит. наследие. Т. 1. С. 3–125, 126–170. Последующие воспроизведения текста: Чернышевский Н. Г. Из автобиографии / Ред. и коммент. В. А. Сушицкого. Саратов, 1937 и в составе ПСС в 1939 г.: I, 566–691. См. также: Базанов В. Г. Семейные и местные предания в «Автобиографии» Н. Г. Чернышевского // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1958. Вып. III. С. 132–152.
[Закрыть] К ним непосредственно примыкают написанные тогда же рассказы «Наша улица» («Корнилов дом», «Жгут»).
Автобиографические записки остались незавершёнными. Они состоят из четырёх частей, органически связанных между собой. Первая названа автором «Воспоминаниями слышанного о старине», затем следуют сообщения о детском чтении и «фактах действительной народной жизни».
Чернышевский не случайно начинает автобиографию рассказами бабушки Пелагеи Ивановны Голубевой о подробностях жизни предков. Это были прежде всего первые детские впечатления, глубоко запавшие в память ещё и потому, что объясняли в известной мере образ жизни старших членов семьи Чернышевских-Пыпиных и, следовательно, давали возможность «по мне, – писал Чернышевский, – приблизительно заключать о том, под какими впечатлениями и с какими понятиями вырастало то поколение среднего сословия, которое родилось на белый свет в коренных областях нашей матушки России в двадцатых, в тридцатых годах XIX века» (I, 567). Подобное обобщение характерно для задач автобиографии, долженствующей пролить свет, по мысли автора, на основные условия формирования нового поколения общественных деятелей – революционных разночинцев.
Вот рассказывает бабушка о переселении её родителей из прежнего прихода в новый, ближе к Саратову. Ехали на простой телеге с небогатым скарбом и девочкой-малюткой на руках, да вдруг повстречались им неизвестные с ружьями и сопровождали телегу вплоть до ночлега. А утром пораньше Мавра Перфильевна заставила своего мужа поскорее запрячь лошадь – так и уехали, полагала она, от разбойников. Эта история рассказывалась вовсе не затем, чтобы просто позабавить внучат сказкой. Пелагее Ивановне важно было показать, «как нерассудительны бывают люди», т. е. отец её, не распознавший разбойников. И только сметливость и рассудительность матушки спасли дело.
Другая история повествовала о неких богатых людях, которые поручили Мавре Перфильевне тайно воспитывать их младенца. Неизвестно, что заставило этих людей поступить так, но только она согласилась и заботилась о чужом ребёнке, как о своём. Однако младенец занемог и скончался. Не умри он – быть Мавре и её мужу Ивану Кириллычу более обеспеченными, потому что родители ребёнка обещали богатое вознаграждение. И опять: вовсе не «поэтическая сторона» (какое-то похищение, бегство, нежная, скрываемая от людей любовь и таинственная история с ребенком) занимала рассказчицу и слушателей, «а исключительно только то, что подвёртывалось счастье прадедушке и прабабушке, да ушло от них». И начинала свое повествование Пелагея Ивановна не с таинственных подробностей, сообщавших всей истории сказочный, легендарный элемент, а с характеристики Мавры Перфильевны как хорошей матери: «Заботливая, умывала нас, приглаживала головы, смотрела, чтобы рубашоночки на нас были чистенькие, опрятно держала нас, хорошо». Потому и обратились к ней с просьбой принять младенца на воспитание, что на всю округу прослыла она чистоплотной и аккуратной.
Ещё один запомнившийся Чернышевскому рассказ, «выходящий из порядка случаев обыденной жизни». В прабабушкиной или прадедушкиной семье не все были духовными. Некоторые, не получив мест, стали крестьянствовать. И вот однажды двух таких родственников захватили в плен «корсары» (киргиз-корсаки). Один прижился в плену, женился там и скоро сделался важным человеком, попав в милость тамошнему царю. Другой же пленный жил обыкновенным рабом, и ему, чтобы не убежал, в подрезанные пятки заживили пучок конских волос. «Однако ж и с подрезанными пятками наш родственник решился бежать» и, выдержав страшные физические мучения и все опасности погони и ловли в камышах, пришёл к своим и стал жить по-прежнему. Этот рассказ, подобно предыдущим, воспринимался как вполне реальное, а вовсе не мифическое событие, достоверность которого подтверждали происходившие и во времена детства Чернышевского пленения хивинцами работавших в поле крестьян. Бабушкины рассказы о старине были, писал Чернышевский, «почти единственным материалом сколько-нибудь фантастического содержания», но даже в них не заключалось ничего неправдоподобного или противоречащего «законам здравого смысла». И эти рассказы по-своему воспитывали Николая Чернышевского в духе старых семейных традиций, по которым служение Богу соединялось с естественными заботами практической жизни. Пересказывая бабушкины истории, Чернышевский настойчиво подчёркивает, что предки его были, как он выразился в одном из сибирских писем, «простые люди» (XV, 218), некоторые же «сделались мужиками» (I, 578). Близостью к народу объяснялся их повседневный жизненный уклад и мораль. «Материальный и нравственный быт нашего русского духовенства, – отмечал дореволюционный саратовский историк, – стоял в старину в тесной связи с народной жизнью и воззрениями; вышедшее большею частью из простого народа, оно имело те же пороки и качества, духовные воззрения, тот же умственный и нравственный уровень, предрассудки, суеверие и проч., как и наш простолюдин».[94]94
Минх А. Н. Быт духовенства Саратовского края в XVIII и начале XIX столетий // Труды СУАК. Вып. XXIV. 1908. С. 55.
[Закрыть] «Опытными пахарями» называл Чернышевский своего отца и двоюродного деда Ф. С. Вязовского (1789–1856) (I, 673), самых близких ему людей, жизненный путь которых был ему хорошо известен. В бесхитростных и правдивых рассказах бабушки Пелагеи Ивановны предки характеризовались как люди стойкие, храбрые, «умные, честные, энергические» (XV, 243), хотя и небогатые. «Священник, – писал Чернышевский, – это был особенного разряда нищий; нищий – почётного разряда; нищий, живущий, вообще говоря, не в голоде и холоде: или и вовсе не бедно. Но нищий» (XV, 243).
Суровые жизненные условия, мало отличающиеся от обстоятельств народного быта, способствовали формированию простого, лишённого праздности и тунеядства, вызванного естественными житейскими потребностями взгляда на жизнь. В семье преобладал «скромный и рассудительный порядок жизни» (I, 579). «Мы были очень, очень небогаты, наше семейство, – свидетельствует Чернышевский. – <…> Оно было не бедно. Пищи было много. И одежды. Но денег никогда не было! Потому ничего подобного гувернанткам и т. п. не могло нашим старшим и во сне сниться. Не было даже нянек»; «А наши старшие? – Оба отца писали с утра до вечера свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть – и были, – нашими няньками. Но надобно ж обшить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств» (XV, 152). «Они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от неё, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немножко забыть тебя – нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе» (I, 680).
Подобные характеристики, идущие от самого Чернышевского, лучше всего объясняют семейную обстановку, в которой он рос и воспитывался. «Строгий и строго нравственный образ жизни» с детства внушили Николаю Чернышевскому отвращение, например, к вину, «все грубые удовольствия» казались ему «гадки, скудны, нестерпимы» (XV, 373). «Отец Чернышевского, – замечает мемуарист, – был человек общительный, любимый прихожанами; но он чуждался собраний, особливо соединённых с пиршествами, далеко держал себя от лиц подозрительной нравственности и боялся, как бы в драгоценную зеницу его ока, в детскую душу его единственного сына, не попала какая-нибудь соринка».[95]95
Палимпсестов Ив. Н. Г. Чернышевский. С. 556.
[Закрыть]
В связи с этим характерна такая подробность. Обучая одиннадцатилетнего Николая греческому языку, он однажды дал ему перевести фразу о том, что такое пьянство, и Николай записал свой перевод: «Пьянство – малое блаженство есмь». Г. И. Чернышевского такой перевод не удовлетворил, и после соответствующих объяснений его ученик, зачеркнув слова «малое блаженство», написал: «Пьянство – краткое сумасшествие есмь».[96]96
РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 282. Л. 1.
[Закрыть]
Выше приходилось говорить, что Гаврила Иванович чуждался религиозного фанатизма. «Духовное» привычно рассматривалось родными Чернышевского «исключительно с земной точки зрения». Например, разговоры о церкви, архиерее носили как бы приземлённый характер. Понятие «церковь» наполнялось не только религиозным содержанием, но вмещало также мысли о поддержании церковного имущества и здания в надлежащем виде. «Церковь – это было у нас преимущественно «наша церковь», т. е. Сергиевская, в которой служил мой батюшка» и которая озабочивала «главным образом со стороны обыкновенного ремонта». Побелка церкви волновала всех домашних столько же, сколько толки о том, «делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя обветшала, или крыть дом железом». Разговоры об архиерее не превращались в религиозный панегирик главе епархии, а были разговорами о реальном человеке с его достоинствами и недостатками (I, 628–629). Подобный взгляд на «духовное» вовсе не противоречил религиозным убеждениям и не подрывал их ни явно, ни подспудно. Он придавал религиозности естественный человеческий смысл, не отвлекая верующего от земных забот, избегая всего фанатического, иезуитского. В «греческой» ученической тетради читаем характерную фразу: «Люби учение, умеренность, разум, истину, хозяйство, искусство, благочестие».[97]97
Там же.
[Закрыть]
В фанатических действиях и мотивах «все мои старшие вместе со всеми неглупыми людьми Саратова, – писал Чернышевский, – видели глупость, пошлость, тупость или злонамеренность; аскеты и аскетки были понимаемы моими старшими и всеми неглупыми людьми Саратова как люди играющие, дурачащиеся, забавляющиеся своими причудами, люди пустые или жалкие, глупые или дурные». Вот почему, по словам Чернышевского, фанатизм в любых его проявлениях «не имел никакого значения» ни в жизни его родителей, ни в истории его развития (XII, 498).
Отмеченные особенности воспитания сказались ещё на одной стороне «первой, очень важной эпохи развития» – чтении. Сильнее всех пристрастий «была в нём с детства, – сообщал Чернышевский о себе, – страсть к чтению» (XII, 681). Даже сильная близорукость, которой он страдал с малых лет, не могла стать препятствием. Установить точную дату первых уроков чтения не удается. По крайней мере, Чернышевский писал о себе, девятилетнем мальчике, что он «уже года два» рылся в книгах, доступных его рукам (I, 635). Первым его учителем чтения мемуаристы называют двоюродную сестру Любовь Николаевну Котляревскую.[98]98
Воспоминания (1982). С. 28.
[Закрыть]
В семье Чернышевских-Пыпиных книга была насущной потребностью. Человеком «учёным» называли Егора Ивановича Голубева. Обе его дочери, «стремящиеся к знанию» (XII, 497), не чуждались книг, владели довольно хорошим слогом изложения. В этом убеждают, например, их письма, воспоминания, оставленные А. Е. Пыпиной. «Мать моя и тётка (её старшая сестра) чрезвычайно любили чтение», – свидетельствует А. Н. Пыпин.[99]99
Воспоминания (1982). С. 109. В сохранившемся письме Егора Ивановича Голубева от 20 августа 1816 г. находим строки, свидетельствующие о внимании отца к домашним учебным занятиям дочерей: «Евгения и Александра, – обращался он к ним. – Трудитесь с усердием в ваших занятиях и меня успехами своими утешьте» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 26. Л. 2).
[Закрыть] Книга для обеих женщин, вспоминал Чернышевский, являлась лучшим отдыхом (I, 152).
«Патриарх семейства» Г. И. Чернышевский всячески поощрял чтение и образование. Сам он «в пределах его школы и даже дальше их, был человек образованный и начитанный», – писал А. Н. Пыпин, видевший его семинарские тетради с греческими и латинскими стихами.[100]100
Воспоминания (1982). С. 104.
[Закрыть] Одно из стихотворений сохранилось: оно посвящено победе над Наполеоном в 1812 г.[101]101
Чернышевская. С. 45.
[Закрыть] «Зрелостью мысли и начитанностью» он превосходил даже преподавателей семинарии, имевших академическое образование.
Учёность саратовского благочинного проявлялась не только в сочинении блестящих проповедей и речей, произносимых во время всяческих религиозных служб и торжеств. Перу Г. И. Чернышевского принадлежит замечательное, до сих пор не утратившее ценности историко-краеведческое исследование, выполненное по заданию архиерея в 1856 г. История этой работы, которой Г. И. Чернышевский отдал пять лет жизни, вкратце такова. 21 октября 1850 г. духовно-учебное управление при синоде известило саратовского епископа о намерении издать пособие для изучения истории российской церкви и просило для сбора и обработки саратовского материала назначить человека, известного «по своим способностям и особенно по любви к историческим исследованиям». Тогдашний епископ Афанасий сразу же сделал выбор, возложив выполнение труда на Г. И. Чернышевского. В сентябре 1851 г. 57-летний протоиерей приступил к изучению материалов, и его переписка с епископом и уездными священниками говорит о тщательности плана и строгости избранной методики в описании сведений. 3 мая 1856 г. Гаврила Иванович докладывал Афанасию о выполнении работы, которая получила название «Церковно-историческое и статистическое описание саратовской епархии».[102]102
ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 2210. Л. 1–41. Рапорт о выполнении (автограф) – Л. 38.
[Закрыть] В декабре того же года сочинение отослали в синод, и там оно затерялось, пролежав без движения и пользы долгие годы. В 1878 г. по запросу из Саратова рукопись разыскали и отправили в саратовскую духовную консисторию. Здесь её читал П. Юдин, объявивший в 1905 г., что работа Г. И. Чернышевского «до сих пор не издана».[103]103
Юдин П. Н. Г. Чернышевский в Саратове // Исторический вестник. 1905. № 12. С. 875.
[Закрыть] То же утверждали Н. Ф. Хованский,[104]104
Хованский Н. Ф. Очерки по истории г. Саратова и Саратовской губернии. Вып. 1. Саратов. 1884. С. 55–56.
[Закрыть] Е. Ляцкий[105]105
Ляцкий Е. Н. Г. Чернышевский в годы учения. С. 53.
[Закрыть] и вслед за ними советские биографы Чернышевского.[106]106
Н. М. Чернышевская. Примечания // Воспоминания (1959). Т. 1. С. 52.
[Закрыть] Между тем рукопись была опубликована еще в 1882 г. в Саратове А. Правдивым.[107]107
Сар. еп. вед. 1882. №№ 31–33, 36–40.
[Закрыть] Исследование Г. И. Чернышевского датировано 15 февраля 1856 г. и содержит ценные сведения о начале и распространении христианской религии в саратовском крае, о времени учреждения епархии, её иерархии, уникальные данные о саратовских монастырях и главнейших их церковных зданиях.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































