Читать книгу "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"
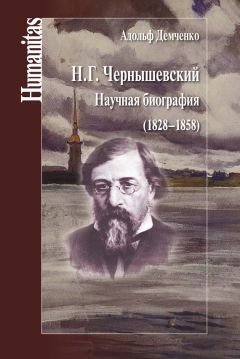
Автор книги: Адольф Демченко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
На 2-м курсе университета Чернышевский дополнительно зарабатывал уроками у петербургского чиновника С. Воронина. Однако значительную часть своих средств отдавал Лободовскому, тщательно скрывая это от родных и знакомых (1, 45, 62, 94, 107, 120, 253, 254, 277, 291, 306, 311, 333, 342). Запись от 13 августа 1848 г. – «Откуда мне взять денег, чтобы В. П. мог жить (и хорошо, да и следовало бы, чтобы он мог жить лучше, чем теперь) до того времени, когда выдержит экзамен и получит место?» – могла бы стать эпиграфом к посвящённым Лободовскому страницам дневника. Ради друга Чернышевский отказывал себе в новой одежде, в еде, в невинных удовольствиях. «Теперь у меня нет денег, – записывал он 23 сентября 1848 г. после того, как отец прислал ему 7 сентября 60 руб., а 14 ещё 25, – а между тем одежда начинает изнашиваться, а главное – грозит ненастье, а у меня одни сапоги, и к тем нет калош, и мне как-то не то что страшно, а немного неприятно думать о том, что скоро понадобится всё это, а я не думаю, чтоб мне скоро сделать это всё, тем более, что мне хотелось бы всё, что можно, передавать Вас. Петр., и теперь я несколько понимаю, что должны чувствовать бедные при приближении зимы, и т. п.» (I, 126). Между тем начались дожди и грязь; пришёл как-то домой, «совершенно нечаянно попались под глаза калоши старые; я примерил – о чудо! надеваются! Это меня утешило» (I, 131). 2 декабря (в ноябре ему прислано 125 руб.): «Теперь во второй раз зимою ходил без калош, между прочим по экономии: не достанет ли этой пары сапогов и старых калош до лета? Конечно, нет, но всё-таки» (I, 185). В мае 1949 г., наконец, он заказал себе новые сапоги, но, желая сберечь их, однажды «решился идти в старых, взяв с собою новые, чтобы переменить в городе, а чтобы не видно было в худое белого носка, завернул правую ногу чёрным галстухом» (I, 278). В январе он купил на 20 коп. пастилы – «в первый раз сласти» за последний год (I, 218): 21 декабря 1848 г. получил 100 руб., 25 января 1849 г. – 40 руб.
Оказывая бескорыстную и безвозмездную помощь Лободовскому, Чернышевский искренне полагал, что его собственные нужды не значат ничего в сравнении с потребностями друга, в предназначение которого для русской литературы он в ту пору верил. Лободовский, по-видимому, чувствовал неестественность их денежных отношений, он предупреждал Чернышевского, что он хуже, чем тот предполагает (I, 95), но Чернышевский не обращал внимания на его слова, относя их на счёт деликатности и скромности. В прежнее время Лободовский «отнекивался», принимая деньги (I, 94). Однако довольно скоро он либо просто отмалчивался (I, 120), либо сам просил денег у Чернышевского (I, 291). Со временем Чернышевский понял истинную причину провала неоднократных попыток устроить Лободовскому уроки, с помощью которых тот мог бы поправить свои денежные дела: привычка к бездействию, слабость воли (I, 221). Женитьба, как на то надеялся Лободовский, вовсе не помогла ему превозмочь «беспечность, к которой он привык». Порою Чернышевский замечал, что его друг не искренен, ловил его на лести (см.: I, 186). После окончания 3-го курса он не поехал на каникулы в Саратов из-за Лободовского, который «промолчал», когда Чернышевский добивался ответа на вопрос, нужен ли он ему в Петербурге. Л. Н. Терсинская писала родителям в Саратов 5 июня 1848 г.: «Николенька сожалел, что не может нынешний год быть в Саратове, и сожалел и о том именно, что не увидится с Сашею, он очень много думает и заботится о нём и говорит что ему непременно должно быть здесь, т. е. в Пет. университете».[403]403
Там же. Л. 5–5 об.
[Закрыть] В то лето материальное положение Чернышевского особенно ухудшилось. Ему даже не на что было купить издание Ипатьевской летописи, за составление словаря к которой он принялся, – пришлось продать часть ещё нужных книг. Чернышевский с горечью записывает 15 июля: «Причина всего – затруднения Вас. Петр., и никогда не будет у меня денег, пока он будет в таком положении, т. е. эта причина в сущности тяготит меня, потому что это существование продлится год, – он хочет держать экзамен в следующем году» (I, 302). В августе от систематического недоедания и некалорийного питания Чернышевский заболел. Частые боли в желудке, рвоты измучили его, он сильно похудел. «На лекции Плетнев заметил худобу мою и советовал не изнурять себя», – записал он 27 августа (I, 310).
Как ни скрывал Николай от близких свои пожертвования в пользу Лободовского, Раеву, например, они стали известны, Лободовский «пользовался, кажется, его карманом», – вспоминал он впоследствии.[404]404
Воспоминания (1982). С. 129.
[Закрыть]
Осенью 1849 г. Лободовский вздумал было уехать, но вдруг сообщил, что остаётся ещё на два месяца, чтобы заработать на дорогу. «Это меня раздосадовало, – писал Чернышевский 1 ноября, – итак, снова остаётся поглощать мои деньги, итак, снова остаётся Бог знает при чём, итак, снова остаётся околачиваться здесь неопределённым образом» (I, 335). Незадолго до окончания университета он отмечал, что по-прежнему считает Лободовского «если не умнее себя, то во всяком случае проницательнее и гораздо старше по уму во многих отношениях, и не могу, – добавлял Чернышевский, – защищаться от этого влияния, когда он произносит суждение своё о каком-нибудь, особенно о литературном, сочинении». Вместе с тем возникало и такое, что вызывало антипатию – «род пошлости или в этом роде. И ухватки, и манера говорить часто не нравятся мне. Напр., каждый раз, когда он произносит слово „целковый”, я слушаю с неудовольствием его произношение, и мне кажется, что манера произносить это слово самое полное выражение той стороны, которая мне в нём не нравится» (I, 359). Чернышевский всё реже бывает у Лободовских (I, 361, 391), и когда пришла пора уезжать в Саратов, записал в дневнике: «Разлука с ним и не входила в число мотивов, которые делали на меня прискорбное впечатление» (I, 382–383). В последней дневниковой записи о Лободовском он упомянут в числе лиц, которые привлекали Чернышевского «грустностью, томительностью своего положения», и привязанность к ним «много обусловливалась их положением, а не одними их личными достоинствами» (I, 404). Не случайно же Лободовский в своих «Бытовых очерках» приискал для Чернышевского само за себя говорящее имя Крушедолина, то есть человека, постоянно сокрушающегося о тяжкой доле близких.
Знакомство с Лободовским явилось важным событием в студенческой биографии Чернышевского. В период их первого сближения Лободовский, по всей вероятности, переживал лучшую пору развития, когда свойственное молодым разночинцам критическое восприятие окружающей действительности, полной крутых социальных противоречий, зачастую переходило в революционные призывы. Посредством радикальных мер Лободовскому мечталось восстановить нарушенную правящим классом справедливость во взаимоотношениях людей, терпящих бедствия как в материальном, так и в нравственном отношениях. Сторонник Белинского, Лободовский и в художественной литературе главным достоинством выдвигал «затрагивающее ум и чувство» содержание, идейную насыщенность. Суждения Лободовского в литературных делах длительное время сохраняли для Чернышевского-студента определяющее значение.
Политические и литературные взгляды Лободовского сочетались с религиозными. Роль политического руководителя в революционном движении он склонен был сводить к идее мессии, христианского избавителя (I, 281). Не отрицая важности улучшения материального положения народа, он всё же первое место отводил проповедям нравственности и любви к ближнему. Политическое сознание Чернышевского недолго находилось под действием взглядов Лободовского. Размышления о способах освобождения человека от материальной бедности как важнейшего первого средства для нравственного возрождения постепенно и неумолимо вели к расхождениям с ним. Знакомство с петрашевцами и посещение кружка Введенского способствовали тому, что на 4-м курсе университета их пути всё больше и больше расходились. Однако до разрыва в отношениях, несмотря на отмеченные выше обстоятельства идейного и личного свойства, пока не доходило. Чернышевский продолжал высоко ценить своего товарища. В письме к М. И. Михайлову из Петербурга от 25 января 1851 г. он писал: «Видьтесь с Васил. Петров. Лободовским <…> это человек, которого я люблю от души и уважаю как никого почти; я его так уважаю, что в разговоре с ним конфужусь за свой ум, чего со мною не бывает в других случаях никогда. Теперь я люблю очень немногих, уважаю и ещё того меньше, – но его я уважаю потому, что редко встречаются, очень, очень редко люди с таким умом: удивительно умный человек! Я его ставлю на одну доску с Диккенсом, Ж. Зандом, своим приятелем Louis Blanc’ом, Лессингом, Фейербахом и другими немногими, которых я уважаю, – это, может быть, смешно, – но, действительно, это гениальный человек» (XIV, 216).
Преувеличенность характеристики вне сомнений, но причиной этого преувеличения было глубокое уважение Чернышевского к человеку, ставшему ему другом. Рекомендуя Лободовского Михайлову, автор письма со свойственной ему душевной широтой и искренностью отметил лучшие стороны ума и дарований своего старшего товарища, и биограф обязан считаться с этой характеристикой.
Цитированное письмо к Михайлову было самым последним пространным упоминанием о Лободовском. Об их отношениях в 1850-е годы известно мало. Мы не знаем, переписывались ли они в то время, когда Чернышевский учительствовал в Саратове. Из времени их жизни в Петербурге, где Лободовский по рекомендации Введенского преподавал во 2-м кадетском корпусе русскую словесность с 29 августа 1852 г. по 10 мая 1857 г., знаем лишь об участии жены Чернышевского в крещении детей Лободовского. Последующие годы Лободовский провёл в Сибирском кадетском корпусе. После преобразования корпуса в С.-Петербургскую военную гимназию он продолжал служить в том же заведении штатным преподавателем. Его «Бытовые очерки» сохранили немало подробностей из биографии педагога-идеалиста, мечтавшего об «исправлении общественной нравственности».[405]405
Русская старина. 1905. Октябрь. С. 84.
[Закрыть] Лободовский вышел в отставку в чине статского советника и умер 20 февраля 1900 г.[406]406
Некоторые биографические данные о В. П. Лободовском сообщены в редакционной заметке, сопровождавшей публикацию его «Бытовых очерков» (Русская старина. 1904. Январь. С. 145).
[Закрыть]
Известно лишь одно письмо Лободовского к Чернышевскому от 27 мая 1862 г., посланное из Омска. Он предлагал редакции «Современника» свою статью-воспоминания о семинарском быте, путешествии по России, об университете, его преподавателях и питомцах.[407]407
Лит. наследие. Т. II. С. 404.
[Закрыть] Вероятно, это были материалы, опубликованные впоследствии под названием «Бытовые очерки». Статья в «Современнике» не появилась (журнал был приостановлен на восемь месяцев в июне 1862 г.), ответ Чернышевского неизвестен.
Знакомство с Лободовским, Надеждой Егоровной, петербургские впечатления послужили для Чернышевского своеобразным материалом при обдумывании первых беллетристических произведений. Уже в декабре 1847 г., будучи на втором курсе университета, он пишет отцу: «Некоторые из моих приятелей подвизаются на литературном поприще, на котором скоро может быть явлюсь и я (впрочем, это будет зависеть от обстоятельств)» (XIV, 142–143). Нужно думать, не только желанием не отстать от пишущих для журналов университетских товарищей продиктованы цитированные строки из письма. Ощутимо сказывалась внутренняя потребность к писательству, властно влекущая, ищущая выхода. В связи с этим характерна дневниковая запись от 22 октября 1848 г. В этот день одна из знакомых Терсинских, некая Катерина Федотовна, показавшаяся Чернышевскому «самым пошлым, гадким, надутым существом в самом гадком роде», «настоящая гоголевская дама», рассказывала о влюбившемся в неё студенте, исключённом из университета. «Этот рассказ её стоит того, чтобы быть записану; пустое, гадкое, самолюбивое, мерзкое, с своими притязаниями на светскость, грациозность, любезность и красоту существо; мне стало прискорбно думать, что эта женщина читает что-нибудь порядочное и хвалит; ведь её похвала – оскорбление, и неприятно думать о том, что порядочный человек может ей понравиться и она может избрать его предметом своих бесед и похвал и представлять себя влюблённою в него, а его в себя. Мерзость» (I, 152–153). Желание записать услышанный рассказ возникает как бы само собой, непроизвольно и свидетельствует об определённой творческой готовности.
Установить, какой именно литературный замысел имелся в виду, когда родителям сообщалось о скором появлении «на литературном поприще», не представляется возможным. Не исключено, что главными действующими лицами одного из первых произведений должны были стать супруги Лободовские. К такому предположению ведёт дневниковая запись за май 1848 г., которая по структуре и содержанию несколько отличается от обычных заметок, начатых им в особой тетради 12 июля того же года. Детальные портретные описания, психологические характеристики, диалоги, рассуждения-выводы придают записи значение подготовительных материалов для беллетристического сочинения. Намечена и коллизия: жена уступает мужу в образованности, но своею чистотою, искренностью чувств, самозабвенностью вызывает в нём «большую перемену нравственную» и побуждает «быть деятельным» (I, 33).
Последующие наблюдения и размышления приводят к мысли написать о Лободовских роман. Собственно, главным героем теперь представляется не Василий Петрович, а он, Чернышевский. Вот что записано об этом замысле в дневнике 29 октября 1848 г.: «Какие будут мои отношения к Над. Ег.? Конечно, я должен поддерживать её; может быть, должен жениться на ней и т. д. в самом целомудренном духе, конечно, в самом тихом и грустном, конечно, и теперь думаю так: она останется без всякой помощи, – у отца жить мученье, потому что пошлый человек, дурная будет жизнь, в том роде, как обыкновенно изображается жизнь сироты и воспитанницы в повестях, или как, напр., жизнь Александры Григорьевны у своего отца (Клиентова) <…> Итак, вот роман, как он представляется в моей голове: человек, какие редко бывают на земле, пропадает; у него остаются жена и друг; я, пока в университете, должен употребить все усилия (для этого прибегаю тотчас к Срезневскому, чтобы достал место в журнале; если не удастся – к Никитенке; если нет – сам снова к Краевскому; если нет – в „Современник”; если нет – даже к папеньке, которому объясняю положение), чтобы она не могла терпеть ни в чём недостатка, даже должен всеми силами стараться о том, чтобы она жила в довольстве <…> Жить должно ей одной, взяв к себе какую-нибудь старуху, или что-нибудь в этом роде. Когда я кончу курс, устраиваю все свои дела, решаюсь на бракосочетание» (I, 157–158). Развитие романного сюжета настолько тесно переплетается с его собственной судьбой, что он даже себе не может ясно ответить на вопрос, что это – «сон, бред, роман» (I, 159). Мысль о романе как художественном целом выступает в данном случае невнятно, неотчётливо. Иначе и быть не могло при таком необъективированном осмыслении автобиографического материала. Для биографа здесь важно отметить самый факт обращения к крупным эпическим формам, хотя и оставшимся нереализованными. Пройдет 15 лет, и Чернышевский напишет роман, мысль о котором (мы говорим о жанре) возникла ещё в студенческие годы.
Необходимо также обратить внимание на предполагаемую Чернышевским проблематику обдумываемого романа. В центре событий – герой-разночинец, который, во-первых, добывает средства к существованию своим трудом и, во-вторых, спасает от нужды и гибели женщину, испытавшую «дурную» жизнь, «в том роде, как обыкновенно изображается жизнь сироты и воспитанницы и повестях». В неясных пока ещё очертаниях предстаёт перед Чернышевским художественный замысел, разработанный впоследствии в «Что делать?» и беллетристике 1860-х годов. Симптоматично само направление идейно-нравственных исканий Чернышевского, идущих в русле тогдашних лучших реалистических традиций.
По-видимому, Чернышевский пытался осуществить свой замысел, и, вероятно, это был рассказ, потому что уже через полтора месяца, 17 декабря, он записал в дневнике, что дважды потерпел неудачу в «Отечественных записках» и больше не надеется на успех (I, 201).
В январе следующего года он снова охвачен мыслью «попробовать попасть в журнал, и как в „Отеч. записки” после двух неудач совестно, то обратиться на пробу к „Современнику”» (I, 222). «Что писать? – размышляет он на этот раз. – Конечно, быль какую-нибудь – и скорее всего, – вздумалось почти в то же самое время, – историю Жозефины, которую рассказывал мне Петр Иванович Швецов». Сведения о П. И. Швецове в дневнике отсутствуют. Можно предположить, что под этим именем Чернышевский намеревался вывести М. И. Михайлова, который в своё время рассказывал ему о Жозефине. По крайней мере, в дневнике А. Н. Пыпина, посетившего вместе с Чернышевским Михайлова в Нижнем Новгороде в конце июля 1850 г., читаем: «Михайлов пустился в воспоминания о петербургской жизни, как он, приехав туда, жил на большую ногу <…> Вспоминал Михайлов и об эротической части жизни своей, о Жозефине и ещё о ком-то».
Работа над повестью о Жозефине освещена в дневнике Чернышевского довольно подробно. «Собственно эта история, – писал автор 13 января 1849 г., – имеет для меня достоинство и интерес как доказательство того, что должно воспитывать детей не так, как теперь, а объяснить им всё, все опасности» (I, 222–223). Тогда же было написано предисловие к повести. Однако занятия в те дни английским языком и чтение Гегеля отвлекли от темы о воспитании, и Чернышевский вернулся к своему замыслу 5 февраля. Через пять дней он написал «с одного присеста» восемь-девять страниц журнального текста вместе с предисловием (I, 236, 238). Вначале автор ничего не менял в рассказанной ему истории, лишь Жозефина названа Казимирою. Но в процессе работы он решил отойти от буквальной передачи факта, «потому что ведь это может дойти до тех, которые теперь её знают, и они могут узнать её» (I, 240). Какое место занял в окончательной редакции текста вымысел, судить трудно. Но вот что Чернышевский писал о характере переделки: «Когда писал и переписывал, довольно легко придумывал ход событий и события, поэтому я стал считать себя способным к писанию повестей, между тем как раньше думал, что я не могу ничего выдумать – ни характеров, ни особенно происшествий, – нет могу» (I, 243–244). Многое в «манере» письма его не устраивало: «повторения и усиления риторические», «какая-то патетичность», «какой-то мелодраматический оттенок». «И потом мне кажется, – писал он, недовольный переделкой, – что всё это вообще, – обе части, и половина первая, и самый рассказ, – растянуто, так что снова приобретает какую-то аффектацию, и выходит что-то снова вроде Куторги. Теперь я решительно не знаю, пошлю ли в „Современник”, – скорее, что пошлю, но решительно не знаю. Много это будет зависеть от Вас. Петр.» (I, 242). Чернышевский усложнил нить повествования: рассказ героини о себе самой сменялся словами её возлюбленного Петра Ивановича (I, 243), но как именно пошла переработка в дальнейшем, мы не знаем. Рукопись не сохранилась, других же подробностей о работе над повестью в дневнике не находится.
Одно время Чернышевский намеревался прочесть повесть на практических занятиях по литературе у профессора А. В. Никитенко, «пропуская только лирические места», но случая выступить не оказалось. Ничего не сообщено, как воспринял его произведение Лободовский. Из дневника лишь видно, что 2 марта беловая рукопись была закончена и отнесена в редакцию «Современника» (I, 250).
Однажды Чернышевский обмолвился, что писал историю о Жозефине «только для того, чтобы получить деньги за неё, а не из стремления к известности» (I, 248). Вероятно, это так и было: в ту пору он искал всякого случая помочь Лободовским деньгами. Однако пробование сил в беллетристике имело значение и как важная пора литературного ученичества будущего автора «Что делать?»
Повесть не была напечатана. Не получая известий из конторы журнала, Чернышевский 18 июня 1849 г. был у И. И. Панаева на приёме. Тот обещал справиться у Некрасова, на том дело и кончилось (I, 289).
В июне того же 1848 г. Чернышевский «начал было писать эпизод из жизни Гёте (любовь к Лили) под названием „Пониманье”» (I, 285). Чернышевский относил Гёте к «чрезвычайным людям», наподобие Гоголя, Шиллера, Гизо, Луи Блана. Преклонение перед великим немецким писателем было у него постоянным и неизменным в первые студенческие годы. Он ищет случая приобрести сочинения Гёте (I, 40, 106), тщательно изучает его произведения, особенно интересуется записками Гёте «о своей жизни, о причащения таинстве» (I, 133). Пример Гёте служил иллюстрацией важной и близкой мысли о цельности личности, поступающей сообразно своим идейным убеждениям. Этот тезис возник у Чернышевского в связи с обвинением Гоголя как автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» в тщеславии и мелочности. Отвечая упрекавшим Гоголя «этим критикам» (выше отмечалось, что велась полемика с Белинским), Чернышевский прибавляет: «А Гете, я говорю, делает то же, что Гоголь. Что Гоголь многого не понимает, как говорят, хорошо? Гете не понимал Байрона» (I, 54). В споре с Белинским имя Гёте появляется не случайно. Дело в том, что в рецензии на «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинский между прочим укорял Гоголя за пренебрежительные отзывы о «глупых немецких умниках», утверждавших, будто «Гомер – миф, а все творения его – народные песни и рапсодии». Однако «это мнение, – писал Белинский, – разделял и Гёте, который хотя был и немец, но дураком ни в чьих глазах никогда ещё не был».[408]408
Белинский. Т. X. С. 64.
[Закрыть] Правоту критика нельзя было не признать и, защищая Гоголя, Чернышевский прибегает к своеобразному аргументу: Гоголь не понимал Гёте, но ведь и Гёте не понимал Байрона, и подобные заблуждения простительны великим.
Этим логическим пассажем полемика с Белинским в 1848 г. не ограничилась. Есть основание полагать, что Чернышевский в отстаивании тезиса о цельности личности, тем более великой личности, какой был Гёте, взял под прицел следующее суждение из «Современных заметок» Белинского (Современник. 1847. № 2): «В Гёте должно отличать человека от художника: Гете был великий художник, но человек он был самый обыкновенный <…> Не искусство, а его личный характер заставляли его вечно тереться между сильными земли, жить и дышать милостынею их улыбок, равно как и оказывать самое холодное невнимание ко всему, что не касалось до него лично, что могло возмутить его юпитеровское, говоря поэтически, и эгоистическое, говоря прозаически, спокойствие. И потому равнодушие Гёте к живым вопросам современной ему истории не имеет ничего общего с искусством: искусство и не думало обязывать его, в свою пользу, безнравственным равнодушием такого рода».[409]409
Там же. С. 93. См. также: Жирмунский В. Гёте в русской литературе. Л., 1937. С. 308–332.
[Закрыть] Суждения критика о Гёте направлены против тех, кто торопился причислить великого поэта к разряду «чистых», независимых от времени художников, деятелей «искусства для искусства», но не только эти выводы беспокоили Чернышевского. Его не устраивало представление о Гёте как самом обыкновенном и эгоистичном человеке, хотя и великом художнике. Ведь этот тезис встречается в знаменитом зальцбруннском письме Белинского к Гоголю, в котором проведена грань между Гоголем-художником и Гоголем-мыслителем: великий писатель, «своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями» так могущественно содействовавший «самосознанию России», принял на себя глубоко ошибочную роль мыслителя, который во имя церкви и Христа проповедует смирение, а это «ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму».[410]410
Белинский. Т. X. С. 213, 218. См. также: Тамарченко Г. Е. Чернышевский-романист. Л., 1976. С. 18–19.
[Закрыть]
Соединение имён Гёте и Гоголя в рассматриваемом аспекте высказываний Белинского находим в дневниковой записи Чернышевского от 5 и 18 октября 1848 г. Слушая 5 октября на занятиях у А. В. Никитенко доклад Корелкина, Чернышевский решил «писать о Гёте и обвинениях его в эгоизме и холодности». Некоторым поводом к этому послужили неуважительные слова о Гоголе. «Никитенко сказал: „Гоголь – поэт и писатель и Гоголь – не поэт и не писатель – два совершенно различные человека” и проч. Корелкин читал слово в слово Никитенкины лекции, и мне пришло в голову, что в самом деле это так, что и дурак усваивает умные мысли, хотя и сам не понимает их. Меня всегда волнует то, когда говорят, как о нехороших людях, о великих людях» (I, 140). Как видим, Чернышевский, переводя разговор в сферу отвлечённо-нравственную, пока ещё далёк от понимания социальных задач критических выступлений Белинского. Разумеется, позиции Белинского и Никитенко также не были идентичными, но в оценке «Выбранных мест из переписки с друзьями» профессор, несомненно, следовал за великим критиком. То же влияние чувствуется и в рассуждениях Никитенко о Гёте. Собственно, слова университетского профессора послужили для Чернышевского лишь «некоторым поводом», главным оппонентом был Белинский.
18 октября Чернышевский твёрдо решил «писать о Гёте, которого отношу к Гоголю и его так называемому лицемерию» (1, 150). Употреблённое Чернышевским слово «лицемерие», встречающееся в письме Белинского к Гоголю, не даёт основания для заключения о знакомстве Чернышевского с содержанием этого письма, но предположение о таком знакомстве оказывается возможным. Установлено, что широкое рукописное распространение текста письма началось «не раньше зимы 1848–1849 гг.», и «в пределах 1847–48 гг. исследователь может искать только слушателей письма».[411]411
Письмо Белинского к Гоголю как исторический документ // Учён. зап. Сарат. ун-та. Т. XXXI. Вып. филологический, Саратов, 1952. С. 112, 149.
[Закрыть] Возможным информатором в случае с Чернышевским мог стать А. В. Никитенко, близкий к редакции «Современника» деятель. Вряд ли осторожный профессор читал студентом это письмо целиком, но какие-то отдельные аргументы в качестве частного мнения Белинского он вполне мог включить в систему своих отзывов о Гоголе. Цитаты из письма Белинского Чернышевский мог услышать и от А. Ф. Раева, посещавшего литературный кружок Никитенко. Раев ещё в 1846–1847 гг. пытался привлечь в этот кружок Чернышевского. В письме в Саратов 6 сентября 1846 г. Раев сообщал со ссылкой на своего товарища по юридическому факультету Николая Левина, окончившего курс в 1847 г.: «26 августа я видел у Левина проф. Никитенко и говорил с ним о Николае Гавриловиче. Он хотел узнать его. Как скоро Николай оглядится и привыкнет немного, мы с Левиным введём его к Никитенко на литературные вечера».[412]412
Ляцкий Евг. Н. Г. Чернышевский в университете // Современный мир. 1908. № 12. С. 36.
[Закрыть] От Раева, например, Чернышевский узнал о письме Гоголя к Никитенко, где сообщалось о предполагаемой поездке писателя в Палестину и Иерусалим (XIV, 69). Однако Чернышевский не посещал кружка Никитенко, думается, за отзывы профессора о Гоголе, с которыми он, как об этом говорилось выше, не был согласен. «За Письма к друзьям Гоголя не постыдятся назвать и в печати сумасшедшим Никитенко, Некрасов и Белинский с товарищами, как давно провозгласили его эти господа на словах», – писал Чернышевский отцу еще в январе 1847 г. (XIV, 106).
Наконец, когда говорим о возможном знакомстве Чернышевского с письмом Белинского к Гоголю, должно быть принято во внимание и то обстоятельство, что ни в одном печатном отзыве не говорилось о лицемерии Гоголя, и вряд ли совпавшее с письмом Белинского словоупотребление было простой случайностью у Чернышевского.
19 октября 1848 г. он читал на занятиях у Никитенко написанную накануне часть сочинения о Гёте. Вот дневниковый отчёт об этом чтении: «Никитенко обращал внимание на то, что более нападали на Гёте за то, что он не участвовал в движении против Наполеона, а не на его частную жизнь. Я много говорил с ним; он говорит, что нет, не во всех сферах человек одинаков, – я говорил против этого. Когда звонок был, меня прервал он на середине повести о Лили; он похвалил очерки характеров отца Гёте и его матери» (I, 151). Спор с профессором был отложен, но Чернышевский продолжал работать над увлёкшей его темой. 9 ноября он отметил в дневнике, что «рассказ о Лили и Гёте» представляется ему теперь «в обширном размере романа» – «напишу так напишу, не будет писаться далее, так напишу только начало, чтобы прочитать Вас. Петр., и меня нисколько не оскорбит, если будет дурно, потому что я не сомневаюсь, что, может быть, я не одарён этою способностью или ещё слишком молод и неопытен; но может быть будет и хорошо (в этом подкрепляет меня отзыв Никитенки об очерке характеров отца Гёте и матери его)» (I, 166–167). 30 ноября он готов был продолжить чтение отрывков из своей повести в университете, но сделать этого не успел: не хватило времени (I, 184), и работа затянулась. Не оставляя замысел, Чернышевский принялся за «Историю Жозефины», и только в начале июня он вновь приступил к продолжению повести, дав ей заглавие «Пониманье».
Повести о Гёте суждено было остаться незаконченной: с опубликованием в «Современнике» перевода автобиографического труда Гёте «Правда и поэзия»,[413]413
Гёте И.-В. Поэзия и правда моей жизни. Записки // Современ ник. 1849. № 7–10.
[Закрыть] послужившего для Чернышевского основным источником в работе над произведением, «писать эпизод его и Лили любви» стало бессмысленным (запись от 8 июля 1849; I, 295). До нашего времени дошёл небольшой отрывок из повести (по-видимому, начало), содержащий характеристики родителей Гёте и Лили.[414]414
Впервые напечатано в сб. Звенья. № 6. М.—Л., 1936. С. 601–604. Вошло в «Полное собрание сочинений» (XI, 696–699). Об этой повести и других литературных опытах студенческих лет см. также в книге Тамарченко Г. Е. Чернышевский-романист. (Л., 1976. С. 11–56) и в статье Руденко Ю. К. Чернышевский как художник. Беллетристические опыты 1840-х годов (Русская литература. 1970. № 1. С. 101–120). Однако представляется неприемлемым предложение отнести и студенческий дневник Чернышевского к художественному жанру (см.: Руденко Ю. К. К вопросу о юношеских дневниках Чернышевского как литературном произведении // Русская литература. 1968. № 4. С. 107–116.
[Закрыть] Сохранившийся фрагмент свидетельствует, что автор избегал буквальной передачи содержания автобиографических записок Гёте и довольно свободно распорядился этим материалом: сестра Гёте Элиза названа Корнелией, приезд поэта к родителям отнесён ко времени значительно более раннему, соответственно изменена дата его встречи с Лили.[415]415
Подробнее см. в комментариях А. П. Скафтымова (XI, 741).
[Закрыть] Вероятно, автору важно было подчеркнуть цельность натуры Гёте уже в ранние юношеские годы, когда убеждения его находились в стадии формирования и до поэтической известности ещё было далеко.
Оставив сочинение о Гёте, Чернышевский, однако, не оставляет самой темы. 8 октября 1849 г. в дневнике появляется запись-рассуждение о новом художественном замысле: «Какую, т. е. о чём писать повесть – вывести ли главным лицом Вас. Петр. и его характер и то, как подобным людям тяжело жить на свете, или о том, как вообще тяжела участь женщины, или, наконец, о том, как трудно всякому человеку следовать своим убеждениям в жизни, как тут овладевают им и сомнение в этих убеждениях, и нерешительность, и непоследовательность, и, наконец, эгоизм действует сильнее, чем в случаях, когда он должен отвергать его для общепринятых уже в свете правил и т. д. – Лежал и всё думал и, наконец, выбрал последнее» (I, 325).
Новая повесть получила название «Теория и практика», и заглавием вполне определялась её проблематика. Во вторник 11 октября он собирался доложить часть написанного студентам на занятиях у Никитенко, но тот «отложил, сказавши, что лучше прочитает один в рукописи, если я доставлю (я доставлю потому, что это более лёгкий путь, если ему понравится, а если не понравится, то ведь, конечно, он не продержит более недели, и поэтому замедление небольшое будет)» (I, 326). Слова о «более лёгком пути» связывались с намерением опубликовать рукопись. 15 октября «дописал свою повесть, т. е. первую часть её, которая кончается смертью Владимира Петровича» (I, 328). На следующий день написано предисловие, а еще через день определились предполагаемые объёмы произведения – «ровно 100 страниц в „Отечественных записках”, куда, конечно, я думаю, скорее всего обратится Никитенко, если ему покажется, что можно; если нет – я сам должен буду, так тоже туда и верно лично к Краевскому» (I, 329). Затем идёт переписка черновика с одновременной переработкой текста. 14 ноября Чернышевский отправился к Краевскому, но тот принимал только по воскресеньям, и он отнёс рукопись Никитенко.









































