Читать книгу "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"
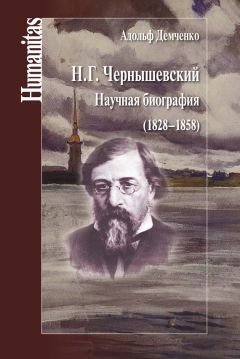
Автор книги: Адольф Демченко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
«С нетерпением» дожидался лекции – 23 ноября «он сказал, что ещё почти ничего не читал, потому что неразборчиво писано, и это хорошо: должно будет переписать, следовательно, переделать, когда отдавать Краевскому, следовательно, тогда выйдет лучше» (I, 338). Размышляя над тем, «как переделывать свою повесть», Чернышевский решил вставить дополнительно «2–3 сцены, 2–3 случая», в которых «выставлялось бы решительное отсутствие эгоизма и решительно верное следование своим убеждениям» (I, 341).
15 декабря автор взял рукопись у Никитенко, «чтоб переписать её и переправить». О мнении профессора ничего не сообщено. Вероятно, тот воздержался от отрицательного суждения, сославшись на неразборчивость почерка. Особой переделке Чернышевский подверг начало повести, чтобы «хоть сначала было несколько живого действия, которого дальше весьма мало». Кроме того, автор добивался большей ясности выражения характера главного героя «в его высоких правилах» (I, 343–344).
Работу над повестью Чернышевский включил в свой обязательный план, который он намеревался осуществить до начала экзаменов летом 1850 г.: составление словаря к Ипатьевской летописи, переписка лекций для И. И. Срезневского, представление выпускного сочинения (I, 349). Однако уже в феврале Чернышевский оставил мысль напечатать «Теорию и практику». По крайней мере, последнее упоминание о повести в дневнике датировано 4 февраля (I, 360).
Повесть «Теория и практика» так и осталась незавершённым произведением. Сохранившиеся отрывки (XI, 640–696) представляют собою, как установлено А. П. Скафтымовым, вторую редакцию, явившуюся результатом вторичной переписки и переделки повести после получения её от Никитенко.[416]416
Там же. С. 740.
[Закрыть] Основное содержание этой части составляет «Рассказ первый. Отношения Андрея Константиновича к Марье Владимировне до смерти её отца». Андрей Константинович Серебряков, главный герой повести, является человеком сформировавшихся убеждений и продуманной программы поведения. Он способен преодолеть моральную уступчивость и воспитать в себе верность нравственным принципам в практической жизни. Этим он отличается от литературного типа «лишнего человека», для которого характерно бездействие и противоречивость сознания.[417]417
См. также: Медведев А. П. Литературное ученичество Н. Г. Чернышевского // Учён. зап. Сарат. пед. ин-та. 1940. Вып. 5. С. 165.
[Закрыть] «Не встречалось мне никогда человека, – говорит рассказчик о Серебрякове, – жизнь которого была бы так верна его убеждениям, который бы в такой степени неуклонно принимал в расчёт то, чего требовала, по его мнению, справедливость, истина или обязанность. А правила его были самые высокие, и главное, он совершенно отрешался от всякого пристрастия к себе, своей личности, положению и следствия, какие поступок его будет иметь для него самого, принимал в расчёт нисколько не более того, как принимал в расчёт следствия его для других» (XI, 640). С этой стороны нравственные устои героя «Теории и практики» во многом предвосхищают основные принципы поведения новых и особенных людей из «Что делать?», действовавших по более усложнённой программе «разумного эгоизма».
Заметна определённая перекличка с персонажами повестей А. В. Дружинина «Полинька Сакс» и «Рассказ Алексея Дмитрича», противопоставленными рефлектирующему «лишнему человеку». Константин Александрович Сакс, по словам автора, не требовал от жизни «высоких несбыточных страстей и деяний», призывая делать «пользу вокруг себя».[418]418
Современник. 1847. № 12. Отд. I. С. 193; Собрание сочинений А. В. Дружинина. СПб., 1865. Т. 1. С. 41.
[Закрыть] Алексей Дмитрич, подобно Саксу, «сильно не любил претензий на разочарование, которые и прежде были смешны, а теперь сделались окончательно глупы».[419]419
Современник. 1848. № 2. Отд. II. С. 213; Собрание сочинений А. В. Дружинина. Т. 1. С. 99.
[Закрыть] Оба склоняются к трезвому, практическому, соответствующему реальной действительности, а не романтическим мечтам, взгляду на жизнь. Правда, Серебряков Чернышевского внешне производит впечатление лежебоки и «ужасного сластноежки» (XI, 642), но внутренняя цельность характера, стремление к полезной, неэгоистической деятельности, твёрдость в реализации однажды принятых правил включает этот образ в процесс усиленных поисков писателями того времени героя нового типа. Именно эти искания были в свое время поддержаны Белинским, высоко оценившим повести Дружинина.[420]420
Современник». 1848. № 3. Критика и библиография. С. 35; Белинский. Т. X. С. 347.
[Закрыть]
В данном случае достаточно отметить самый факт плодотворности, перспективности творческих размышлений начинающего автора, тонко чувствовавшего актуальные задачи современной ему литературы, что свидетельствовало об определённой идейной зрелости и подготовленности.
В связи с повестью «Теория и практика» представляется возможным выяснить литературно-эстетические убеждения автора, высказанные в сценах-диалогах умной и образованной Марии Владимировны с ищущим её руки Николаем Федоровичем, человеком отсталых взглядов. Спор между ними возник по поводу поэмы Пушкина «Кавказский пленник». Оба критически восприняли это произведение, но в позициях обоих видна существенная разница. Мария Владимировна главное внимание уделяет содержанию художественного произведения, Николай Федорович – форме. Героиня полагает, что коренной недостаток поэмы состоит в переложении на русские нравы байроновских типов. У Алеко «нет никаких определённых требований», его неудовольствие жизнью и людьми проистекает вовсе не из критического отношения к действительности, но лишь «из желания пощеголять перед собой». Всё это «чисто фантастические причуды», Алеко «просто драпируется в страдание». Николай Федорович даже не может решить, насколько справедливо высказанное ею мнение. Он делает упор на небрежность слога в поэме Пушкина. «Отделка, отделка – вот первое и последнее, – без неё всё остальное ничего не значит; а если отделка хороша, тогда, пожалуй, поговорим и о содержании». «Вещицы», «пустячки» Дмитриева благодаря одной обработке стиха стали высокохудожественными творениями. Что же касается содержания, то современной литературе, полагает Николай Федорович, нужны знаменитые герои, а не «мещанские домишки» и «круг мелкого дворянства», читателя нужно воспитывать на «великих интересах и страстях». «Впрочем, – заключает герой, – содержание ещё ничто, главное – форма».
Мария Владимировна, которая выражает авторские представления о назначении литературы, решительно возражает стороннику формы. Форма, конечно, «очень важная вещь», но «всё-таки идея в произведении главное», «если содержание ничтожно, форма никогда не может придать большого значения произведению». Героя же нужно искать «во всяких классах общества, не только на высоких ступенях богатства или значительности». Она убеждена: «На всех ступенях умственного развития найдёте вы людей, чрезвычайно богатых чувствами, сердцем, с чрезвычайно энергическою волею, а где они вам ни встретятся, везде они сами так и просятся в роман или драму» (XI, 668–671).
Доводы Марии Владимировны чрезвычайно близки к аргументации Перепёлкина-Лободовского, известной по приведённым в предыдущей части главы высказываниям о стихотворении Некрасова «В дороге». Очевидна также связь эстетических деклараций в «Теории и практике» с более общим источником – некоторыми суждениями Белинского, который в своих последних статьях резко выступал против защитников первостепенной значимости в произведении искусства художественной формы. «Мысль о каком-то чистом, отрешённом искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть, – писал Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (Современник. 1848. № 1), – мысль отвлечённая, мечтательная».[421]421
Белинский. Т. X. С. 304.
[Закрыть] Резко восставал Белинский в той же статье и против «особенного рода читателей», которые «по чувству аристократизма» не любят встречаться даже в книгах «с людьми низших классов». Между тем, эти «феодальные бароны» если и видали большой свет, «то не иначе, как с улицы»; «предками они не могут похвалиться; они обыкновенно – или чиновники, или из нового дворянства, богатого только плебейскими преданиями о дедушке управляющем, о дядюшке откупщике, а иногда и о бабушке просвирне и тетушке торговке».[422]422
Там же. С. 299.
[Закрыть] Николай Федорович в «Теории и практике» именно из таких «феодальных баронов».
Чернышевский работал над повестью в условиях (они будут рассмотрены ниже), когда его отношение к Белинскому менялось. Его литературно-теоретические взгляды (признание за искусством активного общественного участия и демократические симпатии к «низшим классам» общества) вплотную соприкасались с идеями Белинского как основоположника «натуральной школы».
Официальная литературная наука, с которой Чернышевскому пришлось познакомиться в университете, не могла служить удовлетворительным материалом в формировании его литературных вкусов и эстетических убеждений. Лекции А. В. Никитенко не производили большого впечатления. В дневнике Чернышевского (запись от 17 февраля 1849 г.) мнение профессора о Державине и Пушкине, выдаваемое за новое слово об этих писателях, квалифицируется как далеко не новое – «говорит в виде общих мест то, что давно с умом, резкостью и последовательностью высказано Белинским» (I, 242). По свидетельству Лободовского, профессор «любил чаще всего останавливаться на внешней стороне произведений, трактуя подолгу о выразительности, изобразительности и проч., и редко затрагивал внутреннюю принципиальную, а если и касался её, то большею частью разводил бобы по поводу материй, не стоящих того, и ловко лавировал между Сциллой и Харибдой, если попутно необходимо было коснуться идей, относящихся к каким-нибудь особенным факторам в отправлениях моральной жизни».[423]423
Русская старина. 1905. Февраль. С. 369.
[Закрыть] Неудивительно, что теоретические рассуждения героев повести Чернышевского «Теория и практика» в пользу содержания художественного произведения не находили особого сочувствия у осторожного профессора.
На старших курсах историю литературы Чернышевский слушал у П. А. Плетнёва. Однокурсник Чернышевского писал, что академик «вечно искал „примиряющей середины”, как-то особенно чурался „крайностей”, недолюбливал оригинальности, если она не подходила под его излюбленную мерку, а мерка эта цеплялась одним концом за „примиряющую середину”, а другим, обходя „крайности”, долго тянулась по извилистому лабиринту самой бессодержательной философии, впадавшей иногда в совершенное пустословие. И странным казалось, что человек, в своих критических статьях нередко высказывавший дельные и верные мысли, здесь, при чтении лекций, доходил до странных тенденций и до усыпительной болтовни».[424]424
Там же. С. 370.
[Закрыть] Другой современник из отзывов Плетнёва о разбираемых произведениях «решительно ничего» не мог припомнить: «так мало характеристического и выдающегося представляла его критика». «Большая часть лекций, – писал мемуарист, – посвящалась чтению произведений этих авторов, чтению с устаревшей декламацией».[425]425
Ч<умиков> А. Петербургский университет полвека назад. Воспоминания бывшего студента // Русский архив. 1888. № 9. С. 132.
[Закрыть] Даже официальный историограф университета вынужден признать: лекции Плетнёва «не поражали слушателей ни особенною новостью взглядов, ни глубиною мысли и ещё менее учёностью».[426]426
Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка, составленная по поручению Совета университета ординарным профессором по кафедре истории Востока В. В. Григорьевым. СПб., 1870. С. 236. В дальнейшем: Императорский университет.
[Закрыть]
Чернышевский с неизменным уважением относился к литературной известности Плетнёва, которого все «удивительно любят и уважают» (XIV, 42), – «это превосходнейший человек, деликатный, добрый, но вместе и умный человек» (XIV, 163). Но как преподаватель Плетнёв мало его интересовал, и в дневнике он откровенно высказывал резкие суждения о нём: «глупая» речь на торжественном университетском акте, «пошлые» темы, предложенные студентам по курсу истории русской литературы (I, 237, 328).
На 3-м курсе историю славянских литератур читал И. И. Срезневский. Крупный и выдающийся знаток в области славянских наречий, он обнаруживал «странное», по характеристике Лободовского, понимание литературных произведений. «Гоголю, например, он отводил место наравне с Нарежным», невысоко отзывался о Белинском.[427]427
Русская старина. 1905. Февраль. С. 373.
[Закрыть] В дневнике Чернышевского 1850 г. также содержится упоминание о Срезневском, который Лермонтова и Гоголя «не хотел считать людьми одной величины с Пушкиным» (I, 353).[428]428
О «несочувственных взглядах И. И. Срезневского на Гоголя и его литературную деятельность» писал сын знаменитого профессора Вс. И. Срезневский. Он приводит следующую характеристику, исходящую от него по отношению к автору «Ревизора»: «Очень молодой человек, хорошенький собою, умненький, любящий все славянское, все малороссийское, но с первого виду мало обещающий» («Николай Васильевич Гоголь в переписке с Измаилом Ивановичем Срезневским в 1834–1835 гг». Публикация Вс. И. Срезневского // Русская старина. 1892. Март. С. 751, 753).
[Закрыть] Излишне прибавлять, что в ту пору в литературных вопросах у него с И. И. Срезневским не могло быть ничего общего.
Университетская наука шла вразрез с литературно-эстетическими воззрениями Чернышевского, формирующимися, как видно по «Теории и практике», под благотворным влиянием передовой русской демократической критики.
Разговор о «Теории и практике» был бы неполон без указания на автобиографичность главного героя. В характере Серебрякова, сумевшего преодолеть значительные препятствия на пути к жизненной позиции единства убеждений и поступков, ясно отражены попытки самого автора согласовать жизнь с убеждениями. В студенческом дневнике Чернышевского содержится немало мест, свидетельствующих об этом. Сознательно поставленная цель и волевые устремления к неукоснительной её реализации дали свои результаты: и в личной и в общественной жизни до конца дней своих Чернышевский являл образец человека, способного сообразовывать свои действия с теоретически сформулированными правилами, «един всегда был в теории и практике», говоря словами Чернышевского об одном из выдающихся исторических деятелей (I, 159). Вопрос о цельности личности, о соответствии внутреннего мира человека и его деятельности был для него ещё со студенческой скамьи не просто объектом философского размышления, но и вопросом лично-биографическим.
Повестью «Теория и практика» литературные опыты Чернышевского в студенческие годы не ограничивались. С занятиями беллетристикой он связывал ближайшие планы на будущее. «Буду писать повести и т. д., поэтому получу средства приехать сюда», – так писал он незадолго до окончания университета, в пору невесёлых раздумий о предстоящей жизни в провинции (1, 369). Сюжет нового произведения возник на пути в Саратов летом 1850 г. после новой встречи с А. Г. Клиентовой в Москве.[429]429
В это посещение Клиентовых Чернышевский получил приглашение на свадьбу сестры Александры Григорьевны. Вот этот текст: «Воскресенской, что в Бронной, церкви и Московского Императорского Воспитательного дома детской больницы священник Григорий Стефанов Клиентов по случаю бракосочетания дочери своей, девицы Анастасии Григорьевны, с помощником секретаря общего собрания Правительствующего Сената губернским секретарём Иваном Николаевичем Зверковым, имеющего быть сего 1859 года сентября месяца 22 дня, в означенном приходе в 6 часов пополудни, покорнейше просит пожаловать по совершении бракосочетания на ужин, в собственном доме, что против детской больницы» (РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 253. Л. 15).
[Закрыть] Тягостное положение молодой красивой женщины-вдовы в семье под угнетающим надзором отца («ты не должна любить другого, нет, не должна; ты мертвецу святыней слова обручена») возбуждало участие и даже готовность «жениться на ней, лишь бы избавить её от этого положения». Тут же пришла мысль о «повести из её жизни» с посвящением ей (I, 382). Встречающееся в источниках сведение о какой-то повести, которой Чернышевский был занят тогда, связано, вероятно, именно с этим замыслом. «Недавно читал он, – писал А. Н. Пыпин о Чернышевском в ноябре 1850 г. Д. Л. Мордовцеву, – отрывок из повести, рассказа, или как угодно назови это, конечно, не напечатанной, и, конечно, лишённой возможности быть напечатанной; он говорил мне, что её написал один из его приятелей, но я с большею вероятностью предполагаю, что писал он её сам; всё в ней – его и, между прочим, там был один характер, совершенно снятый с него – характер не из обыкновенных, пошлых характеров».[430]430
Герцен Б. Б. Александр Николаевич Пыпин. (Материалы к биографии и характеристики) // Исторический вестник. 1905. № 1. С. 282.
[Закрыть] В дневниковой записи Чернышевского от 9 декабря того же года упомянуто художественное произведение, которое предназначалось им для «Отечественных записок» и в ту пору было готово на одну треть, – «Отрезанный ломоть». 10 декабря он написал «две страницы „Отрезанного ломтя” набело. Принялся этот раз переписывать в лист, чего ещё никогда не делал, это удобнее. В этот раз уже верно пойдет» (I, 400–401). Закончил ли он свою новую повесть (рассказ) и передал ли её Краевскому, остаётся неизвестным, рукопись не сохранилась.
Чернышевскому-студенту (как, впрочем, и позднее) не было свойственно самообольщение относительно своего художнического дарования. В первую очередь он стремился быть «содержательным», «современным», художественной форме внимания уделял меньше. Судя по сохранившимся отрывкам из «Теории и практики», он смотрел на беллетристику лишь как на один из способов передачи определённых научных знаний, идей, декларативно выражаемых героями произведения. Ранние литературные опыты Чернышевского свидетельствуют о реализации теоретического положения, позднее сформулированного в магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» следующим образом: «Наука и искусство (поэзия) – „Handbuch” <учебная книга> для начинающего изучать жизнь; их значение – приготовить к чтению источников, и потом от времени до времени служить для справок». На пути самоопределения в беллетристике отчётливо видно желание обрести позицию, когда «художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное» (II, 86, 87). Именно в студенческие годы получила развитие мысль о второстепенном значении художественной литературы сравнительно с научным знанием и политической деятельностью. Зафиксированное в дневнике 1848 г. высказывание-убеждение, что «политическая литература – высший род литературы, и писатель раньше всего должен быть человеком с мнением о настоящем и прошедшем» (I, 192), не только характеризует пору увлечения юношей политическими событиями. Это убеждение наложит сильный отпечаток и на эстетику Чернышевского, и на весь ход дальнейшей его творческой деятельности в «Современнике».
13. Революционные 1848–1849 годы«Тут всё принадлежит не моей биографии – а биографии рода человеческого», – писал Герцен о 1848 г. и его последствиях.[431]431
Герцен. Т. X. С. 24.
[Закрыть] В известном смысле эти слова мог бы произнести и Чернышевский, прошедший общую для передовой интеллигенции того времени политическую школу европейских революций.
Интерес к февральской парижской революции настолько глубоко захватил Чернышевского, что, не имея возможности постоянно делиться с кем-либо обуревавшими его мыслями, он только одному дневнику доверял тайны политического свободомыслия. Первую страницу заветной тетради он заполнил 12 июля, в день рождения, а спустя две недели писал в дневниковом «Обзоре моих понятий»: «История – вера в прогресс. Политика – уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идём в сравнение с ними, они мужи, мы дети; наша история развивалась из других начал, у нас борьбы классов ещё не было или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству. Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра; Луи Блан особенно, после Леру, увлекает меня, противников их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревшими, если не по летам, то по взглядам, с которыми невозможно почти и спорить» (I, 66). Далее следовало изложение литературных мнений, уступавших место политическим рассуждениям.
Слова об отсталости России перед Западом в социальном отношении, о борьбе классов, с которой связываются представления о прогрессе в истории, – всё это подтверждает реалистичность исторических размышлений, формирующуюся политическую зрелость, основанную на принципиальном отрицании господствующей в России крепостнической идеологии. Читая в ежедневной парижской газете «Debats» («Journal des Debats») насмешливые комментарии по поводу речи Леру против колонизации в Африке, Чернышевский пишет: «Это уяснило мне, что это за люди: они так же ограничены, как и мы, так же точно не могут понять ничего, что не вдолблено им, и всё новое кажется им смешной нелепостью; но эти задолбленные понятия, – отмечает автор дневника, – у них всё-таки лучше и выше тех, которые задалбливают у нас» (I, 38).
Чернышевский уже в ту пору прекрасно понимал, что «идеал общественного порядка для петербургских царей – передняя и казармы».[432]432
Там же. C. 14.
[Закрыть] Его критическое отношение к крепостнически-бюрократическому строю лучше всего сформулировано в следующей записи 1849 г.: «Если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т. е. провинциальных и уездных). Как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам» (I, 297). Свои убеждения Чернышевский горячо отстаивает в споре с защитниками существующего правопорядка. «Хоть палка, да начальник», – твердит родственник И. Г. Терсинский, у которого студент живет на квартире. Критика-де вредна, от неё «разрушается государственный порядок и доходит дело, когда каждый мыслит до того, что теперь во Франции». «Начальники, – возражает юный демократ, – слишком много на себя берут, позабыв, что не подчинённые для них, а они для подчинённых, и тем вызывают осуждение и строгость к себе; не правда существует для государства, а оно для правды. Кто различает человека и палку, место и власть и человека, занимающего его, тот не должен бояться суждением о нём ослабить в себе уважение к власти; во Франции и теперь лучше, чем у нас» (I, 46–47).
Осуждение бюрократической централизации не голословно у Чернышевского, оно возникло на основе личных наблюдений и переживаний, связанных, например, с незаслуженными чиновничьими гонениями на его отца. В письме Чернышевского к Пыпиным от 8 февраля 1848 г. есть место, показывающее, насколько хорошо были ему известны подробности чиновно-бюрократической саратовской жизни. «Что он не остался служить в Саратове, – писал он здесь о Н. Д. Пыпине, – едва ли можно пожалеть об этом; во-первых, служа там, едва ли добьёшься места выше секретаря; даже советников всех ведь посылают отсюда; во-вторых, – тамошняя служба – меч не обоюду, а отовсюду острый: напр., бери взятки – известное дело, от суда-таки не уйдёшь; не бери – жалованье так мало, что жить почти нечем; или: потакай другим мошенничать – с ними вместе пропадёшь; не потакай – они тебя отдадут под суд и так далее. В-третьих, – особенно ничего путного нельзя надеяться при теперешнем губернаторе, который в глазах министра, Оржевского и проч. отъявленный дурак и ещё отъявленнейший негодяй и пьяница, из этого можно вывесть и четвертое: попадётесь вы к нему в немилость – ну, разумеется, в таком случае лучше было не служить в Саратове; попадёте в милость – это послужит дурною рекомендациею для вас, и когда вы после явитесь в Петербург, вас примут не слишком хорошо. И таких сторон можно найти в саратовской службе много» (XIV, 144). Бюрократическая нелепость и несуразица пронизывали буквально все стороны русской жизни, и утвердившееся во Франции господство «партии порядка» всё же «лучше, чем у нас», поскольку расшатано и размыто революционной волной, и при уничтоженном рабстве крестьян не знает таких диких и нелепых примеров бюрократизации, какие привычны для России. Во Франции тоже начинается преследование за мнение, но «в слабейшей, чем у нас, степени» (I, 115).
Чернышевский внимательно следит за развитием послефевральских событий во Франции – «имя Парижа тесно соединено со всеми лучшими упованиями современного человека».[433]433
Там же. Т. V. С. 141.
[Закрыть] Он не пропускает ни одного номера получаемых в Петербурге французских и немецких газет, так что некий Иванов, владелец одной из кондитерских в Петербурге, где Чернышевский читал иностранную прессу, как-то сказал ему: «Вы в душе русский, но увлечены Западом – до невозможности» (I, 320). Чернышевский переписывает на отдельный листок фамилии членов французского Национального собрания (I, 292), пристрастно наблюдает за перипетиями межпартийной борьбы во Франции, Германии, Венгрии, однажды даже украдкой вырвал и унёс листок из немецкой газеты, где перечислялись партии и их предводители во Франкфуртском собрании (I, 187). Он на стороне радикальных партий. «Мне показалось, что я террорист и последователь красной республики. Я несколько поопасался за себя», «странно, как я стал человеком крайней партии», «я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно» (сентябрь 1848 г. – I, 122). «Красный республиканец и социалист», «друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы многим пожертвовать», – писал он в июле 1849 г., в период удушения венгерской революции русскими войсками (I, 297).
Приверженность к революционному движению основывалась у Чернышевского в его понимании на главном лозунге революционеров: улучшение материальной жизни «простолюдинов», «работников». Право на труд (droit du travail) – вот «истинная причина переворотов (т. е. пауперизм)», – читаем в записи от 7 августа 1848 г. (I, 74). При этом своё мнение об отвратительном положении, когда «одна часть населения господствует над другой», рождая эксплуатацию и нищету в низших классах общества, Чернышевский называет в ноябре 1848 г. «старым» (I, 162), то есть сложившимся ещё в семинарские саратовские годы. Долгое время он упоённо вынашивает наивную идею изобретения «вечного двигателя» (perpetuum mobile), которое прославит его как «величайшего из благодетелей человека в материальном отношении, – отношении, о котором теперь более всего нужно человеку заботиться». Только после устранения материальной нужды, – рассуждает Чернышевский в марте 1849 г., – человечество сможет перейти к решению «настоящей своей задачи, нравственной и умственной», «я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания» (I, 253). В данном случае дело вовсе не в наивности надежд на создание «вечного двигателя», он и сам вскоре будет самокритично высказываться об этой идее, а в понимании первой важности разрешения материальных вопросов, предшествующих проблемам нравственным. Попытки Лободовского убедить Чернышевского в обратном, как говорилось об этом выше, успеха не имели (I, 281–282). Убеждённость в необходимости материальных улучшений для «простолюдинов» обусловливала реалистичность позиции Чернышевского в уяснении запутанных политических вопросов. «Эх, господа, господа, – пишет он по поводу французских лозунгов о республике и конституции, – вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика, да власть у вас, – не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться мужчины – трупами или отчаянными, а женщины – продающими своё тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода – и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором 9/10 народа – рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого» (I, 110).
Революционные пристрастия Чернышевского выступают в ту пору непоследовательно, противоречиво.[434]434
См. также: Нифонтов А. С. Россия в 1848 г. М., 1949. С. 182–183.
[Закрыть] Слова о том, что не имеет значения, «будет царь или нет, будет конституция или нет», не простая оговорка. В записи от 18 сентября 1848 г. находим следующее рассуждение по поводу возможных и лучших форм правления. «Республика, – читаем в дневнике, – есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление», «это последняя форма государства». Но при господстве одного класса над другими республика невозможна, она может быть провозглашена лишь на словах, а не на деле. Поэтому пока «единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или, лучше, наследственная неограниченная монархия». При этом монархия представляется ему как понимающая своё назначение власть – «она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые – это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов. И это должна делать от души, по убеждению». Такая монархия должна также сознавать, что её роль – временная, её подлинное назначение – «всеми силами приготовлять и содействовать будущему равенству – не формальному, а действительному равенству – этого сословия с другими высшими классами, равенству и по развитию, и по средствам жить, и по всему, – так, чтобы поднять это сословие до высших сословий. Вот обязанности и настоящее назначение неограниченного правительства, и поэтому и я теперь приверженец этого образа правления в той форме, как я его понимаю». Так действовал, по мнению Чернышевского, Петр Великий (I, 121–122). Мнение о том, что «правительство должно идти впереди» он повторит еще раз 28 сентября и 8 октября того же 1848 г. (см.: I, 134, 143). Во взглядах Чернышевского давала себя знать религиозная идеология, провозглашавшая монархию в качестве разумнейшего общественного устройства.
Также противоречивы его отношения к деятелям 1848 года. Свои симпатии он безоговорочно и на продолжительное время отдаёт Луи Блану, который в период французской революции представлял некоторое время интересы рабочего класса и открыто выступал с демократической программой преобразований. Чернышевский, безусловно, разделяет вычитанное им у Жорж Занд мнение о Луи Блане «как великом писателе и великом человеке» (I, 77). «Что за сила, что за последовательность мысли и слова в этом человеке! – пишет он по поводу речи Луи Блана в Люксембурге. – И как он одушевлён своим убеждением! И как он убеждён! И как предан своим идеям и верит в их могущество и право на святость, и в то, что победят они и победят сами собою, как всегда правда и право должны торжествовать, потому что ничто не устоит против них» (I, 107–108). Книга Луи Блана «История десяти лет. 1830–1840», изданная в Париже в 1848–1849 гг., находилась в личной библиотеке Чернышевского.[435]435
Чернышевская Н. М. Личная библиотека Чернышевского // Чернышевский. Вып. 1. С. 436.
[Закрыть]
Чернышевский пока ещё не мог разобраться в том, что «Луи Блан представлял в этом кругу социализм, которого он в сущности никогда не понимал».[436]436
Герцен. Т. V. С. 336.
[Закрыть] Религиозная окраска социалистических взглядов парижского реформиста ему импонировала в высшей степени. У него же он заимствовал мысль о создании общества будущего мирным путём на основе человеколюбия богатых и всеобщего братства.
Восхищение Луи Бланом и Ледрю-Ролленом, откровенным республиканцем во французской революции, соседствовало с восторженными отзывами о монархисте Гизо. «Ходячий мертвец Гизо»[437]437
Герцен. Т. V. С. 68.
[Закрыть] предстаёт в характеристиках Чернышевского «великим человеком». Его книга «Цивилизация во Франции» в немалой степени содействовала укреплению в сознании Чернышевского мысли о монархии (в её гуманном варианте) как разумной и необходимой форме государственного правления. Он отмечает объективность и беспристрастность французского историка и политического деятеля (I, 107), взгляды Гизо на историю народа и власти кажутся ему гениальными (I, 129). Чернышевскому непонятно, как мог столь высокого ума деятель перейти на сторону «партии порядка»: «Рок увлёк этого человека! Но я верю в совершенную чистоту его» (I, 160–161).
Шаткость и нечёткость своих позиций Чернышевский впервые почувствовал в споре с П. Ф. Лилиенфельдом, учившимся в лицее. Защите «социалистов, Франции и её вечных волнений, Прудона» тот противопоставил английскую конституцию, потому что «мысль, – пересказывал Чернышевский своего нового оппонента, – раньше должна пройти через высшие слои и там созреть, между тем как во Франции она ещё не готова, не довершена, а уже низвергает настоящий порядок». Чернышевский ушёл от полемики и в дневнике записал: вынужден признать, что не умеет «держаться в споре идеи главной, так, чтобы не дать себе и другому запутать предмета» (I, 101–102).









































