Текст книги "Остановленный мир"
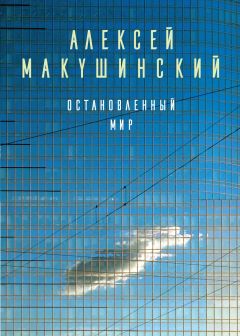
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Неизменный советчик
Зарницы счастья бывали; зарницы на очень сером фоне, очень сером, темно-сером небе, с добавочными, уже совсем беспросветными провалами, темнотами и чернотами. Не только не верила она, что это может когда-нибудь измениться, но (втайне, может быть, от себя же самой) видела в этом сером фоне несчастья, сером небе не острого, но постоянного (напишем это слово) отчаяния – залог и условие всех своих удач и успехов; ту цену, которую платила она за эти успехи, эти удачи… Она лежала в их первую ночь (через неделю, значит, после поездки на Рейн, блужданий по каменоломням и холмам) рядом с Виктором (или так я это представляю себе), спавшим, закинув за голову руку, ладонью вверх, спавшую тоже; лежала на своей широкой, когда-то выбранной, купленной вместе с Бертой кровати, где так долго не лежала она ни с кем, с мужчиной вообще никогда, не в силах и не пытаясь заснуть, вспоминая прошедшие годы, годы одиночества, и годы с Бертой, и годы до всякой Берты; в полумраке, по-прежнему разрезанном полосою света, проникавшей сквозь не до конца затворенную дверь, бежавшей по полу и по стене взбиравшейся к гирляндисто-югендстильной лепнине; и поворачивалась к Виктору в этой перерезанной темноте, на этой внезапно-чужой, тихим и удивленным скрипом отвечавшей кровати; смотрела на его закрытые глаза, его спящую руку; говорила себе, что ведь это бред и безумие, и неужели на роду ей написано вступать в отношения невозможные и завязывать связи немыслимые? Да и какие могут быть у нее отношения с мальчишкой, на – сколько? – она не знала, на сколько именно лет ее младше; на столько же лет ее, наверное, младше (думала она), на сколько она сама была младше Берты (так оно, кстати, и было); да и откуда вообще взялся в ее жизни этот русский мальчишка с его прекрасными, сумасшедшими, совсем чуть-чуть… ну самую малость похожими на Бертины, страдальческими глазами? Ничего не будет, сказала она себе. А если будет, то скоро закончится. Она выбралась из постели, из спальни; босиком, на цыпочках, по холодному паркетному полу прокралась к эркерному окну. Верный друг, неизменный советчик, Боливар смотрел в сторону, едва различимый в тусклом и желтом свете висевшего над мостовой фонаря. Все кончится скоро, плохо. Едва не разрыдалась она, стоя в своем эркере, думая о своем несчастье, о будущем и о прошлом, о том, как ревновала Берту к блондинкам. Ей хотелось разбудить Виктора, попросить его ей помочь, защитить ее от того горя, которое он сам когда-нибудь должен был ей принести.
«Анна Каренина»
На другой день, после быстрого смущенного завтрака, пару раз тянулась она к телефону, чтобы сообщить ему, что была прекрасная ночь – и спасибо, давай лучше сразу оставим глупости. Она сама понимала, что не сделает этого, не сможет этого сделать; наоборот – как девочка, дурочка, будет ждать Викторова звонка. Она пять раз подряд варила кофе в эспрессо-машине и пыталась заняться делом, и чувствуя, что заняться делом все равно не получится, пыталась просто читать, чтобы отвлечься от своих мыслей (читать, впрочем, не что-нибудь, но, поскольку ей хотелось теперь почитать что-нибудь русское, а она почти ничего русского до сих пор не читала, «Анну Каренину», которую, в немецком переводе, купила она после их поездки на Рейн), и читать тоже не могла, да и путалась в дебрях имен (почему Каренина превращается вдруг в Аркадьевну? поди пойми этих русских…), и тянулась к телефону, чтобы спросить у Виктора, как это все устроено, нет, вздор, чтобы сказать ему, что не надо им больше встречаться, и сама улыбалась сумятице своих мыслей, сидя у себя в эркере, в кресле, бросив книгу, закрывая глаза. И, закрывая их, видела его глаза, Викторовы, восхитительные, осмысленные, безумные, и вспоминала их прогулку по каменоломне, и как он смотрел на нее, таким влюбленным взглядом и в то же время издалека, из какого-то такого далека, о существовании которого она до сих пор не догадывалась, и как просто подал ей руку, когда они лазили по камням, и видела саму эту руку, с красноватыми костяшками пальцев, эти молодые сильные плечи, атлетическую грудь и плоский живот и, продолжая улыбаться, вспоминала только что прошедшую ночь, чувственное счастье этой ночи, как прижимался он к ее животу и как очевидно, неправдоподобно возбуждали его все те места, которых она научилась не стыдиться в присутствии других женщин, но по-прежнему стыдилась в присутствии, даже в объятиях, спортивного молодого мужчины, ее стёгна с уже наметившимся на них целлюлитом, ее предплечья, уже провисающие. Над Боливаром бродили дымные низкие тучи, отражавшиеся в зеркалах небоскребика, и буро-желтые кроны окружных деревьев раскачивались, отражаясь тоже, на уже окончательно осеннем ветру. А как она покажется с ним коллегам, подругам? А собственно, почему бы и нет? что такого? Подруги будут завидовать; на то они и подруги. А коллегам наплевать. И вообще… Вообще что? Вообще будь что будет… Виктор не позвонил, а просто пришел к ней вечером, как будто предполагая, что она сидит и ждет его в своем эркере, так что ей хотелось спросить его, что бы он стал делать, не окажись ее дома, с тем огромным, очень дорогим, бесконечно-банальным и умилившим ее своей банальностью букетом полыхающе-алых роз, который он вручил ей, но она так была тронута и так рада его видеть, что не спросила его ни о чем, просто прижала к себе. Эти розы потом повторились. Он ухаживал за ней так, как этого уже никто в Германии не делает, как, во всяком случае, никто не ухаживал до сих пор за ней, Тиной; дожидался ее у подъезда с пресловутыми розами или хоть одной розой, всегда очень красной, в красной руке; чуть не каждое утро бросал в ее почтовый ящик открытку, всякий раз новую, с пожеланиями хорошего дня и какими-нибудь – уж какие придумывались – словами о своей любви к ней; дарил ей иногда очень дорогие, иногда совсем ей ненужные альбомы с фотографиями; о самой же фотографии, которой никогда раньше не увлекался, не занимался, через две недели знал все; говорил с Тиной об Эдварде Вестоне, о Мохой-Наде, о Кертесе, о Родченке или о Гарри Виногранде так, как будто всю жизнь и с самого детства слышал эти имена, еще две недели назад неведомые ему, или так, как если бы это были их общие друзья и приятели, посплетничать о которых всегда приятно, никогда не надоедает. Она вскоре почувствовала, что сопротивление ее слабеет, что она сдается ему. Всякий раз была она счастлива при его появлении, при виде его сумасшедших глаз, его синего беззащитного черепа, но еще старалась не показывать этого, не доверяя своему счастью, боясь спугнуть его, боясь, может быть, окончательно и бесповоротно влюбиться. Тот, кто любит, страдает, а страдать она не хотела. Еще слово нет преобладало в ее лексиконе. Нет, завтра она занята, у нее срочная съемка, и нет, ужинать к итальянцам она не пойдет, устала, и на выставке импрессионистов в галерее Schirn она уже была, и в кино пойти тоже, нет, не получится, а к опере она равнодушна. В конце концов, шла она и в кино, и на выставку, и ужинать к итальянцам. И все же еще долго не могла поверить, что он всерьез и вправду влюблен в нее, вот в такую, какова она есть… Но он вправду был влюблен в нее, она не обманывалась, она это видела. Когда недели через четыре улетел он по банковским делам в Таиланд, она поняла, что уже не могла бы (могла бы, но очень бы не хотела) жить своей прежней одинокой жизнью, на сером фоне несчастья, что беспробудно черным сделался бы теперь этот фон; считала дни до его возвращения. А Виктор собирался после банковской недели в Бангкоке взять неделю отпуска и долететь, наконец, до Японии (до которой из Бангкока неблизко, но много ближе, чем, к примеру, из Франкфурта), побывать, наконец, в настоящем буддистском монастыре; уже в Бангкоке решил в Японию не лететь; сказал себе, что слетает когда-нибудь на подольше, сделает сессин у одного из Бобовых знаменитых учителей, вообще попробует пожить или поселиться в Японии; поменял билет, возвратился во Франкфурт. Тина даже не поняла, как впоследствии мне признавалась, что означало для него такое решение.
Любовь, дзен
Она вообще не понимала, что значит для него дзен-буддизм, да и что такое дзен-буддизм, понимала только отчасти. Дзен казался ей чем-то вроде йоги, то есть чем-то полезным для здоровья, телесного и душевного, и чем-то очень экзотическим, любопытным и неожиданным, но в конечном счете, как всякий спорт, чем-то таким, что можно при случае заменить другим каким-нибудь спортом. Можно ведь по утрам бегать, а можно и на велосипеде кататься… Есть люди, которые занимаются йогой, есть такие, которые ходят на карате или кунг-фу, есть любители и любительницы тай-чи, она их часто видит в Грюнебургском парке: как они танцуют на лужайке, стоят на одной ноге, медленно, плавно, успокоительно крутят руками; есть филателисты, есть шахматисты. Она сама два раза в жизни начинала ходить на йогу: один раз вместе с Бертой, уже давно; другой раз, за пару лет до встречи с Виктором, в специальную группу для женщин с лишним весом, куда заманила ее одна из ее моделей; оба раза бросала. Ей нравилось (ей все нравилось в Викторе), что он увлекается чем-то таким экзотическим. Он и сам был экзотический для нее персонаж (и это очень нравилось ей). Он был банкир (во Франкфурте всех банковских служащих именуют банкирами) с блестящим, похоже, будущим, с великолепными перспективами, но не просто банкир (просто банкир не заинтересовал бы ее, и Викторовы коллеги, с которыми иногда ей доводилось встречаться, совершенно одинаковые, в одинаковых галстуках, костюмах и лицах, ничего, кроме свербящей скуки, не вызывали в ней), а выходец из необыкновенной, до сих пор неведомой ей страны, из этой России с ее Транссибирским экспрессом, на котором любой немец, любая немка мечтает когда-нибудь прокатиться, с ее кремлевскими башнями, всякий раз возникающими в телевизоре, когда закутанный в арктические капюшоны и куртки, башлыки и шапки корреспондент сообщает из этой загадочной страны очередную плохую новость (в 2004-м и 2005-м новости были еще не всегда плохие; они потом стали портиться), и не только был он выходец из этой страны (куда ей самой и не пришло бы в голову поехать, при всех ее абстрактных мечтах о Транссибирском экспрессе; Уругвай и Коста-Рика были много реальнее для нее), но еще и адепт удивительного учения, про которое она знала только, что к нему неравнодушен был сам Картье-Брессон, один из ее героев. Она прочитала книжку Герригеля о стрельбе из лука (благо книжка коротенькая); она даже попробовала сидеть, то есть пошла вместе с Виктором в какой-то уже зимний, прозрачно-снежный вечер, в так удивительно близко от ее дома оказавшееся дзен-до, и познакомилась с Бобом, окатившим ее сиянием своих глаз и волос, с Иреной, с белокурой и восторженной Барбарой, после достопамятной вечеринки и своего знакомства с Бобом не пропускавшей ни одного, ни вечернего, ни утреннего, дза-дзена. Ни в какой лотос, ни в какой полулотос Тина сесть, разумеется, не смогла, и ноги даже от сидения по-турецки так сильно и так сразу у нее заболели, и так ей сделалась скучно, что больше не повторяла она этот опыт – хотя оценила все это, по крайней мере, как упражнение в сосредоточенности, как способ концентрации внимания; и аналогия между дзенским стремлением совпасть с текучим, летучим, неуловимым и, следовательно, как бы несуществующим, как бы пустым настоящим – и стремлением фотографа это настоящее в его неуловимости, в его непрерывном исчезновении, поймать, ухватить, удержать, – эта аналогия была ей понятна, приятна; уже тем приятна и радостна ей, что с неожиданной и новой стороны сближала ее с Виктором, создавала общее между ними. Все-таки внимание, которым окружал ее Виктор, казалось ей вниманием влюбленного; да оно таковым и было. Влюбленные вообще внимательны. У влюбленных всегда есть время. Влюбленные умеют слушать, не отвлекаясь на посторонние мысли. Виктор готов был слушать ее сколько угодно, часами обсуждать с ней варианты одной фотографии, ехать с ней, если был свободен от банка, на заказную съемку в любой соседний городишко, на праздник пожарников в Лимбурге и на выборы бургомистра в Ганау, часами сидеть за ее компьютером, налаживая очередную версию фотошопа. Она скоро разучилась без него обходиться. Он знал все об ее делах, почти ничего не рассказывал о своих. Если равной любви не бывает, говорит в одном стихотворении Вистан Хью Оден, то пусть я буду тем, кто любит сильнее. Let the more loving one be me… Виктор в то первое время, в первые два, даже три года, рассказывала мне Тина впоследствии, и рассказывала с горечью, рассказывала с раскаянием, Виктор без всяких сомнений был the more loving one, как ни странно. Она упрекала себя за это, но не могла ничего поделать. В конце концов, ей это было удобно. Она с этим смирилась, приняла это, сперва с благодарностью, с не совсем чистой совестью, потом как что-то само собой разумеющееся. Да и вправду ведь неинтересно ей было знать, чем он там занимается, в своем банке… В Тине (думаю я теперь) была (мне самому слишком знакомая) сосредоточенность художника на своем деле, которая часто выглядит как эгоизм, в известном смысле и является таковым. Ей жить было трудно. Пускай результат жизни был для нее важнее самой жизни, все же этот результат возникал из жизни, посреди и вопреки жизни, его нужно было у жизни отвоевать, а значит, и жизнь требовала к себе внимания и заботы, не чья-то чужая жизнь, но ее собственная, и значит, она сама, Тина, с ее дурными днями, добрыми днями. Если она не высыпалась, то не могла и работать, ни один кадр не удавался, фотоаппарат валился из рук. Поэтому нужно было обязательно выспаться. Виктору было все равно, выспался он или нет, все равно, как он себя чувствует, болит ли у него голова, да и с каким настроением проснулся он в тот или иной, зимний или весенний, пасмурный или солнечный день, да и сам этот день, пасмурный, солнечный… все это не имело значения. Он знал, что при всех обстоятельствах пойдет в свой банк и будет делать – хуже, лучше ли – то, что надлежало делать ему, главное – что при всех обстоятельствах, независимо ни от каких настроений, будет сидеть утром и сидеть вечером, в одиночестве или в дзен-до, что бы ни случилось, он будет. Дзен-буддизм тем хорош, сказал он мне как-то, что отменяет все наши настроения, все наши состоянья, недомоганья. Хочется тебе или нет, ты сидишь; сидишь в радости и сидишь в печали, неважно; даже если за день так устал, что вот сейчас, тебе кажется, завалишься набок, все равно продолжаешь сидеть. Потому у Виктора и не было никаких настроений. Настроения были у Тины: хорошие дни и плохие; женские дни, в которые она делалась невыносимой; дни удачной работы, счастливых снимков, когда солнце сияло над их любовью; и дни мрачные, тяжелые, долгие, когда только эта любовь и могла утешить ее, только Викторовы объятия и могли ее ободрить, Викторовы поцелуи вновь примирить ее с бытием.
Сила присутствия
Все же был в его внимании к ней некий дзенский привкус, которого она поначалу не различала, не чувствовала. Он вносил в их любовь дзенскую силу присутствия. Он вникал во все, что касалось Тины, потому что был влюблен в нее, но и потому что умел, приучил себя присутствовать в настоящем, быть здесь-и-сейчас, не отвлекаться, не думать о завтрашнем дне, не строить планы на будущее. Дзен и влюбленность усиливали друг друга. Еще не было в ту пору айфонов, но уже были люди, которые, разговаривая с вами, все время вертят в руках мобильный телефон, то ли мечтая о следующем звонке, то ли надеясь, что кто-нибудь им прислал смску. Не только Тина не могла себе представить Виктора так поступающим с нею, но он стоял, казалось ей, в почти бескрайнем спектре человеческих возможностей, форм жизни и способов поведения, на противоположном полюсе от этих фанатиков, данников, пленников беспроволочной связи, число которых росло с каждым днем; да он почти и не пользовался мобильными телефонами, разве что по работе и на работе. Он был с ней, здесь, в той комнате, где они сидели вдвоем, на той улице, по которой шли, в той кровати, в которой лежали, как еще никто никогда с нею не был; безоглядно был в этом здесь, в этом здесь-и-сейчас; отчего и ей казалось, что она еще никогда так не была в своем настоящем, не переживала его с такой силой, в такой красоте, хотя вообще-то считала себя специалисткой в этом деле. Умение забывать о себе, превращаться в чистое зрение – conditio sine qua non фотографии, особенно уличной (street photography); она знала это без всякого дзена, до всякого Виктора. Ей и хотелось немедленно схватиться за фотоаппарат, когда она чувствовала эту силу и красоту настоящего. Одного этого чувства еще недостаточно для удачного снимка, нужны сюжет, сцена, мотив и ракурс, которые не всегда находились. Был Виктор рядом с ней; безоглядно был здесь, с ней рядом; она и снимала его; не за неимением лучшего, а потому что счастьем было снимать его; искать и удерживать у него на лице, в его смеющихся, осмысленно-сумасшедших глазах, голом черепе и во всем его облике – отблеск, отсвет этого присутствия, этого здесь-и-сейчас; всякий раз, как в каменоломне когда-то, поражалась она тому, что он не позирует, не красуется, ни под кого не подделывается. Так же часто снимала она его, как снимала Берту в покинутом прошлом (та подделывалась постоянно и красовалась всегда); но совсем по-другому его снимала, дивясь не только его свободе от позы, но и тому, какими не-эротическими выходили ее фотографии, даже если она обнаженным, полуобнаженным снимала его, и при том, что уж точно не меньше Бертиного влекло и волновало ее это молодое, мужское, атлетически сильное тело, эта грудь, эти плечи.
На вершине
Страсть к фотографии – одинокая страсть. Тина и раньше ходила на охоту за уличными сценами сама по себе, и если шла с кем-нибудь, то старалась не злоупотреблять терпением своих спутников, как ни жаль ей было увиденных, упущенных кадров. Теперь почти не жаль их было, к собственному ее удивлению, когда она шла куда-нибудь с Виктором. Ей нравилось просто идти с ним рядом, не вынимая своей руки из его, широкой и крепкой, не думая о висящем на боку фотоаппарате, вообще не думая ни о чем, но пропуская сквозь себя, в чистой и невинной бесцельности, все то, что могло быть снято, но снято уже не будет, вот эти, вечером, растопыренные тени платанов на Майнском берегу, вот этого лохматого пса с мутно-пластиковым раструбом на шее, за которым долго наблюдали они, которого не сфотографировала она. Почему, и зачем, и какой ветеринар нацепил этот раструб на беднягу, они не знали, и спросить у пижонистой молодой пары, тянувшей его на поводке сквозь растопыренные тени, от одного платана к другому, не решились. Пес, прежде чем задрать ногу и пометить их, обнюхивал каждое дерево, и каждый столб, и каждую урну; раструб его с сухим стуком ударялся в этот столб, это дерево, на что ни он, ни его хозяева не обращали ни малейшего внимания, как если бы естественно было для собаки пластиковым жабо тыкаться в столбы и деревья; лиловые отблески пробегали по Майну; и ребра небоскребов, повернутые к закату, горели розовым затихающим пламенем. Была какая-то до сих пор ей неведомая горько-радостная свобода в том, чтобы дать пройти и погаснуть этим исчезающим впечатлениям, мгновениям, ничего не требуя ни от себя, ни от них, не стараясь спасти от гибели ни этих розовых ребер, ни этой собаки с раструбом, ни, в другой раз, идеально-белого, идеально-пухлого облака, к которому и прямо в которое шли они по идеально прямой, вверх и вверх, не круто, но очень упорно поднимавшейся просеке, в какое-то летнее воскресенье, в Таунусе, местных горах, куда Виктор иногда вытаскивал ее на хоть отчасти спортивную, нефотографическую прогулку. Стояли всякие облака над ними и лесом, облака светящиеся, облака с провалами в синеву, облака с темно-серым исподом. Облако, к которому они шли, было просто белым, так повисшим над вершиною кряжа, как если бы, пролетая, ненароком зацепилось оно за сосны. Недолго думая переместилось оно в другую часть неба, когда дошли они до вершины, и вершина оказалась не вершиной, но за ней обнаружились еще склоны, овраги, отроги Таунуса, уже синеватые; едва они обернулись, в синеватом же мареве, на широком горизонте, объявился, со всеми своими сверкающими, игрушечными небоскребами, Франкфурт; тут же и тоже исчез, неснятый и неспасенный, когда пошли они дальше. Был только лес вокруг них теперь; была другая, для прогулок непригодная просека, с рыхлой землей посредине, с двумя глубокими, как рвы, колеями, еще хранившими отпечатки трактора, вывозившего, надо думать, стволы срубленных сосен, ровной стопкой сложенные на перекрестке двух просек; на срезе всех стволов красной, даже днем фосфоресцирующей краской написано было: Meier: фамилия, оригинальностью не блещущая, хозяина всех этих бревен, посчитавшего, значит, каждое бревно и каждое дерево, как тот купец Рябинин, которому так глупо продал свой не обидной лес легкомысленный Стива, к отвращению Левина; Тина, в конце концов, не без труда, дочитавшая «Анну Каренину», о нем, наверно, не вспомнила. Она сидела на одном из бревен, отколупывая пальцами белые смоляные подтеки со светлой коры, разминая их, вдыхая их резкий запах; по-прежнему не фотографируя, просто глядя на Виктора, который, совсем по-детски воскликнув: смотри, черника, удалился в соседнюю чащицу; то появлялись, то почти исчезали за деревьями его синие джинсы, его черная майка; то и дело приседал он на корточки, потом, переходя на другое место, махал Тине рукою. Он вернулся к ней с полной горстью собранной им черники; с готовой рассыпаться горкой черники в горсти, которую, как сокровище, нежно нес он перед собою. Ее мама, вечность назад, вот так же шла к ней и к ее сестре, тогда еще совсем маленькой, здесь в Таунусе, на другой какой-то вершине, из-за других и по-другому освещенных деревьев, с черникой в ладонях, сложенных лодочкой. Они брали по ягодке, она и Вероника; потом поссорились из-за этих ягод; потом Вероника начала давить их пальцами, размазывать мякоть и сок по лицу, вокруг рта; потом… потом ничего не было; возвращение в настоящее. В настоящем Виктор стоял перед нею, с горкой черники в протянутой к ней ладони. Черника была кислая, с железистым привкусом. Она брала ее по одной ягоде измазанными и пахнущими смолой пальцами, на которых появились теперь синеватые, чудные, фиолетовые подтеки; она чувствовала себя той маленькой девочкой, которой когда-то была, которую забыла в себе; потом, как большая женщина, которой стала с тех пор, принялась есть с Викторовой ладони, беря губами последние ягодины и тут же целуя ладонь; и когда ягодин не осталось, начала водить языком по линиям, ямкам и углублениям этой его широкой, с черничным вкусом, ладони, словно стремясь, на вершине их жизни и счастья, прочесть будущее, узнать, что их ждет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































