Текст книги "Остановленный мир"
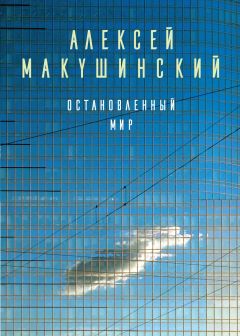
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Утонуть, погибнуть, напороться на ножик
А ведь он все-таки был, этот мальчик, все знавший про товарища Сухова, Петруху и Гюльчатай, и тот, кто следил за перемещениями солнца по дощатому полу, дожидаясь, чтобы брат, наконец, проснулся, тот совсем маленький мальчик, Витенька, тоже все-таки был, как был и вот этот взрослый синеголовый дядька, после долгой паузы, обеда и мытья посуды в совместном молчании вновь садившийся на подушку, сперва считавший выдохи, затем опять принимавшийся за свой неразрешимый коан; и хотел он этого или нет, но прошлое к нему возвращалось, хотя он вовсе о нем не думал и возвратить его отнюдь не стремился (да и считал его, как и полагается буддисту, иллюзией); и когда он искал в себе, сквозь боль в ногах, найти уже не надеясь, свое подлинное лицо, до рождения родителей, то эти родители ему виделись, их лица являлись ему, им не званные; и странно (еще раз), он совсем не такими их видел, какими видел их за два или три месяца до очередного сессина во время очередной поездки в Россию, одной из этих поездок, которые приводили его в места для него экзотические, в Новосибирск и Челябинск, но приводили его, случалось, и в Петербург – причем, приезжая туда по делам, всякий раз останавливался он, один или вместе с коллегами, в снятой для него банком гостинице, а домой приходил как в гости, иногда на пару часов, больше времени не было, и с каждым разом, каждым визитом его папа и мама казались ему еще сильней постаревшими и все более чужими ему, а эта маленькая, узенькая квартирка в когдатошней новостройке на Полюстровском, куда переехали они после Юриной гибели, где он рос, взрослел и страдал, тоже казалась ему все более чужой и все более узенькой, с таким узеньким коридорчиком, еще сжатым книжными полками, с такой крошечной ванной, что он уже с трудом в ней мог повернуться, и с совсем крошечной его комнатушкой, все решительнее, с годами, превращавшейся в склад и чулан; совсем не эти постаревшие лица ему являлись, помимо его воли, когда сидел он, глядя в стену и готовясь умереть на подушке, но те морские, обветренные лица родителей, какими они являлись ему тогда, в его детстве, после очередной их океанографической экспедиции на Сахалин или в Вентспилс, лица, которые он всякий раз успевал за время их отсутствия чуть-чуть подзабыть, так что ему заново приходилось привыкать к этому папе и этой маме, привыкнуть к которым он не успевал в полной мере, потому что они снова уезжали в Вентспилс, на Сахалин, в очередную океанографическую экспедицию: этот его высокий, всегда задумчивый папа, его маленькая мама, тогда еще не располневшая, не суетливая, как теперь, такая же, как теперь, несчастная, думал он (стараясь не думать, не думать не в силах); и не сами по себе они являлись ему, но вместе с вещами, кустами, деревьями, тоже, казалось ему до сих пор, навсегда им забытыми, вместе с необыкновенным – где он теперь? – десятилезвенным, действительно, ножиком, который, к ужасу взрослых, все на той же даче в Сиверской, сменял он у другого мальчика парой лет его старше, на подаренный ему родителями детский биллиард – дорогую вещь, к которой остался он равнодушен, которую сперва его дедушка, потом его папа и мама, с обветренными лицами возвратившиеся из очередного путешествия, пробовали получить обратно, договорившись с родителями того другого мальчишки, довольного провернутым дельцем и вовсе не желавшего возвращать драгоценный биллиард, как не желал и Виктор отдавать обратно свой ножик, потому что этот ножик был по тем временам удивительный, якобы французский, или так уверял тот мальчишка, и Виктор ему, по наивности своей, верил, ножик весь такой блестящий, такой стальной, с такими ножничками на отскакивавшей пружинке, с такой многозубренной пилкой, которой, впрочем, ничего было отпилить невозможно, как ни старался он, уходя с этим ножиком в лес, берясь за какие-то сучья, от которых хотелось ему, но никогда не получалось, отпилить хоть кусочек, оставляя свои бесплодные опыты, принимаясь за более успешное кидание ножика в стволы берез или сосен, попадавшихся ему на пути, бросая его так, этот ножик, как учили его другие мальчишки, то есть за лезвие держа его, затем резко выпуская из ни разу, чем гордился он, не порезанных пальцев, однажды чуть не целый час, в отчаянии, проискав его в высокой траве, куда упал он, должен был упасть он, отскочив от заскорузлого ствола старой березы, и где его не было, не было, не было, в растущем, вместе с травою, отчаянии…; и на другой день ножик в самом деле исчез, и Виктор (тогдашний, десятилетний) так плакал, так убивался, так повсюду искал этот ножик, накануне найденный не в той траве, куда бы полагалось ему упасть, но в десяти шагах, среди виноватых понурых елок, теперь же потерявшийся не в лесу, а просто так, просто в доме, на даче, непостижимым и омерзительным образом, – так искал, так плакал и убивался, как еще никогда, наверное, ничего не искал, ни о чем в жизни не сожалел и не плакал, и не на другой день, а на третий, если не на четвертый, когда он стоял – он так ясно видел теперь всю сцену – посреди той комнаты, где на даче они обедали и где помимо круглого стола и скрипучих выгнутых стульев был еще большой диван у стены с неподъемно пыльными, разлезавшимися и стремившимися выпустить наружу, на волю свою грязную вату подушками, между которыми, под которыми всегда таилось и пряталось что-нибудь – шашка, пробка, шахматная фигурка, – тремя подушками, прижатыми к спинке, и тремя, умятыми на сиденье, когда, значит, стоял он посреди комнаты, а папа и мама сидели, приминая подушки, вдруг, с хитрой улыбкой, которую не могла сдержать она, с фальшиво невинными глазами и все-таки несчастным лицом, его мама извлекла заветный ножик будто бы из-за подушек, но он-то видел, что из кармана своего летнего, халатообразного и по-дачному затрапезного платья, протянула ему – да вот же он, твой ножик! – где же? где же он был? – да вот же, в пазухе за подушкой! – а он знал, что там не могло быть ножика никакого, он уже двадцать раз там смотрел, за подушками, поднимал их, эти подушки, там всякий сор был за ними, бумажки, катушка ниток и наперсток, потерянный прошлым летом, но никакого ножика не было там, и, значит, его родители – он тут же все понял – просто боялись, что он порежется ножиком, напорется на этот ножик, как якобы напоролся на ножик царевич Димитрий, думал он, продолжая глядеть в свою белую стену, путаясь в воспоминаниях, перескакивая в совсем другую эпоху жизни, в тот какой-то восьмой, что ли, класс, когда в школьном спектакле по «Борису Годунову» он играл Самозванца… неужели это тоже и правда было с ним, с Виктором, дзен-буддистом, сидящим вот сейчас лицом к белой стене?.. значит, как тут же сообразил он, они просто украли у него заветный, обожаемый ножик, его папа и мама, боясь, что он поранится и напорется, а вот теперь увидели, как он страдает, как ищет и не прекращает искать, и таким глупым способом решили ему ножик вернуть, и неужели они в самом деле рассчитывали его провести, неужели думали, что он поддастся на такой убогий, такой ничтожный обман? ему просто противно стало и горько, он схватил ножик и опять убежал с ним в лес, говоря себе, что это все обман, один огромный, но убогий обман, что его пытаются провести и надуть, что скрывают от него самое главное; а что потом было и даже куда делся потом этот ножик, он вспомнить уже не мог, да вспомнить и не пытался, все это неважно, говорил он себе, и совсем неважно, что опять переместилось солнце по стене и по полу, по этому дощатому полу, вот точно так же, как перемещалось оно по дощатому полу на даче, когда еще с Юрой они там жили, до всякого ножика, по этому пресловутому полу, который не просто покрасили новой краской, в какое-то лето, и этой краской пахло затем во всем доме, но который перестилали однажды, как он мог забыть? ну конечно, его перестилали, этот пол, в то же лето, когда его красили, или в другое какое-то? наверное, в то же, но это точно было, думал он, уже не сопротивляясь воспоминаниям, надеясь или уже почти не надеясь, что они сами пройдут и исчезнут, как облака проходят по небу, как рябь бежит по реке, это было точно на той даче, которую его папа и мама снимали в Сиверской, хотя сами почти не жили там, уезжая в свои океанографические экспедиции: на Сахалин и куда-то еще, в Лиепаю и в Вентспилс, а он жил на даче с дедушкой и бабушкой, и ему строго-настрого запретили входить в ту комнату, где они спали с Юрой, потому что там просто не было пола в тот день, но прямо за дверью был провал, там были провал и пустота, думал он, не только не сопротивляясь воспоминаниям, но проваливаясь в них, как в самом деле провалился в тот невозвратимый, вот все-таки возвращавшийся к нему летний день, прямо под пол, на твердую бестравную землю, то есть он просто забыл, он же был еще маленький, что нельзя входить в их с Юрой комнату, что нет этой комнаты, забыл, открыл дверь, и шагнул не глядя, и провалился, очень больно ударился, и там, внизу, оказалась прибитая земля в белых пятнах и белых подпалинах, в щебенке, в краске и в извести, и его бабушка, никогда никаких личи ему не дававшая, вообще никаких личи в жизни не видевшая, очень его любившая, прибежала первая на его крик, с молодой легкостью спрыгнула с порога на землю и, Витеньку вытащив, убедившись, что он не ранен, руки и ноги целы, долго его оттирала от известковой и щебеночной пыли, целовала и гладила, и даже, кажется, наказан он не был, так все были напуганы, и наверное, следующее, да, следующее, наверное, лето его папа и мама решили провести, наконец, с сыновьями, дачу снимать не стали, но поехали на Рижское взморье, в Майори или в Меллужи, он не помнил, как назывался поселок, и лучше бы, думал он, они не делали этого, лучше бы сняли дачу и отправились на Сахалин, всю оставшуюся жизнь они не могли простить себе этого, и до сих пор, наверно, не могут, и где, собственно, они были в тот ветреный день, когда Юра потащил его на реку купаться, он не знает, никогда не спрашивал их и вряд ли станет спрашивать, думал он, глядя в стену и вдруг такими видя их, своих папу и маму, какими они стали теперь, четверть века спустя: постаревшего, хотя все еще задумчиво-красивого папу, суетливо-пухленькую, маленькую и навсегда несчастную маму, – куда-то, значит, пошли они вдвоем в тот страшный день без Юры и Вити, они, может быть, даже в Ригу поехали, ведь Юра был почти уже взрослый, уже можно было оставить с ним малыша, и, наверное, если бы Юра не утонул, он, Виктор, еще часто бы с ним оставался, еще много было бы таких дней в жизни, которые они провели бы вдвоем, и какая была бы это другая жизнь, он думал, не сопротивляясь ни воспоминаниям, ни мыслям, втайне надеясь или даже уже не надеясь, что они пройдут в нем, как облака по небу или как рябь по реке, какая другая, наверное лучшая, и как жалко теперь, он думал, этих не проведенных вместе дней, не случившихся дней, из которых тот роковой и ветреный был первым, единственным и последним, и даже если не так это было, он так это видел и чувствовал, глядя в стену, не видя ее, видя серую, хмурую, взвихренную мелкой рябью бескрайнюю реку, несущиеся по небу, ошалевшие облака, и конечно, это он должен был утонуть в тот день, как годом раньше он провалился, и конечно… нет, лучше, наверное… наверное, думал он, и думал об этом почти без горечи, просто думал и все, – наверное, его папа и мама не так бы страшно окаменели, если бы он, а не Юра утонул в тот день, в той реке, и он это знал всегда, в тот страшный день уже понял, хотя ни мама его, ни папа никогда не признались бы в этом ни ему, ни друг другу, а все-таки ему в детстве казалось, что, друг другу в этом не признаваясь, они самим себе, то есть каждый из них себе самому был вынужден в этом признаться, что они это знали, и даже знали, что он это знает, что он догадывается об этом и чувствует это, и потому им было стыдно перед ним, живым и не столь любимым, как мертвый, и потому они окончательно ушли в свою океанографию, думал он, не стараясь не думать, как бы сами погрузились в каких-то им в детстве, скорее всего сочиненных скафандрах на дно океана, в котором они по-своему тоже, выходит, тонули, в котором не видели того, чего не хотели видеть, и могли забыть то, что хотели забыть, и при том, что на самом деле ни его мама, ни его папа ни в какой океан ни в каких скафандрах, похоже, не погружались, но проводили свои исследования на берегу, в лучшем случае на корабле, да и не в этом же, не в этом же дело, и не в этих, вот опять он их видел, подтеках и пупырышках на стене, не в этих солнечных полосах на полу, а в том дело, что надо провалиться сквозь этот пол, войти в комнату, в которой нет никакого пола, и это он, наверное, придумывает теперь, что в тот день, когда провалился, уже начал чуть-чуть заикаться, и наверняка не придумывает, что начал заикаться в тот день, когда Юра утонул, а он нет, когда он так хотел и не мог ничего никому рассказать, объяснить и потом еще долго, все детство чувствовал себя виноватым, и всегда чувствовал, что от него скрывают что-то самое важное, что-то прячут, как спрятали десятилезвенный ножик, неужели это вправду так было? он не знает, он сидит здесь теперь, и считает свои выдохи, от одного до десяти, и погружается в свой коан, в поиски своего подлинного лица, которое должен показать Бобу, а как показать его? пускай все провалится, пускай провалится он, ступив за дверь своей комнаты, пускай утонет, как Юра, любимый и незабвенный, в лохматый ветреный день, и он хочет, Боже мой, да он всегда, всю жизнь и с самого детства хотел погибнуть, хотел утонуть, как если бы его подлинное лицо таилось там, в речной глубине, или так, может быть, как если бы его подлинным лицом было лицо его брата, не то лицо, которое он знал по фотографиям, а то, которое помнил, или ему казалось, что помнил, которое проступало в нем сквозь забвение, сквозь мутную воду и хмурую рябь, и уже чувствовал он, что погружается в эту воду, что уже в ней готов захлебнуться, и уже тяжело, шумно, мучительно дышал на своей подушке – но каждый раз какая-то сила его выталкивала наверх и наружу, вопреки его воле, и только после того, как Вольфганг или кто бы ни был старшим монахом ударял своей деревянной битой в медную миску, замечал он, что его – подлинное? не подлинное? все равно, какое бы ни было, – что лицо его залито слезами, что слезы текут у него вдоль крыльев носа, к уголкам рта, и эти до сих пор им самим незамеченные, невозможные и непостыдные слезы были как последние капли той воды, в которую только что он погружался, той речной воды, морской воды, вообще воды, вековечной воды; и встававшая рядом с ним со своей подушки, от своего коана Ирена смотрела на него встревоженными глазами и словно спрашивала его, но молча, говорить ведь было нельзя, что случилось и почему он так шумно дышал, так пугающе задыхался, и он легким движением руки, перебором пальцев показывал ей, что все в порядке, спасибо, волноваться не стоит, врача вызывать не нужно.
Умереть и ожить
За маленькими, потому что деревенскими и старинными, окнами дзен-до сиял, между тем, какой-нибудь летний, или, наоборот, какой-нибудь зимний, снежный, спокойно-солнечный день, совсем не похожий на тот ветреный, роковой, прибалтийский, когда Юра потащил его на водоворотную реку купаться, и когда он, Виктор, наскоро одевшись, зашнуровав сапоги, натянув идиотскую шапочку на бритую голову, выходил на двор хутора, снег и солнце ослепляли его, и это сияние солнца, сияние снега казалось не просто солнечным, не просто снежным сиянием, но проявлением и отсветом какого-то иного, огромнейшего сияния, в которое и вступал он, закрывая дверь за собою, в котором все предметы, все вещи – изгородь из заостренных и темных палок, беседка перед нею, с пепельницей для немногих курильщиков на перекладине парапета, у самого столбика, размокшие в пепельнице окурки, глубокие, остроугольные следы трактора на утрамбованной трактором же дороге, сухие стебли горчицы под снегом, – в котором все это раскрывалось ему навстречу, приветствовало и принимало его; и хотя он только что умирал на своей подушке, он чувствовал себя, выходя в сияние мира, насквозь живым, живым до какого-то даже легкого, веселого ужаса; так себя чувствовал, словно с каждым дза-дзеном и с каждым сессином росли и крепли в нем ему самому еще неведомые и непонятные силы, или даже так, может быть, как будто некая власть над этим принимающим его миром была ему дарована, им не заслуженная, власть над этой дорогой, этими сухими стеблями, этими кустиками, на которых еще видны были под снежным покровом красные, сморщенные, трогательные, продолговатые ягоды, неизвестно как называвшиеся, но тоже и все равно восхитительные; и поскольку времени у него было мало, двадцать, скажем, семь минут, не двадцать девять и даже не двадцать восемь, быстро, почти бегом, доходил он по накатанной тракторами дороге до леса и даже насквозь проходил его, до опушки, откуда среди высоких сосен, за соснами открывалось все то же, и меня когда-то так манившее, поле, с почти голубоватым мерцанием, медлившим теперь над снежной его пеленою, и за этим полем, по краю его бескрайности, откровенно синяя полоска другого, дальнего, уже неправдоподобного леса, над которым у него, Виктора, тоже была теперь какая-то таинственная, тайная власть.
Козий сыр, брокколи с миндалем
На другой день сессин заканчивался, и вместе с Бобом и Барбарой, Иреной, гетеподобным Вольфгангом, гейдеггерообразным Герхардом (и все с тем же чувством всесилья, всевластья) на поезде или на чьей-то машине он возвращался во Франкфурт, к жизни и к Тине; с чувством, что он может, в принципе, все; что нет, в принципе, ничего такого, чего бы он, Виктор, не мог. И, кажется, не было у них прекраснейших ночей, если судить по Тининым немногим намекам в ту тоже ночь, уже кончавшуюся, когда лежал я на кожаном диване в ее гостиной и студии, то засыпая, то вновь просыпаясь, и Тина, из-за полуприкрытой двери, то просыпаясь, то засыпая, принималась снова и снова рассказывать мне историю своего счастья, своего горя, – не было у них ночей прекраснее, чем эти ночи после сессина, с воскресенья на понедельник, когда Виктор со своей сумкой приезжал к ней прямо с вокзала или Вольфганг на машине подвозил его к ней, и стоя в дверях, она видела его поднимающимся по витой югендстильной лестнице, в полумраке подъезда, и он всякий раз казался ей изменившимся, всякий раз что-то было в нем неожиданное, непонятное ей. Он бежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и обнимал ее так крепко и так решительно, как если бы он был полководец, вернувшийся к своей возлюбленной из победного похода, из дыма и пламени выигранных им сражений, и тут же от нее отстраняясь, с такой вопрошающею любовью смотрел на нее, словно первым делом должен был убедиться, что это она, Тина, не измененная забытой им мирной жизнью, не изменившая ему, покуда он совершал свои подвиги, брал крепости, покорял города. Молчание, в котором неделю он прожил, еще обволакивало его прозрачной, тоже светящейся пеленою; разорвать ее Тина и не пыталась. И потому не пыталась, что это молчание не отделяло их друг от друга – и уж совсем не похоже было на то злобное, в котором замыкаются ссорящиеся, то свинцовое, в котором замыкалась некогда Берта, – а, наоборот, ее саму, Тину, окутывало той же светящейся пеленою, под которой так хорошо ей было и такую она чувствовала близость к нему, что сама боялась спугнуть эту близость, прорвать пелену словами, всегда случайными, почти всегда, в общем, ненужными. И так все было понятно, без всяких случайных слов. Мы обычно участвуем в драме; она чувствовала себя восхищенной зрительницей балета. Все, что он делал и как он делал то, что делал, в эти первые после сессина часы, походило и вправду на танец; то, что он вообще делал в жизни, все более походило на танец; но никогда не походило так сильно, как в эти первые часы по возвращении с буддистского хутора. Ей казалось, он точно знает, как она себя чувствует, что гнетет ее, что тревожит. Он снова обнимал ее, и она успокаивалась. Все становилось просто, ясно, словно самую главную тяжесть одним своим прикосновением он снимал с ее плеч. Ни о чем не спрашивая, не спрашивая, хочет ли она ужинать, а если хочет, то не предпочитает ли пойти к итальянцам, еще не закрывшимся (она и пошла бы, но уже знала, что он не пойдет – как если бы, улыбаясь думала она про себя, все эти шесть или семь часов он ехал из Нижней Баварии с единственной целью ее, Тину, поскорей покормить, предполагая, очевидно, что она голодала без него здесь во Франкфурте; хотя она вовсе, увы, не голодала здесь без него), тут же, скоро и тщательно вымыв руки, принимался он на ее маленькой кухне готовить что-нибудь очень изысканное, очень вегетарианское, им самим придуманное или вычитанное в особенных, альтернативных (как в Германии принято выражаться), вегетарианско-буддистских поваренных книгах, которые, к Тининому удивлению и умилению, покупал он, или что-нибудь, накануне подсмотренное им у Аники, по-прежнему, как и в мое время, баловавшей буддистов экзотическою едою, – какой-нибудь шпинат с кусочками козьего сыра или тыкву с манго, или сладкий картофель с курагою и апельсином, или хоть брокколи с миндалем, оливками и натертой лимонною цедрой – смотря по тому, что он находил на кухне и в холодильнике, а находил он там, как правило, то же, что сам положил туда перед отъездом (Тина заниматься хозяйством вообще ненавидела). Ко всякому блюду, включая сладкий картофель, подавался, понятное дело, рис (темный рис с длинными, еще более темными злаками в нем, купленный в биолавке); и стол в гостиной (она же студия, она же, в такой вечер, столовая) накрывался (сам собой накрывался, казалось Тине, как в тех сказках, которые девочкой она любила читать) с совершенной, пускай по-домашнему скромной, отчетливостью и простотой сервировки (без всяких поползновений на японизацию оной; по-японски, сидя на полу на подушке, за комически низеньким столиком и пользуясь палочками, Виктор ел у себя дома; Тине это нравилось, как все и все еще нравилось в Викторе; сама и в своей гостиной она предпочитала, однако, европейский стул, стол, нож и вилку), с продуманной, вовсе не педантической и уж совсем не торжественной, а скорее тоже какой-то танцующей тщательностью, напоминавшей Тине ее отца, который за всякой трапезой и в ее детстве, и до сих пор тихонько, смеясь глазами, подравнивал тарелки, вилки и ложки, салфетки в их серебряных кольцах, разглаживал скатерть и стремился расставить солонку, перечницу, чашу с салатом и зелено-стеклянную, узкогорлую, с самого раннего детства ей памятную вазочку с одним каким-нибудь, смотря по сезону, цветком в том идеальном порядке, который лишь на мгновение возникает на земле, на столе, который все-таки и перед супом, и после оного, и перед десертом отец ее пытался восстановить, переставляя перечницу и потихоньку, с непобедимым упорством, разглаживая скатерть перед собою теперь уже старческими, крапчатыми руками, без всякого упрека, даже без намека на упрек неаккуратным домочадцам, жене и дочкам, а просто потому, что иначе неприятно ему было сидеть за столом, невмоготу приняться ни за суп, ни за сыр, подаваемый и поедаемый у них дома, по завезенному Винфридом из прекрасной Франции обыкновению, между жарким и десертом. В Викторовых танцевальных действиях тоже никакого упрека не чувствовалось; он, казалось Тине, даже и не думал о том, что он делает; и уж во всяком случае, не для того делал все это, чтобы ей, Тине (сидевшей на диване и восхищенно наблюдавшей за ним), что-то показать, доказать; но в зачарованном сне (казалось ей) и вместе с тем в состоянии всевластного бодрствования, которое она даже и представить себе не могла, которому втайне завидовала, перемещался по ее гостиной и кухне, скупыми, всегда верными и словно изнутри освещенными движениями бросая брокколи на послушно полыхавшую сковородку, отжимая курагу в кулаке с покрасневшими от воды и природы косточками, пробуя рис и кладя оживавшие у него в широких руках ложки, ножи и вилки черенком на скатерть, острием и черпалом – на крошечные малахитовые подставочки, тонкие палочки, соединявшие между собою четырехконечные, пропеллероподобные раскоряки (дивные штучки, которых в Тинином холостяцком хозяйстве до появления Виктора и в заводе, разумеется, не было, которые она купила не совсем за гроши на блошином рынке, чтобы доставить ему удовольствие, после того как он увидел – оценил и одобрил – такие же на столе у школьной ее приятельницы, владелицы гиппического хутора в шпессартском уединении, куда они с Виктором однажды заехали).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































