Текст книги "Золотая симфония"
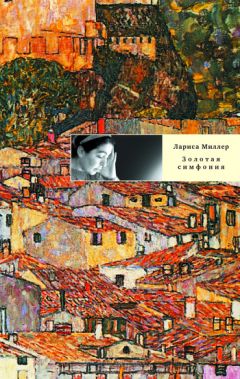
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Беда в том, что когда садится аккумулятор, требуется помощь извне. Когда задыхаешься «в однообразье нестерпимом», нужно, чтоб кто-нибудь пришёл и хоть на мгновенье выдернул тебя из опостылевшей рутины, как когда-то в мой десятый день рождения сделала мама, уведя меня с последних двух уроков в детский театр. Спектакля не помню совсем, потому что весь запас эмоций израсходовала, пока спешила по непривычно тихому школьному коридору и безлюдным лестницам в пустой гардероб, торопилась по залитой солнцем улице, ехала в полупустом троллейбусе на любимом месте у окна и, жуя специально припасенные мамой бутерброды, думала о предстоящем представлении, вечерних гостях и подарках. Это было то самое счастливое «вдруг откуда ни возьмись», которое почти каждый испытал в детстве и, увы, далеко не каждый – во взрослой жизни.
Травка зеленеет, солнышко блестит,
Ласточка с весною в сени к нам летит. —
этот стишок вертелся у меня в голове, когда нас везли вдоль зеленеющих полей с аэродрома в гостиницу. То была моя первая поездка за рубеж, когда в конце восьмидесятых «оковы рухнули» и «свобода вручила» мне авиабилет до Бостона с пересадкой в Шэнноне. Предполагалась ночёвка в ирландском городке Лимерике. Покинув несколько часов назад тёмную, холодную, январскую Москву, мы приземлились в цветущем майском мире, где над головой летали какие-то экзотические птицы, добавляя красок и без того красочному зрелищу. Засыпая в уютной, похожей на старинную усадьбу гостинице, я вспоминала, как когда-то поразила моё воображение давняя, шестидесятых годов, конечно не заграничная, но всё же приграничная поездка по живописному Закарпатью. Вспомнила, как автобус, двигаясь вдоль границы с Румынией, однажды настолько приблизился к колючей проволоке, что можно было отлично разглядеть иностранного мужика в фетровой шляпе и потёртой кацавейке, который, размахивая кнутом, загонял в хлев иностранную корову. Я извертелась, стараясь досмотреть до конца сценку из запретной, неведомой жизни.
Эти мелькающие картинки пёстрого мира, дальняя дорога, шуршание шин, перестук колёс, гул мотора, – спасибо им! Они иногда способны выручить того, кто уже не в силах помочь себе сам. Они тормошат, морочат, кружат голову до тех пор, пока душа не соскучится по себе самой, по тем чудесам, которые творит сама, заставляя обыкновенный лист бумаги фосфоресцировать в ночи в ожидании стихов.
О мир, твои прекрасны штампы:
То свет с небес, то свет от лампы,
То свет от белого листа …
Прекрасны общие места.
Что за окошком? Там светает.
Что будет завтра? Снег растает.
О Божий мир, моей душе
Дари не ребусы – клише.
Весной средь бела дня
Весна – странное время. Чем больше неба и света, тем очевидней несовершенство мира и собственная некондиционность. Весна проливает свет на всё, всякий раз заставая мир врасплох и не в лучшем виде. Вот он – воинственный, грохочущий, захламлённый, больной. Вот они, вернее, мы, сделавшие его таким и требующие Всевышнего к ответу за все несчастья. Но Всевышний «повинен» лишь в том, что создал нас, а мы, вообразив себя его соавторами, творим и творим. И в основном безобразие. На дворе теплынь, пушистые облачка плывут над крышами бетонных крупноблочных кварталов, а возле домов валяются вылезшие из– под растаявшего снега пустые молочные пакеты, банки, жестянки, селёдочные хвосты, куриные кости, грязные бинты – щедро освещаемые солнцем отходы бытия.
Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ, больше жизни
Поспевай, не задерживай, шагай!
Эту песню пели несколько десятков лет назад, когда считалось, что «человек рождён для счастья, как птица для полета». А почему бы и нет? Кто откажется подежурить ночь в саду, чтоб выследить и ухватить за крыло Жар-птицу, которая, по слухам, летает туда за золотыми яблоками? Хотя садов поубавилось, Жар-птица всё равно иногда опускается на землю. Это знает каждый. Особенно в детстве. Я, например, до сих пор храню книжку, сочинённую и нарисованную специально для меня моими любимыми друзьями дядей Лёшей и тётей Лизой, подаренную мне весной 1947 года на мой седьмой день рождения.
Речь ведёт теперь Жар-птица,
Раскрасавица-Девица:
Слушай песенку мою,
Будешь петь, как я пою!
И перо приносит в дар,
Не перо – огонь, пожар!..
Слева от стихов красовалась Жар-птица с короной на голове и длинным пёстрым хвостом, а справа – огненное, рассыпающее искры перо. Обещанная мне в детстве Жар– птица и впрямь прилетала, делая немыслимые подарки. Однажды она появилась среди зимы и, осветив всё вокруг, подарила мне его. Казалось, само небо спустилось на землю.
Казалось… Много чего казалось. Но пришла весна, и его неповторимый голос неожиданно сел и зазвучал хрипло и отчуждённо. «Ничего, – утешала я себя, – весна – тяжёлое время для астматиков. Вон сколько раздражителей: пух, пыльца, солнечный свет». Но дотошный и пронизывающий луч не оставлял места для самообмана и велел смотреть, не отводя взгляда. Смотрю и вижу… уютную кухню моей близкой подруги. За столом он, она и я. Я появилась без звонка, неожиданно для них обоих. Пришла, потому что не находила себе места после вчерашнего телефонного разговора, состоявшего в основном из пауз и его натужного кашля. «Болен, – твердила я себе, – очередной приступ астмы». А сегодня, слушая его богатый модуляциями голос и видя счастливую улыбку, я убедилась, что он действительно болен, «прекрасно болен», но – не мной. Для меня всё кончено. Утопающая в солнечных лучах кухня, украшенная нарядным абажуром и забавной настенной росписью, стала местом моей казни, довершить которую выпало моей подруге с помощью чёрного зеленоглазого кота по кличке Мао. Погуляв по кухне и потеревшись о ноги, Мао прыгнул к нему на колени. Боясь нежелательных последствий (пушистый кот мог вызвать удушье), подруга наклонилась и осторожным, бережным, интимным движением сняла кота с его колен. Этот её жест оказался для меня смертельным: голова моя покатилась с плеч. На лице ещё играло подобие улыбки, губы дрожали, произнося какие-то слова, но приговор был приведён в исполнение.
Этих дней белоснежная кипа.
В перспективе – цветущая липа.
Свет и ливень. Не диво ль, не диво,
Что жива на земле перспектива?
С каждым шагом становятся гуще
Чудо-заросли вишни цветущей,
Птичьи трели слышнее, слышнее,
А идти всё страшнее, страшнее.
Ведь осталась любовь неземная
За пределами этого рая.
Весна – время катастроф. Весной я впервые видела агонию. Умирала бабушка. Она страшно вскрикнула и повалилась на спину, дёргаясь и выгибаясь так, будто через неё пропускали ток, а потом резко вытянулась и затихла. Я держала ещё тёплую, знакомую до каждой трещинки на пальце руку и ловила замирающее дыхание. На ночном столике лежала красная подушечка для иголок, стояла катушка с нитками, валялась моя кофта, на которой она собиралась укрепить пуговицу. Уведя на улицу потрясённых детей, я тупо следовала за ними по золотому полю одуванчиков, пёстрому от медуницы склону оврага, по хлипкому мостику через ручей. Пели соловьи, куковала кукушка – происходило то, чему положено происходить весной. Когда мы вернулись домой, постель была пуста: чтобы не терзать детей, бабушку увезли в морг. Она умерла в мае, в том самом месяце, в котором за 65 лет до того родила маму. А тремя годами позже умерла мама. И тоже весной, в марте, в том месяце, в котором когда-то произвела на свет меня. На мой день рождения несли мимозу, на мамин – сирень.
Сирень, именины, веселье, звонки,
Недуги, усталость, прощанье, венки…
Букеты в начале, букеты в конце…
Живём, постепенно меняясь в лице,
Меняясь настолько, что нас не узнать.
О вечная присказка «время не трать»,
То самое время, которого нет, —
Легчайшее бремя отпущенных лет.
Последний мамин день не был солнечным, но свет струился невесть откуда. Его источали остатки снега, лужи, ручьи, стволы деревьев, его жадно ловили окна домов. Одно из них было маминым больничным, последним. Сквозь него она видела большое старое дерево и пролетающих птиц. Она любила наблюдать за ними, пока была надежда. А в тот день её серое лицо не выражало ничего, кроме усталости и смертной муки. Войдя к ней в палату и убедившись, что она не дышит, мой отчим принялся хлестать её по щекам, видимо вспомнив, что так поступают, когда кто– то теряет сознание. Его оттащили и заставили выпить успокоительное.
Весна – место встречи конца и начала, время их братания. Накануне весны родился мой младший сын, меченный множеством золотых веснушек. А за четыре дня до его появления на свет умер дедушка, немного не дожив до своего девяностодвухлетия. Весной что-то творится с нитью жизни. Она становится почти зримой на весеннем свету, запутывается, дрожит, натягивается, утончается, рвётся. Ей на смену появляется другая, тоже непрочная, но гибкая и живучая.
Весной происходит ломка стереотипа, нарушение уклада. Даже если не весной, а позже, то зачинает её весна. С детства помню, как сосало под ложечкой в предчувствии «перемены участи»: конца учебного года, последней контрольной, неотвратимых экзаменов, сулящих торжество или поражение.
Весной из «медвежьих углов» неизменно извлекали чемоданы с надписью «лето» и производили инвентаризацию моих летних вещей. Глядя, как бабушка вдевает нитку в иголку, делает на ней узелок или перекусывает её, пришив очередную метку на трусы и майку, я впадала в тоску и лила «невидимые миру слёзы». Потому что всё это предвещало скорый отъезд и лагерную жизнь в «здоровом коллективе»: побудку, отбой, ненавистный «мёртвый час» средь бела дня, когда закрыв глаза и притворяясь спящей, слушаешь доносящиеся с «воли» голоса и мечтаешь вырасти и дожить до тех времен, когда… дальше мысли путаются и наступает сон.
Весна – время тайных притязаний, головокружительных и туманных замыслов. Прежняя жизнь раздражает, как надоевший хомут, так и подмывает взбрыкнуть, вырваться, умчаться в пампасы или хотя бы к подмосковным прудам на лягушачью свадьбу. Весна сама провоцирует на шатания и взбрыки, затевая с нами игру, подобную той, что вёл персонаж чеховской «Шуточки». «Сюда, сюда», – звучит над ухом, а оглянешься – нет никого. Только ветка хрустнула, лёд треснул, луч скользнул по щеке. Сплошные заморочки. Пора бы привыкнуть и не попадаться на удочку. Но если не попадаться, стоит ли жить?
Именно ранней весной, а никак не накануне календарного нового года, в существовании образуется крен, происходит сбой, нарушение ритма – нечто, заставляющее пересмотреть самые основы бытия.
Ещё немного всё сместится:
Правее луч, южнее птица —
И станет явственнее крен,
И книга поползёт с колен.
Сместится взгляд, сместятся строчки,
И всё сойдёт с привычной точки,
И окажусь я под углом
К тому, что есть мой путь и дом…
Как ни парадоксально, но именно в пору высокой воды оказываешься на мели, на нуле, на голодном пайке, запасы витальности оскудевают и наступает авитаминоз, дефицит вещества, от которого зависит следующий шаг, кон, виток спирали. И неоткуда ждать помощи. Ищи недостающие элементы сам, как собака свою травку. Но чтобы искать, нужен тонус. А откуда ему взяться при авитаминозе? Проблемы, проблемы, но проблема одна. Имя ей – «я». То самое «я», которое заставляет художника метить своим именем холст, а поэта – лист бумаги, как будто взывая: «Вот я, Господи. Весь как на ладони. Нет у меня тайн от Тебя, и нет сил творить анонимно, подобно средневековым мастерам. То ли гордыня мешает, то ли столь необорима потребность в суде Твоём, в защите Твоей». «Я» – странное существо, вечно чего-то требующее для себя и вечно стремящееся от себя освободиться, облегчить душу, выговориться, сбросить часть своей ноши, остаться налегке, стать прозрачным, как весенний день, сквозь который плывут облака и летают птицы. И зачем только мир обременён войнами, эпидемиями, стихийными бедствиями, если и без них бытие – испытание, и любая человеческая особь, если только её душа не спит, являет собой болевую точку и очаг напряжения: обида – жжёт, жалость – мучает, совесть – терзает, страсть – сжигает, нежность – переполняет. С самого рождения каждый из нас приговорён к высшей мере всего земного. Каждому из нас суждено провести жизнь, путаясь в многочисленных пёстрых тканях, которыми Господь задрапировал то, чему нет имени. Весной эта ткань, эта майя, становится почти прозрачной, но просвечивает сквозь неё лишь небесный ультрамарин. И ничего больше. Спаси меня, майя. Поддержи, как держит на плаву солёная вода Мёртвого моря. Дай пройти нулевой цикл, не опустившись на дно.
Весна – это страсти, завершающиеся испусканием духа и воскресением. Это – точка, откуда просматривается земля обетованная, вход в которую нам заказан. Да это и к лучшему. Стоит на ней осесть, как она исчезает. Всякая оседлость лишает свободы. Едва остановишься, облепят мелкие заботы, как кровососы на привале. Прийти нельзя, можно только идти. Идти, обмахиваясь зелёной веточкой, похожей на ту, что когда-то давным-давно стояла на моём столе в стеклянной банке. Была весна. По радио звучал фортепианный концерт Рахманинова. Окна были распахнуты. До экзамена оставался день. Я смотрела в книгу и видела гортань в разрезе, твёрдое и мягкое небо, язычок и прочие детали, необходимые для произнесения звуков. Но фонетика жила своей жизнью, а я своей. И моя была полна весенних запахов и грёз, рахманиновских разливов и раскатов и залетающего в окна тополиного пуха.
Коктебель 61-го
Из эссе «Поговорим о странностях любви»
Татьяна Александровна Мартынова – геофизик, дочь старого большевика, редактора «Искры». Несмотря на то что ей было под пятьдесят, её почему-то все называли Таней. Оттого, наверное, что она была общительна, подвижна и удивительно легка на подъём. Я познакомилась с ней в Москве, но подружилась в Коктебеле, куда впервые попала летом 61-го года. Однажды на тропинке, ведущей к морю, я неожиданно увидела Таню. С этой минуты моя коктебельская жизнь переменилась. «Завтра мы пойдем в горы, – заявила она, не спрашивая моего согласия. – Я постучу тебе в окно в шесть утра». И она постучала. Через пять минут мы уже были на рынке и завтракали только что купленными молоком и творогом, а ещё через несколько минут поднимались по тропинке в горы.
Боже, что мне открылось! Дивный вид на море и посёлок. Холмы, поросшие неведомыми мне травами. Таня, указывая на вершины, называла их странно звучащими татарскими именами. «Видишь те скалы над морем? Они похожи на волошинский профиль», – сказала она. Ещё до приезда Тани я много раз слышала имя Волошина, проходила в двух шагах от его дома, видела открытую веранду, откуда доносились голоса и смех. Но жизнь моя текла мимо: пляж, дом, пляж, столовая. И вдруг: «После обеда пойдём к Марии Степановне – вдове Волошина». Волошин – имя из моего детства. Когда-то давным-давно я держала в руках его сборник в линяло-матерчатом переплёте и читала золочёную надпись: «Максимилиан Волошин. Иверни. 1918 год». Запомнив имя, я не знала ни строки, ни судьбы поэта.
И вот я поднимаюсь по скрипучим ступенькам на второй этаж. Мария Степановна, маленькая, коренастая, седая, коротко стриженная, радушно встречает Таню, которую знает давно. Не приглашая нас в комнату, она усаживает тут же на веранде, садится рядом, подвернув под себя ногу, и принимается расспрашивать Таню о Москве. Я разглядываю древесные корни, висящие на стенах дома. Они похожи на фигурки бегущих животных и танцующих людей. Заметив мой взгляд, Мария Степановна сняла один корень и протянула его мне. «Габриак», – услышала я странное слово. Так коктебельцы назвали эти фигурки. Я гладила корень, а Мария Степановна рассказывала историю придуманной Волошиным загадочной поэтессы Черу– бины де Габриак. Мимо дома тёк пёстрый, летний, людской поток, слышалась музыка, доносился запах съестного. Мария Степановна с горечью говорила об исчезающем Коктебеле, о том, что его безбожно уродуют и терзают. Всё иное: море, берег, звуки, запахи.
Но в следующие свои приезды я вспоминала Коктебель 61-го как девственную и безнадёжно утраченную планету, с ещё не исчезнувшими окончательно разноцветными камушками на берегу, с диким кизилом и вечерними цикадами в горах, с морскими бухтами, куда добирались на лодках или пешком, с табачной плантацией на пути к Мёртвой бухте.
Какую жизнь вели мы с Таней тем летом! Бегали в горы, купались голышом в далёких безлюдных бухтах, плавали на лодке к Золотым воротам. А главное – приходили в Дом Поэта слушать рассказы Марии Степановны о Максиньке и беседовать с древними старушками, которые говорили о давно ушедшем как о вчерашнем дне. Но, увы, слушая во все уши и глядя во все глаза, я мало что понимала, так как понятия не имела о том времени, о котором шла речь. И всё– таки, обладая ещё почти детской памятью и вниманием к деталям, я многое запомнила на всю жизнь: волошинские неяркие акварели, конторку, стоящую возле двери, тусклое зеркало над конторкой, огромную перламутровую раковину с Индийского океана, привезённую Волошиным из дальних странствий, бесконечные книжные полки, вид из окна на море и профиль поэта. А главное, висящую на стене мастерской маску египетской царицы Таиах – её загадочную полуулыбку. В один из своих приездов в Коктебель на диванчике под маской ночевала Таня, о чём часто с гордостью рассказывала. Где она только не ночевала в своём лёгком и тёплом пуховом мешке, который всюду возила с собой: и в лесу, и в горах, и у моря, и в Доме Поэта возле бессмертной Таиах.
Однажды мне было разрешено принять участие в уборке дома. Вытирая пыль с книг, я то и дело слышала восхищённые восклицания и бормотания Тани, натолкнувшейся на очередную редкую книгу. Она тут же опускалась на табурет и принималась читать. Мне тоже хотелось восхищаться и трепетать, но я не знала чем и от чего. Тем не менее я тоже садилась на деревянные ступеньки, ведущие на галерею и в верхнюю комнату дома, и листала пожелтевшие страницы. Уборка продвигалась медленно, и за эти долгие часы в меня, кажется, на всю жизнь въелся запах старых книг.
На следующий день в награду за труды Мария Степановна вынесла целую кипу волошинских статей и стихов и разрешила читать. И вот жарким летним днём я сидела в прохладной полукруглой комнате за столом и переписывала всё подряд под насмешливым взглядом египетской царицы. Она-то знала, что я слепой щенок, который тычется во все эти мудрые строки, ничего в них не смысля.
Ещё целых двенадцать лет оставалось до того дня, когда старый ленинградский профессор Виктор Андроникович Мануйлов – завсегдатай Коктебеля, лермонтовед и знаток Волошина – пригласит меня почитать стихи в Доме Поэта, и строгая нелицеприятная Мария Степановна, дослушав чтение до конца, скажет: «Спасибо. Мне стало интересней жить».
Виктор Андроникович – любимец студентов и аспирантов, всегда окружённый людьми, всем необходимый, вечно занятый, с постоянной горкой писем на столе. Он неизменно излучал приветливость и радушие и по старой университетской привычке, всех, даже юных, уважительно называл по имени-отчеству. Я впервые увидела Мануйлова, когда он водил по дому гостей и что-то им тихо рассказывал, боязливо поглядывая на дверь. Позже я узнала, что он, поддавшись на уговоры, пустил в дом посетителей, нарушив запрет уставшей от летних гостей Марии Степановны. И, зная её крутой нрав, просил их ходить на цыпочках и говорить шёпотом. Когда же она всё-таки появилась в дверях, он начал оправдываться, смущённо и виновато улыбаясь.
У него была замечательная внешность: младенчески розовое лицо, смеющиеся глаза, оттопыренные уши и вечная тюбетейка на лысом черепе.
Когда я попала в его поле зрения, он воскликнул: «Да вы же фаюмочка, вас непременно надо писать». И повел меня к московскому художнику Валерию Всеволодовичу Каптереву, тоже завсегдатаю и патриоту Коктебеля. Каптерев жил возле рынка в маленьком, белом, типично коктебельском доме. Стены его комнаты были завешены простынями. «Я закрыл ими пёстрые хозяйские коврики, чтоб не отвлекали», – объяснил он. Валерий Всеволодович усадил меня посередине комнаты на табурет и, вцепившись в мое лицо хищным, прищуренным глазом, принялся писать. Я же тем временем разглядывала его картины. Картон небольшого формата населяли мидии, странные рыбки, петухи небывалой расцветки, цветы – всё знакомое и незнакомое, здешнее и нездешнее. Каптерев писал быстро. Он сказал, что это его первый портрет после двенадцатилетнего перерыва. Взглянув на портрет, я обомлела: передо мной была восточная красавица с нежной смуглой кожей лица, миндалевидными глазами и ломаной линией бровей. Она смотрела в пространство капризно и отчуждённо, как бы говоря: «Надеюсь ты понимаешь, что не имеешь ко мне ни малейшего отношения?» «Но ведь на тебе мой розовый халат в белый горошек и у тебя коса, как у меня?» – с робкой надеждой задала я свой немой вопрос. Но та, на портрете отказывалась продолжать беседу. Она уже жила своей, недоступной мне жизнью. Позже в Москве Валерий Всеволодович рассказывал, что многие молодые люди, увидев портрет, просят у него телефон юной красавицы. Я заклинала его не давать никому моего телефона, с тоской предвидя реакцию бедных поклонников.
Виктор Андроникович, обрадованный удачей с портретом, собрался идти со мной к скульптору Григорьеву, чтоб тот меня лепил. Но я категорически воспротивилась. Мне хватило и портрета.
Таня Мартынова, Виктор Андроникович Мануйлов, а позже Арсений Александрович Тарковский – незабвенные мои проводники в затонувший Град Китеж – не знаю как назвать разрушенный, почти уничтоженный мир, который я потом всю жизнь пыталась восстанавливать по крохам, дорожа каждой строкой, каждым штрихом, каждым упоминанием.
Таня Мартынова открыла мне истинный Коктебель – Коктебель художников, поэтов, странников.
Она познакомила меня с картинами Фалька, приведя в дом на берегу Москва-реки, где жила его вдова. И хотя я мало разбиралась в живописи, но понимала, что дышу особым воздухом и соприкасаюсь с тем миром, который изгнан из обыденной, повседневной жизни.
Она возила меня в Мичуринец к Валентину Фердинан– довичу Асмусу, своему доброму другу. И я на всю жизнь запомнила, как пожилой ученый-философ, слушая свою любимую пластинку, ходит взад-вперёд по кабинету, улыбается и потирает от волнения руки. Таня показала мне комнату, в которой останавливались Гаррики (так друзья называли Генриха Густавовича Нейгауза и его жену), когда приезжали к Асмусам на дачу.
Благодаря Тане я имела случай наблюдать, как Нейгауз слушает на отчетном концерте своих учеников, то нетерпеливо отбивая костяшками пальцев такт, то напевая себе под нос, то выкрикивая с места что-то грозное и уничтожающее.
Спасибо судьбе, что я застала этих людей. Они – почти последние звенья оборванной цепи. Лишь гораздо позже я смогла в полной мере оценить, с чем соприкоснулась, и пожалеть, что так мало смыслила.
Дружба с Мануйловым длилась много лет до самой его смерти в 1987 году. Для меня Мануйлов это не только Коктебель, но и Ленинград, и Комарово.
Году в семьдесят третьем мы всей семьей жили несколько дней у него в огромной ленинградской коммуналке, где ему принадлежала поделённая пополам комната непонятной формы (часть бывшей залы, наверное), с камином и лепными потолками. Странно выглядела на мраморном камине жестяная мыльница, с которой Виктор Андроникович ходил в ванную комнату умываться. Эта ванная комната была замечательна тем, что по стенам её сверху донизу стояли полки со старыми газетами и журналами. Надо было быть Виктором Андрониковичем, чтоб многочисленные соседи не возражали против этого.
Живя у Мануйлова, я впервые прочла Ремизова, Ю. Анненкова. Я бы прочла и многое другое (книги лежали на рояле, на полу, на столах и полках), но мне было отпущено только пять дней.
Трудно себе представить, что больше не существует мануйловской комнаты на 4-ой Советской. Печальная вещь – демонтаж такого мира.
Низкий поклон Виктору Андрониковичу. Как удивительно он умел слушать стихи! Он откидывался на спинку дивана и буквально внимал с видом мечтательным и счастливым. Виктор Андроникович любил разделенную радость, и потому всегда приглашал «на стихи» гостей. «Отлично, отлично, – взволнованно говорил Мануйлов. – Баховская патетика». После таких слов хотелось творить чудеса. Жизнь казалась осмысленной, наполненной, беспредельной.
«Я счастливый человек, – говаривал Виктор Андроникович. – Мне нечего терять: ни жены (он разошёлся с ней незадолго до нашего знакомства), ни машины, ни дачи».
Однажды, уже совсем старым человеком, он застенчиво признался, что всю жизнь пишет стихи. И рассказал, что в давние годы его руку посмотрел один хиромант (Виктор Андроникович очень верил в эту науку и хорошо знал её) и посоветовал не печатать и не показывать стихов в течение пятидесяти лет. Мануйлов последовал этому совету и выпустил свой единственный стихотворный сборник в 80 лет.
Коктебель без Мануйлова. Ленинград без Мануйлова. Комарово без Мануйлова. Скучно думать об этом.
Вижу его стоящим на зимней платформе Комарово, в длинном черном старомодном пальто и галошах. Снег ложится на шапку и воротник. Виктор Андроникович улыбается и машет рукой. Электричка увозит меня в Ленинград. А вечером я уеду в Москву, куда будут время от времени приходить короткие, но вдохновенные письма из Ленинграда. Летом 61-го на пятачке перед Домом творчества, на второй день нашего знакомства Виктор Андроникович читал мою руку. «Вы будете писать. У вас огромная тяга к самовыражению». Сказал он и многое другое. Позже я удивлялась его прозорливости, но в ту пору спала младенческим сном. Во всяком случае на слово не откликалась, хотя на звуки откликалась уже давно. Мама рано начала таскать меня на концерты, иногда играла дома сама, и музыка часто доводила меня до слёз. Я очень этого стеснялась и с ужасом вспоминала поездку в Клин, в дом-музей Чайковского, где я прилюдно расплакалась, слушая запись Пятой симфонии. Не найдя платка, давясь слезами, я в конце концов выбежала из зала.
Так действовали звуки, а слова оставались словами. Я всё ещё жила по эту сторону слов, не проникая в их глубины и тайны, не постигая чуда их сцепления и звукописи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































