Текст книги "Золотая симфония"
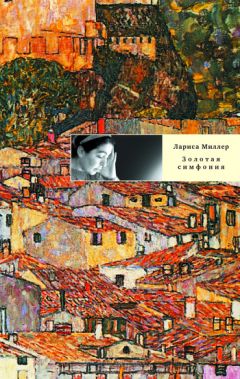
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Вижу его большие крепкие руки. Руки мастерового. Тарковский и правда многое умел делать руками. Он мне показывал журнальный столик, который сам обтесал и отполировал. Он умел переплетать книги и делал это изящно и со вкусом. В 1977 году Арсений Александрович подарил мне рукопись только что написанной шуточной поэмы «Чудо со щеглом». Он сам переплёл её и оформил. Это был его подарок нам с мужем на наш пятнадцатилетний юбилей. Тарковский читал свою поэму вслух, хохоча так, что с трудом дочитал до конца. Он был очень артистичен. Удивительно красиво держал сигарету и ловко пользовался зажигалкой. В последние годы Татьяна Алексеевна запрещала ему курить. Он, как ребёнок, пытался перехитрить её, куря тайно и прося свидетелей его преступления не говорить Тане. «Из чего только сделаны мальчики?» Тарковский всегда оставался мальчишкой. Если не карманы, то ящики его стола были набиты всякой всячиной: изящными зажигалками, красивыми записными книжками, разнообразными ручками, маникюрными наборами разного калибра. Он радовался красивым и экзотическим мелочам. Любил получать их в подарок и любил дарить. Когда родился мой старший сын, он подарил нам золочёный стаканчик с изящным рисунком и такую же ложечку с орнаментом. «На зубок», – сказал он.
Но главным его богатством были книги и пластинки. Если книги были навалены всюду и везде: на полках, на столе, на кровати, на полу, – то пластинки были тщательно разобраны, расставлены по местам. На них была заведена картотека, и Тарковский легко находил нужную. Когда у него появлялись дубликаты, он отдавал мне старые пластинки. Они и сейчас хранятся у меня в конвертах, на которых рукой Тарковского написано, что и кем исполняется. Однажды Арсений Александрович спросил, есть ли у меня сонаты Бетховена. Я ответила, что есть. «А кто исполняет?» – поинтересовался он. Я не помнила. «Вы сами не знаете, что у вас есть», – сказал он скучным голосом. Я очень расстроилась и с той поры изучила все свои записи и пластинки. У Тарковского пластинки никогда не лежали мёртвым грузом. Он жил с ними. У него был прекрасный проигрыватель, и слушать музыку у Тарковского было особым удовольствием. И не столько из-за качества звука, сколько из-за самого хозяина. Трудно даже объяснить почему. Когда у него появлялась новая полюбившаяся пластинка, он сообщал об этом, едва вы входили в дом. Он как бы угощал вас ею. «Вот послушайте. Дивная вещь». Он прыгал к полке, доставал пластинку и, сняв с неё рубашку, аккуратно ставил на проигрыватель. Затем плюхался на диван и, откинувшись на подушку, слушал. Иногда при этом курил, а иногда полировал специальной пилочкой ногти. Ничего особенного не происходило, но для меня он был, пожалуй, единственным человеком в чьём присутствии мне было легко слушать музыку. Когда мы слушали Моцарта, он иногда брал с полки каталог Кёхля и проверял, в какое время написана та или иная вещь. Он вообще очень любил словари и справочники. Когда я читала ему свои новые стихи, он, если в чём-то сомневался, посылал меня за словарём. «Ларисочка, вон словарь на нижней полке. Подите, детка, принесите, вы молодая, у вас ноги есть».
Помню, как эти книги и пластинки превратились в бешеную взбунтовавшуюся стихию, когда Тарковские собирались переезжать с Аэропортовской на Садово-Триум– фальную, и как измученные хозяева пытались укротить её с помощью коробок и бечёвок, и как на борьбу со стихией бросились Саша Радковский, мой муж и кто-то ещё. В новой квартире оказалось шумно и пыльно, и приходилось держать окна закрытыми даже летом. Всё больше времени Тарковские проводили в домах творчества или на даче в Голицыне. Арсений Александрович не очень любил покидать свою московскую квартиру. Особенно жалко ему было расставаться с пластинками. Одно время он даже собирался завести ещё один проигрыватель, чтобы возить с собой. Но так и не завёл.
В начале семидесятых мы с мужем провели у Тарковских в Голицыне несколько летних дней. Дача была большой, тенистой. В комнатах, заставленных книжными полками, ностальгически пахло старыми книгами. Помню, что в одной комнате стоял тяжёлый письменный стол, в столовой – камин, который иногда топили. Но главная достопримечательность Голицына – старый телескоп. Когда-то Арсений Александрович очень увлекался астрономией, и в его огромной голицынской библиотеке было множество книг по астрономии. Он вообще интересовался науками: естествознанием, физикой. Любил беседовать с людьми, занимающимися наукой. Часто говорил с моим мужем физиком на разные космические темы. На дачном участке росли кусты сирени, шиповника, малины. Живя там, мы каждый день собирали к чаю мелкую, сладкую малину. Дом казался загадочным, старым, скрипучим, хранителем многих тайн, свидетелем давних событий. Однажды я встала раньше всех и пошла на террасу пить кофе. Туда выходило окно комнаты, в которой спал Арсений Александрович. Он неровно дышал во сне, его рот был полуоткрыт, щёки ввалились. И я вдруг осознала, что Тарковский старый человек и что он смертен. Когда он бодрствовал, лицо его становилось таким подвижным, он умел так смеяться и шутить, что подобные мысли не приходили в голову. Но сам-то он, как всякий поэт, думал о смерти и писал о ней:
А! Этот сон! Малютка жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши,
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!
Невозможно в таком рассказе придерживаться хронологического порядка. Вспоминается то одно, то другое. И хочется всё удержать, всё донести. Осень 1977 года. Мы с мужем едем к Тарковским в Голицыно. Я везу Арсению Александровичу свою первую книгу, которая наконец-то после долгого ожидания вышла. Тарковский в постели. Он недавно упал, сильно ушибся и ещё малоподвижен. Арсений Александрович берёт книгу в руки, перелистывает страницы, кое-что читает вслух, изучает обложку и иллюстрации. Он рад моей книге, очень ждал её появления и немало для этого сделал. Вижу, как он держит книгу своими большими сильными руками, как проводит по странице ладонью. Увы, когда десять лет спустя в 1986 году вышла моя вторая книга, Тарковский уже почти утратил связь с внешним миром. После операции, которую он перенёс в 1984 году, Арсений Александрович стал совсем плохо слышать и даже то, что слышал, не всегда понимал. Почти не говорил. Единственной живой реакцией была паника, когда он не видел рядом жены. Он испуганно искал её глазами и, как ребёнок, потерявший мать, вскрикивал: «Таня! Танечка! Где Таня?» На это было больно смотреть. В это не хотелось верить. Иногда вдруг случались просветы. Тарковский оживлялся, радуясь приходу знакомых, друзей. Шутил. Но это длилось недолго. И снова на лице возникало столь несвойственное ему растерянное, беспомощное выражение. Тарковский уходил. Помню один из последних разговоров, когда он был ещё самим собой. Весна 1983 года. У меня только что умерла мама. Кто-то из друзей дал мне книгу Моуди «Жизнь после жизни». Эта книга была мне нужна как воздух, мне казалось, что я сохраняю связь с мамой. Я сидела в переделкинской келье у Тарковских и рассказывала им содержание книги. Я видела, какое впечатление производят на Тарковского мои слова. Он слушал серьёзно и напряжённо, стараясь не пропустить ни слова. Как ему хотелось верить в те чудесные явления, о которых писал Моуди. Как хотелось ему верить в жизнь после жизни.
И я ниоткуда
Пришёл расколоть
Единое чудо
На душу и плоть.
<…>
А сколько мне в чаше
Обид и труда…
И после сладчайшей
Из чаш – никуда?
А тогда в 1977-м он читал и перелистывал мою книгу. Тогда же зашёл разговор о его сыне Андрее. Арсений Александрович с грустью сказал, что Андрей давно не звонил, не появлялся и даже не знает, что отец болен. И, о чудо, возвращаясь в тот день из Голицына, мы оказались в вагоне метро рядом с Андреем. Я бросила случайный взгляд на рукопись, которую он читал, и увидела, что это сценарий о Моцарте. Велико было искушение сказать ему, что мы едем от отца, который болен и скучает, но мы не решились, так как не были знакомы. Я много раз встречала дочь Тарковского Марину, она часто навещала отца. Мы подружились и иногда перезванивались. Андрея же я видела только дважды в жизни: в первый раз в Политехническом музее на вечере Арсения Александровича, второй – тогда в метро. Саша Радковский видел его чаще и говорил мне, что порой казалось, будто Арсений младше Андрея. Рядом с отцом, который часто шутил и дурачился, Андрей казался молчаливым и серьёзным. Иногда они играли в шахматы. По рассказам Радковского, когда Арсений Александрович проигрывал, он так расстраивался, что даже чувство юмора ему изменяло. Он требовал новых партий и играл до тех пор, пока не выигрывал. Если же не удавалось взять реванш, Тарковский долго оставался не в духе. Он не мог равнодушно смотреть и на чужую партию. Однажды в шахматы сражались мои сыновья. Я что-то рассказывала Арсению Александровичу, но увидела, что он меня не слушает и весь поглощён игрой. Младшему было тогда лет девять или десять. Он только учился играть. Ему требовалось время, чтоб обдумать ход. Но не тут-то было. Арсений Александрович, передвинув на доске фигуру, требовал: «Ходи так». Но мой сын хотел сам принимать решение: поставил фигуру на место и сделал другой ход. Нелепейший с точки зрения Арсения Александровича. «Что ты делаешь?! – кричал Тарковский, хватаясь за голову. – Кто так ходит?» Он пытался сделать свой прежний ход, но мой сын вцепился в фигуру и не отпускал. Мальчик был почти в слезах, Тарковский – в гневе, а я – в ужасе. Положение спасла Татьяна Алексеевна. Она пришла (это было, кажется, в фойе переделкинского Дома творчества) и увела всех в парк.
Арсений Александрович нередко говорил об Андрее. Особенно во время съёмок фильма «Зеркало». Да и позже. Однажды он рассказал мне: «Сегодня был Андрей и рассказал сон: мы с ним по очереди ходим вокруг большого дерева: то я, читая стихи, то он. Скрываемся за деревом и появляемся снова…» Сон был длинный. Я не придала этому рассказу значения и мало что запомнила. А позже поняла, что этот сон был начало «Зеркала», моего любимого фильма. Арсений Александрович видел фильм много раз, хотя это давалось ему непросто, и он всегда имел при себе валидол. Как больно смотреть «Зеркало» теперь, когда нет ни Андрея, ни Арсения Александровича, ни Марии Ивановны – матери Андрея. Какое счастье, что остаются стихи и фильмы. Какое счастье, что остался голос Арсения Александровича. Его неповторимый, глуховатый, вибрирующий голос:
Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.
Думая о «Зеркале», особенно о последних кадрах фильма, тех, где бескрайнее поле, через которое идут то мать с детьми, то бабушка с внуками, я невольно вспоминаю маленький любительский снимок, который я видела у Арсения Александровича: по тропинке, взявшись за руки, идут отец с сыном. Снимок довоенный. Отец ещё без палки, молодой, в белой рубашке с закатанными рукавами, а сын маленький, стриженый. Они сфотографированы со спины, идущими через поле солнечным летним днём.
Арсений Александрович часто повторял: «Зачем они мучают Андрюшку? За что они его так мучают?» Когда Андрей уехал, Тарковский долго не имел от него прямых вестей. Получив наконец длинное письмо, он читал его, перечитывал, давал читать друзьям. В том письме Андрей писал о причинах своего отъезда, о своих многолетних мытарствах и горестях. Теперь это письмо опубликовано и многократно процитировано. Когда Андрей умер, Арсений Александрович уже плохо осознавал происходящее. И, тем не менее, Татьяна Алексеевна, боясь за него, старалась подготовить мужа к страшному известию. Узнав о смерти сына, он плакал. И всё же удар, наверное, был смягчён тем состоянием, в котором он находился. Я была у Тарковских в Переделкине, когда туда приехала Марина, только что вернувшаяся из Парижа, с похорон. Она была утомлена и подавлена. Ей трудно было говорить. Арсений Александрович спал одетый на диване. Марина, несмотря на усталость, хотела дождаться его пробуждения. Наконец Тарковский открыл глаза. Марина наклонилась к нему: «Папа. папа.» Тарковский, увидев дочь, спросил: «Что? Похоронили?» «Похоронили», – ответила Марина. Больше он ни о чём не спрашивал.
Случилось так, что Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна пережили своих сыновей. Андрей похоронен в Париже, Алёша, сын Татьяны Алексеевны, поблизости на Востряковском кладбище, куда Тарковские часто ездили. Несколько лет назад поздней осенью мы поехали вместе с ними. Арсений Александрович с трудом шёл по размокшим от дождя дорожкам. Сперва мы навестили могилу Алёши, а потом могилу Марии Ивановны, похороненной там же.
Жизнь меня к похоронам
Приучала понемногу.
Соблюдаем, слава богу,
Очерёдность по годам.
Но ровесница моя,
Спутница моя былая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.
Пишу одно, а вспоминаю другое: и драматичное, и забавное, и смешное. Вспоминаю, как летом 1972 года Тарковские приехали навестить нас в Заветы Ильича, где мы снимали дачу. Мы пошли вместе на речку, и мой старший сын, которому тогда было четыре года, завёл с дядей Арсюшей разговор о том, что каждый человек похож на какое– нибудь животное. «Ну а я на кого похож?» – спросил Арсений Александрович. «Ты?» Мой сын задумался, внимательно разглядывая Тарковского. «На обезьяну», – уверенно заявил он. Тарковский расхохотался. По-видимому, он был польщён, так как любил обезьян, считал их милашками и даже держал старую плюшевую обезьяну на своём диване. Когда мы собирались уходить с речки, мой ребёнок отличился снова. Он долго следил за тем, как Тарковский пристёгивает протез, а затем громко спросил: «А дядя что, разборный?» Арсений Александрович всегда запоминал чужие шутки и любил их повторять. Он не терпел котурнов и даже о драматичном и тяжёлом в своей жизни умел говорить как о чём-то будничном и смешном. Однажды Тарковский рассказывал, как он со своими солдатами брал высоту. Мой муж спросил его: «А как вы поднимали солдат в атаку? Кричали? Приказывали?» «Нет, – ответил Тарковский. – Я им сказал: «Ребята, надо взять эту высоту. Если не возьмём, меня расстреляют»». Даже о том, как потерял ногу, он рассказывал как о забавном эпизоде. Он уже погибал, нога загнивала, а раненых всё несли и несли. Госпиталь был переполнен. Врачи не справлялись, санитары спали на ходу. Тарковского спас лежащий рядом офицер, который выхватил пистолет и, направив на вошедшего хирурга, приказал нести раненого на операцию.
Интонация, междометия, улыбка Тарковского – этого не передашь. И всё же, вспоминая один эпизод за другим, не хочу отпускать их в небытие. Даже мелочи. Вот идёт разговор о фильме, который Тарковский видел накануне. «Что вы вчера смотрели?», – спрашиваю я Тарковского. «Таня, что мы вчера видели?» Татьяна Алексеевна называет фильм. «Хороший?» – интересуюсь я. «Чудовищный», – отвечает Арсений Александрович. «Как! Арсюша! – возмущается Татьяна Алексеевна. – Ты вчера говорил, что хороший». «Я же не воробей, чтоб каждый день чирикать одно и то же», – невозмутимо отвечает Тарковский. Однако были фильмы, о которых он всегда «чирикал одно и то же»: фильмы Чаплина. Как он любил Чаплина! Как оживлялся, когда говорил о нём! Вспоминаются его строки из стихотворения, посвящённого Мандельштаму:
Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.
Всё, что происходило в жаркий майский день 1989 года в большом зале Дома литераторов, казалось, не имеет никакого отношения к Тарковскому. На сцене гроб с телом покойного. Справа от гроба стулья, на которых сидят родные: жена, дочь, внуки. В полутёмном зале те, кто пришёл проститься с Тарковским. Обычная церемония: почётный караул, речи, цветы, музыка. Но Тарковского здесь нет.
Мёртвое лицо с ввалившимися щеками – разве это он? И вот я еду с панихиды, вспоминаю его стихи, говорю с ним, смеюсь его шуткам: «Ларисочка, приезжайте, детка. Я купил ваше любимое желе – тварь дрожащую». Я вижу, как он характерным движением откидывает прядь со лба, слышу его голос:
И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту,
Всю чепуху, столь милую поэту,
Которую не удалось прославить…
Наступило лето. Месяц назад, 25 июня был день его рождения. Первое лето без Тарковского. Первый день рождения без поэта. Но без поэта ли? Ведь я слышу его голос:
А если был июнь и день рожденья,
Боготворил я праздник суетливый,
Стихи друзей и женщин поздравленья,
Хрустальный смех и звон стекла счастливый,
И завиток волос неповторимый
И этот поцелуй неотвратимый…
Глава VI
Туда, туда…
О штампах с любовью
Это скучное слово «шаблон», существующее в толковом словаре с пометкой «неодобрит.». Это сладкое слово, означающее устойчивость и стабильность.
Шаблон – скрепа, соединяющая грандиозную и хрупкую конструкцию: жизнь.
Шаблон – припев, творящий песню: что бы ни звучало до или после, он всё увяжет.
Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка – это флаг корабля,
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!
Шаблон – то, чему покоряется житейское море; то, что способно хоть как-то обуздать его и ввести в рамки.
Шаблон – стройматериал, кирпич, из которого Наф– Наф складывает жилище, недоступное волку.
«Чур-чура, я в домике», – кричали мы в детстве, забегая в кружок, очерченный мелом на асфальте или прутиком на земле. Все круги были похожи, но каждый знал свой и, очутившись в нём, чувствовал себя в полной безопасности. Салка в полушаге, а осалить слабо, потому что дом сакрален и недоступен. Заперев его изнутри – «триктрак», – мы вступаем в таинственную область привычек, привязанностей и любимых штампов. И не дай бог лишиться хоть одного из них. Нарушение стереотипа – испытание для взрослого и катастрофа для ребёнка. Лишить его привычного – всё равно что резко выдернуть пелёнку из-под младенца. Однажды я проделала нечто подобное со своим новорожденным сыном и увидела панику на его лице, увидела, как быстро и беспорядочно задвигались его крохотные конечности – он летел в пропасть. Рутина жизни священна. Она спасает от хаоса и держит на плаву. «Кто пил из моей чашки и сдвинул её с места? Кто сидел на моём стуле и сломал его?» – визжит Мишутка из сказки «Три медведя». Горе Маше, вторгшейся в святая святых и там набедокурившей. Ребёнок (а ребёнок и душа – почти синонимы) вступает с каждой вещью, с любым, даже самым будничным явлением жизни, в тайный сговор. Поедая кашу из своей тарелки, он не просто ест, а близит встречу с Дюймовочкой, живущей на дне её. Прихлёбывая молоко из любимой треснутой чашки, общается с трещиной, имеющей богатую и бесконечную историю. Ложась спать, разглядывает потолок, по краям которого бегут провода и ходят маленькие люди в валенках и ватниках. Садясь за стол делать уроки, принимается исследовать пещеру, образовавшуюся в доисторические времена до его дня рождения, когда легкомысленная мама оставила на столе включённый утюг. Любимая дыра – необходимое условие существования. Устранить её, поменяв старый стол на новый, значит разрушить устойчивый мир, выдуть тепло из обжитого пространства.
Штамп удивительно разнообразен и многолик. Устойчивость вовсе не означает оседлость. Не так давно я прочла в газете о семействе бродячих артистов, которые уже несколько лет колесят на своём фургоне по югу Франции, давая представления в провинциальных городках. Они перемещаются со своей маленькой дочкой, которая, привыкнув просыпаться каждый день на новом месте, не мыслит себе другого существования. Жизнь на колёсах – её нерушимый мир. Фургон – отчий дом, а вечно новый вид из окна ей так же дорог, как нам неизменный, до мельчайших подробностей изученный, незабываемый двор нашего детства.
Рутина и новизна, предсказуемое и неожиданное. Точная мера того и другого – великая удача, которая редко кому выпадает в жизни. Затянувшаяся рутина душит, а непрошеный, нежеланный сбой ломает. Новизна хороша при условии, что есть некий инвариант, нечто незыблемое, не зависящее от случайностей. В противном случае она подобна разрушительному землетрясению, смертоносному торнадо. Только в сказке ураган может поднять маленькую героиню в воздух вместе с домиком и любимой собакой и опустить в волшебной стране, из которой после ряда увлекательных приключений она целой и невредимой вернётся обратно к любимым родителям. В жизни всё куда безрадостней и безнадёжней. Необратимая утрата родимых стереотипов и необходимость вживаться в чуждые – явление мучительное и страшное. Кто-то сказал, что ностальгия – болезнь носа, лишённого привычных запахов. Но это и болезнь глаза, уха, заболевание всех органов чувств. Существо, изъятое из своей среды, становится тем самым младенцем, из-под которого резко выдернули пелёнку.
Как-то один из друзей затеял странную игру с моим малолетним сыном: притворившись, что забыл его имя, стал называть его то Серёжей, то Петей, то Вовой. Сын, который сперва растерянно улыбался, вдруг насупился, часто задышал и с громким плачем бросился ко мне. Утратив родной ярлычок, он потерял самого себя и прибежал ко мне, чтоб я ему всё это вернула, назвав тем единственным именем «Павлик», на которое он способен отзываться в этом пёстром и хаотичном мире.
Недавно мне попалась на глаза детская книжка какого– то английского автора про мальчика, который не желал жить под собственным именем и категорически отказывался быть самим собой. Каждый день он менял свой имидж, выдавая себя за очередного героя любимой сказки. Сегодня он Румпельштицхен, завтра Питер Пэн, послезавтра Робин Гуд. Родители растерялись: ребёнок стал неуправляемым. На помощь призвали друзей, родственников, врачей – всё напрасно. И вдруг случилось ЧП: маленький фантазер потерялся и попал в полицейский участок. На все вопросы он, как всегда, отвечал очередной порцией небылиц: то он Мальчик-с-пальчик, то Гулливер, то Робинзон Крузо, то заявлял, что живёт в замке у великана, то в стране Лилипутии, то на необитаемом острове. Но время шло, а за ним так никто и не приезжал. Ближе к вечеру мальчик затосковал. Он подумал о маме, о вкусном ужине, об уютной постели и с ужасом представил, что никогда больше ничего этого не увидит. «Я Джимми Браун», – закричал он задремавшему полицейскому. «Мой адрес – Парк Лейн, 9». Вскоре счастливые родители обнимали усталое чадо. Маленький герой этой нехитрой истории пережил то, что ведомо каждому из нас. Он на своём детском уровне испытал те же противоречивые чувства, которые обуревают любого: жажду новизны и боязнь необратимой утраты привычного мира; желание примерить на себя чужую судьбу и страх потерять собственное «я». Но что оно такое – это самое «я»? Разве данное при рождении имя носит одна и та же неизменяемая личность? Разве «я» – понятие устойчивое и не знающее сложных превращений?
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Жёлто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
(Вл. Ходасевич)
Но если «я» есть величина, постоянно претерпевающая всяческие изменения, то почему человеку свойственно испытывать синдром Джимми, хлопоча о каких-то дополнительных превращениях? Потому, наверно, что внутренний процесс обновления творится подспудно, неявно и слишком растянут во времени, чтоб восприниматься как событие.
У каждого в жизни наступает момент, когда, устав от рутины, душа требует новизны любой ценой:
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.
(Вл. Ходасевич)
И когда собственная оболочка начинает казаться тюрьмой, из которой надо бежать немедленно,
Но иногда – другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным…
(В. Набоков)
Однако если бы Господь Бог вздумал в такой момент поймать человека на слове и исполнить его желание, то вряд ли бы его осчастливил. Потому что слова эти – крик души, жаждущей перемен, но при этом ни на секунду не забывающей о хрупкости и превратности земного существования:
Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живём.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом.
(Вл. Ходасевич)
Нет, не «гибели всерьёз» хочет он, не потери себя ради нового имиджа, не утраты своего мира. Он хочет той новизны, которая так тяжело и так легко даётся и которую шутя творит ребёнок, строя фантастические замки из стандартного набора кубиков. В одной мудрой книге я прочла такой диалог:
«– Всё в силе! – сказал он мне по секрету.
– Всё – в силе страсти! – добавил я и задохнулся»[13]13
Жар души может преображать даже те штампы, которые существуют в словаре с пометкой «неодобрит.». Именно это происходило со штампами, которыми «кормил» нас А. Синявский. «Голос из хора».
[Закрыть].
Страсть, жар души, вдохновение – вот что превращает привычную дыру в столе в тёмную пещеру, а обыкновенные щипцы для орехов – в Щелкунчика. Пока есть этот жар, в любом штампе таится новизна, как бабочка в коконе, как птенец в гнезде; за любым проеденным молью ковриком – дверца клада, а в задней стенке старого, пронафталиненного гардероба – счастливый выход в непознанное и непредсказуемое.
Брук, незабвенный учитель музлитературы в моей музыкальной школе. Худенький и маленький, он всегда являлся на урок с толстой большой тетрадкой – неизменным предметом нашего неутолимого любопытства. Тетрадь содержала всё, что, по его понятиям, полагалось знать о музыке. Словесные клише перемежались в ней музыкальными примерами, фиолетовые чернила – с красной тушью. Кое-что было подчёркнуто, кое-где стояли восклицательные знаки. «Когда они были поставлены?» – гадали мы. Об этой старой лохматой тетради ходили легенды. Говорили, что по ней когда-то учились некоторые преподаватели нашей школы. Особенность Брука заключалась в том, что, открыв тетрадь в нужном месте, он больше ни разу в неё не заглядывал, с точностью до буквы воспроизводя написанное. Да что там – до буквы! До запятой, до восклицательного знака. Да, да, до восклицательного знака! Речь его, состоящая из давно обкатанных шаблонных фраз, была настолько эмоциональна, что мы, как говорят англичане, висели у него на губах. Он то растягивал слова, то произносил скороговоркой, то выкрикивал, то шептал. Время от времени учитель присаживался к инструменту и, шлепая мимо клавиш, иллюстрировал только что сказанное. «Слышите? – вопрошал он, пытаясь перекричать собственную игру. – Вот главная тема, а вот побочная. Ля-ля, пам-пам-пам». Проделывая всё это, Брук ни на секунду не разлучался с тетрадкой. От трогал её, поглаживал, брал в руки, клал на колени, не забывая в нужный момент перевернуть страницу. Казалось, тетрадь служила ему аккумулятором, заряжая энергией, которую он столь безоглядно на нас тратил. «Обидели юродивого, отняли копеечку», – пел Брук надтреснутым фальцетом, и кадык ходил на его худой, плохо выбритой шее. «Борис, а Борис, зачем ты убил царевича?» – выкрикивал учитель, судорожно прижимая тетрадь к груди. Я слушала его, и мурашки бегали у меня по спине. Его душевный жар, помноженный на нашу восприимчивость, творил чудеса.
«Всё – в силе страсти». А иначе как объяснить тот удивительный факт, что, несмотря на беспробудную скуку наших уроков литературы, на безнадёжные клише, которыми изобиловал учебник Флоринского, согласно которому поэзия делилась на гражданскую и остальную, а любой персонаж являлся продуктом эпохи, – вся прочитанная мной тогда классика стала частью моей жизни. Проглотив положенную по программе «Войну и мир», я ходила как потерянная. Реальная жизнь казалась куда более бледной, чем та, которой только что жила. О, этот волшебный процесс превращения казённого списка рекомендованной литературы в нечто столь же интимное и от меня неотделимое, как собственное детство, в драгоценную и не подлежащую переоценке константу всей жизни. Несчастный Герасим, утопивший Муму, забытый в усадьбе Фирс, брошенный дочерью станционный смотритель, обиженный Печориным Максим Максимыч – всё это пережито и оплакано. «Тебе нравится «Горе от ума»?» – спросил меня однажды сын. Как ответить на этот вопрос? Нравится ли мне дом, где я родилась, улица, на которой жила, двор, в котором выросла? Учась в пятом классе, я посмотрела пьесу «Грибоедов». Не знаю, хороша ли была пьеса, но она меня потрясла. Потрясла настолько, что я влюбилась. Влюбилась во всё сразу: в самого поэта, в его поэму, в его вальсы, в его Нину, в его судьбу. Поэму и вальсы я выучила наизусть, как и пьесу, которую видела не помню сколько раз. Судьбу изучила по доступным источникам. Нашла на карте города Тавриз и Тегеран, с которыми была связана роковая миссия поэта. Совершила паломничество на соседнюю улицу, где в витрине маленького книжного магазина висел плакат, по краям которого располагались овальные портреты русских классиков. И наконец решилась на отчаянный шаг: позвонила в театр. К телефону позвали актёра Левинсона. Выслушав мою взволнованную и сбивчивую речь, он поблагодарил меня за интерес к его работе и пригласил на спектакль, в котором тоже играл главную роль. Спектакль назывался «Правда о его отце». «О чьём отце?» – поинтересовалась я и, поняв, что к Грибоедову пьеса отношения не имеет, потеряла к ней интерес. «Хочешь побеседовать с Лилией Гриценко?» – спросил «Грибоедов». Я ответила сплошными междометиями. Вскоре в трубке раздался знакомый до мельчайших оттенков голос Нины Чавчавадзе. До чего же я любила этот голос и как хотела обладать таким же, чтоб тихонько беседовать с ним, грациозно облокотившись на крышку рояля, на котором он наигрывает свои вальсы!
Это загадочное понятие – шаблон. Что может быть шаблоннее тридцати трёх букв алфавита и семи нот звукоряда, и что может быть непостижимее поэзии Пушкина и музыки Моцарта, сотворённых с помощью этих стандартных знаков? Каким образом простые нераспространённые предложения превращаются в бессмертные стихотворные строки:
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Погоди немного,
Отдохнёшь и ты.
Что может быть обыкновеннее времён года, и почему первый снег, первая трава, весенняя гроза, падающий жёлтый лист – всегда откровение?
Казалось бы, всё мечено,
Опознано, открыто,
Сто раз лучом просвечено,
Сто раз дождём промыто.
И всё же капля вешняя,
И луч, и лист случайный,
Как племена нездешние,
Владеют речью тайной.
И друг, всем сердцем преданный,
Давнишний и привычный, —
Планеты неизведанной
Жилец иноязычный.
Новизна и штампы – граница между ними размыта и подвижна, как между тьмой и светом:
И тьма – уже не тьма, а свет,
И да – уже не да, а нет.
(Г. Иванов)
Но что делать, когда внутренний свет начинает мигать и готов погаснуть, когда организм перестаёт вырабатывать вещество, способное преображать унылые штампы в нечто живое? Одну талантливую актрису как-то спросили: «Что вы делаете, когда вам плохо?» «Прихожу в отчаяние», – ответила та. Эта возможность есть всегда. Но существуют ли другие?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































