Текст книги "Золотая симфония"
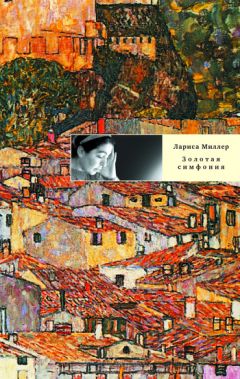
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Музыка. Musica
Слово «мука» целиком помещается в слове «музыка». И неслучайно. Музыка и мука – две вещи нераздельные. Разве не мука слышать внутри себя мелодию и не уметь её воспроизвести, потому что тебе не подчиняется твой аппарат: пальцы и голосовые связки? Именно так обстояли у меня дела в музыкальной школе, где за семь лет учёбы я по-настоящему «преуспела» лишь в одном: в виртуозном «заигрывании» любого произведения.
«Ты музыкальна», – говорили мне тем же тоном, каким дурнушке говорят, что у неё красивые волосы или выразительные глаза. «Участнице конкурса на лучшее исполнение Баха, ученице музыкальной школы № 1 Ленинского района г. Москвы Миллер Ларисе за музыкальность», – гласила надпись, сделанная наискосок на обложке «Мелодии» Рахманинова. Что скрывалось за благозвучным словом «музыкальность», помню во всех деталях. В применении ко мне оно означало, что уже со второго такта пьесы, требующей хоть какой-то беглости, мои пальцы откажутся меня слушаться и станут жить своей собственной непредсказуемой и неуправляемой жизнью, то убегая вперёд, то еле плетясь, то вовсе соскальзывая с клавиатуры. О, как мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю, но я была прикована к инструменту, как Прометей к скале, и мне надлежало до конца исполнить свой долг, дотерзав слушателей, пьесу и себя самоё. Когда, наконец, я имела моральное право снять с клавиатуры руки и уйти со сцены, то обнаруживала, что мне перестали повиноваться ноги: они дрожат, заплетаются и не гнутся в коленях. «Поклонись, поклонись», – кричал мне вслед завуч. Но до поклонов ли мне? О, музыка, музыка…
О её существовании я впервые узнала в двухлетнем возрасте в годы эвакуации в Куйбышеве в один из тех вечеров, когда бабушка совершала ритуал моего купания. Как выяснилось позже, эта процедура давалась ей с трудом и считалась одним из её многочисленных подвигов, о которых она спустя много лет не без гордости вспоминала. Ещё бы! Война, холод, голод, длиннющие продуктовые очереди, которые приходилось занимать затемно. Но «каждый вечер в час назначенный» на стол водружались привезённая из Москвы оцинкованная ванна и её непременный спутник – старый обшарпанный коричневый электрический камин. Бабушка тёрла меня мочалкой, поливала из кувшина, а потом, завернув в большую простыню, относила на пружинный матрац, где я прыгала, кувыркалась и тараторила без умолку. Но однажды из угла комнаты, вернее, из висящей там чёрной тарелки репродуктора донеслись звуки, заставившие меня затихнуть и замереть.
Возьмём винтовки новые,
На штык флажки,
И с песнею в стрелковые
Пойдём кружки… —
пел приглушённый и как бы удаляющийся голос, отрывисто произнося шипящие, свистящие и от того ещё более загадочные слова. Мне почему-то казалось, что под эту песню гуськом и в полуприседе (наверное, чтоб не заметил враг) шагают дети, и у каждого в руках винтовка, а на голове будённовка, украшенная красной звёздочкой. Я слушала этот постепенно замирающий голос, и мурашки бегали у меня по спине. Что-то новое и тревожное вошло с этой песней в комнату, где по-прежнему уютно подмигивал красной спиралью камин и привычно пахло свежевымытыми полами.
С этого мгновения начались мои многолетние разнообразные и весьма сложные отношения с музыкой. Одна музыкальная влюблённость сменяла другую, и каждая походила на болезнь, протекающую в острой форме. Помню, как, заглянув однажды в партитуру к «Евгению Онегину», которую обычно подкладывала под себя, садясь заниматься музыкой, я, сама не знаю почему, вдруг начала одной рукой наигрывать увертюру. Это занятие меня так увлекло, что я начисто забыла свои этюды и пьесы, прислушиваясь к сдержанным и печальным вздохам, какими кончалась каждая музыкальная фраза.
Но если «Евгений Онегин» волновал ученицу начальной школы, то душу отроковицы томило «Танго соловья». Какие там звучали скрипки, как они заливались, вздыхали, плакали, и как скоротечна оказалась моя к ним любовь. И умерла она в тот мартовский день, когда на мои именины пришли наши с мамой друзья: писатель дядя Лёша и музыковед тётя Лиза. Едва они перешагнули порог нашей комнаты, я потащила их к проигрывателю, чтоб поставить слегка поцарапанную от неумеренной моей любви пластинку. Как только застонали скрипки, я взглянула на своих друзей, готовясь увидеть на их лицах волнение и слёзы. Ведь плакала же тётя Лиза, когда я читала свои прозаические и поэтические опыты. Но вместо волнения и слёз я обнаружила недоумённые взгляды и насмешливые улыбки. Когда отзвучали последние аккорды, дядя Лёша принялся молча барабанить пальцами по столу, а тётя Лиза с состраданьем в голосе спросила: «Тебе это нравится?», на что я, неожиданно для самой себя, ответила предательским «не знаю». Чары рассеялись.
Любовь и вероломство, музыка и неверность почти всегда неразлучны. Сколько их было в моей жизни – залюбленных, заигранных, загубленных неуёмной страстью пластинок, к которым я потом долгие годы не могла прикоснуться. Так в разные периоды своей жизни я до отвращения «заслушала» «Карнавал» Шумана, некоторые сонаты Бетховена, Бранденбургские концерты Баха, фортепианные Шопена, его же бемольную сонату, чьё порывистое, полное тоски и смятения начало чуть не свело меня с ума. Я не знала, что с ним делать. Оно преследовало меня с утра до вечера, звучало во мне, чем бы я не занималась, но, едва я ставила пластинку, быстро кончалось, исчезало, не оставив мне ничего, кроме томления по началу.
Как-то раз мама, отправившись по заданию редакции «Советская музыка» на студию «Мелодия», вернулась оттуда с двумя огромными роскошными пластинками западного производства. На глянцевой цветной рубашке одной красовались американский флаг, исписанный нотный лист, военная фуражка, пенсне и надпись по-английски: «A Tribute to Glenn Miller». На другой рядом с чернокожей красавицей, сидящей за стойкой бара, крупными белыми буквами было написано: «Gershwin. Porgy and Bess». В моей жизни началась новая эпоха – эпоха джаза. Рядом с дисками Гершвина и Миллера встали пластинки Эллы Фитцжеральд, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Фрэнка Синатры. Я не столько слушала, сколько всё это танцевала, изгибаясь, вращаясь, выдумывая какие-то немыслимые движения в неутолимом стремлении слиться с музыкой, стать частью её и хоть ненадолго избавиться от мучительного чувства неразделённой к ней любви.
Однажды я поверила, что музыка и в самом деле может мне принадлежать и звучать для меня одной. В этом убедил меня Он – мой белокурый и голубоглазый однокурсник, который дивно играл на рояле, посвящая мне каждую сыгранную ноту.
«Как это ужасно, что вы вместе учитесь», – посетовала в разговоре со мной умудрённая жизнью студентка пятого курса. «Почему?» – изумилась я, купаясь в волнах безмятежного счастья. В правоте её слов мне пришлось убедиться слишком скоро. «Что ты в ней нашёл?» – читалось во взгляде его мамы, когда я пришла к ним в гости. «Что я в ней нашёл?» – читалось в его взгляде на следующий день. Мы ещё продолжали встречаться, он ещё играл мне «Грёзы любви» Листа, «Посвящение» Шумана и что-то другое из клиберновского репертуара, которым увлекался в незабвенном 1958-м. Но теперь каждая нота твердила об одном: «Не тебе, не тебе, не твоё».
«Тебе, тебе, тебе», – услышала я много лет спустя из других уст. Мне снова пытались подарить то, что нельзя удержать, чем невозможно владеть: любовь и музыку. Капало с крыш, и звук капели удивительно напоминал интермеццо Брамса, которое особенно часто звучало в ту пору. Каждая нота, одинокая, как падающая с крыш капля, пройдя гибельный путь, исчезала в пространстве. Её так неудержимо влекло на грешную землю, будто кто-то посулил ей, что лишь пройдя все земные круги и совершив ряд болезненных превращений, она обретёт новую жизнь и поднимется на новую высоту. Впрочем, в музыке всё возможно. Реприза позволяет вернуть прошлое, фермата – остановить мгновение, тоника – обрести устойчивость. Музыка – попытка рая на земле (вот они – райские ключи на нотной странице), попытка заклясть судьбу, навести мосты над бездной, соединить несоединимое. Попытка отчаянная и безнадёжная. Недаром одна из самых пленительных мелодий Шнитке вдруг расползается, растекается и, будто глумясь над собственной красотой, превращается в нечто уродливое и бесформенное. Музыка – оборотень, принимающий то ангельский, то дьявольский облик. Музыка – великий соблазн, вавилонская башня, лестница, вечно тянущаяся к небесам и готовая в одночасье рухнуть. И счастье – всего лишь возможность не погибнуть под обломками.
«Musica, musica», – кричал гид в Венеции, призывая кого-то. «Музика» явилась в облике весёлого, толстого и короткого синьора с аккордеоном в руках, который ловко и уверенно шагнув в гондолу, разместился на отведённом для него месте и запел нечто страстное, томное, итальянское. Запел так, будто единственной причиной, побудившей к пению, были любовь, луна, ночь, канал, а вовсе не группа богатеньких американских туристов, нанявших его за столько-то лир. Вот она – родина всех этих значков, заморочек и ласкающих слух музыкальных терминов: легато, фермата, кантабиле. Вот она – страна, где одним и тем же словом «лира» обозначают музыкальный инструмент и денежную единицу, символ вдохновения и символ торговли. А может, это и есть верный способ соединить земное и небесное – дать им одно имя. Не всё ли равно, что за лира царствовала в ту ночь, когда над водой неслась песня, над городом висела луна, а я смотрела на всё это не то с моста вздохов, не то слёз – но чего-то такого, что непременно сопутствует любви и музыке.
Музыка, музыка, музыка, мука —
Древняя тайна рождения звука,
Что существует, в пространстве кочуя,
Мучая душу и душу врачуя.
Музыка, музыка, форте, пиано —
Ты и бальзам, и открытая рана,
Промыслы Бога и происки чёрта…
Музыка, музыка, пьяно и форте.
Мы жили по соседству
Я увидела их впервые в огромном подвальном помещении, где располагался комиссионный мебельный магазин. В том далёком 72-м мы только-только переехали в новый дом возле платформы «Яуза» и занимались покупкой недорогой мебели, благо магазин был совсем рядом. Заинтересовавшая меня троица: он, она и девочка лет шести – занималась тем же: открывала и закрывала дверцы допотопных шкафов, выдвигала и задвигала ящики столов, изучала ценники. Все трое настолько завладели моим вниманием, что я автоматически следовала за ними: они к шкафам, и я туда же, они к диванам, и я. Все трое казались диковинными птицами, невесть как залетевшими в этот промозглый пропахший плесенью и морилкой подвал. Видавшее виды пальто отца семейства, длинный яркий вязаный шарф, небрежно намотанный вокруг шеи, тёмные слегка вьющиеся волосы, тонкие черты лица – всё это полностью соответствовало моим представлениям о бедном художнике с Монмартра. На женщине была короткая латаная дублёнка, полы которой разлетались в разные стороны при каждом движении ее стройных ног. А темноволосая девочка с огромными глазами и тоненькой фигуркой казалась маленькой Одри Хэпберн. Изящество, ленивая грация, элегантность были присущи всем троим.
Оказывается, они уже приметили нас прежде и знали, что мы живем на четвёртом этаже той же новостройки, где тремя этажами выше живут они. Мы стали часто бегать друг к другу. Их малогабаритная квартирка отличалась тем же изяществом, что они сами. Всё в ней, кроме разве что старинных, доставшихся по наследству часов, было сделано или украшено руками хозяев: причудливой формы книжные полки (чья причудливость объяснялась необходимостью уместить большое количество книг на малом пространстве), затейливые абажуры, фантастической расцветки шторы на окнах и картины, картины, картины, автором которых была Галя (так звали хозяйку дома), работавшая художником на Мосфильме. Откинув пёстрое покрывало, можно было увидеть, что лежанкой служила старая дверь, а, приподняв весёлую скатёрку, обнаружить, что стол сколочен из найденных в куче строительного мусора досок. Попавшие в этот дом вещи преображались и начинали новую, куда более одухотворённую жизнь. Художественная жилка была и у дочери Маши, которая постоянно что-то рисовала, лепила, клеила. Экспозиция над её столом менялась чуть ли не каждый день, и руководил этим папа Женя – кинорежиссёр, так и не снявший за свои тридцать с лишним лет ни единого фильма. Дыры и прорехи в доме латались столь виртуозно и высокохудожественно, что казалось, возникали с единственной целью – сделать квартиру ещё краше. Галя ходила по дому в старых, вытянутых на коленях рейтузах. Но когда она, ловко подогнув под себя ногу, усаживалась латать эти самые прорехи или, накинув дублёнку и повязав голову серым платком, отправлялась на студию, от неё не можно было глаз отвесть. Галя с утра до вечера «вкалывала», а Женя…
Что делал Женя, сказать трудно. Он был непригеном (пользуясь словцом, придуманном моим другом писателем) – то есть непризнанным гением. Его обуревали идеи, воплотить которые мешали, по его мнению, исключительно внешние обстоятельства, а точнее, режим, царящий на шестой части суши, где он, Женя, имел неосторожность родиться с душою и талантом. Идеи роились, планы множились, уверенность в их неосуществимости крепла, время шло, жизнь проходила мимо, Женя страдал, мрачнел и наконец родил безумную по тем временам идею, вытеснившую все остальные – идею отъезда. С её возникновением походы с седьмого этажа на четвёртый и обратно участились. Но, если раньше Женя забегал, чтобы поделиться впечатлениями от только что увиденного на закрытом просмотре шедевра, то теперь – поговорить об ОВИРе, отказах, разрешении на выезд и прочем. Назревала драма: Галя уезжать не хотела, а Женя считал отъезд единственным для себя выходом. Наступил чёрный день, когда он впервые произнес слово «развод» (неразведённых не выпускали, у них даже не принимали документы). «Отъезд, развод, отъезд, развод», – вот что постоянно звучало в стенах нашего дома. «Галка упёрлась, ехать не желает, жизнь одна, я должен работать», – твердил Женя.
Мой муж, при любых обстоятельствах сохраняющий способность мыслить ясно, повторял одно: «Только не развод. Развестись – значит потерять семью. Твою русскую жену, если она вдруг надумает ехать, никто никогда не выпустит, а без Гали и Маши ты там повесишься». Послушавшись совета, Женя пошёл ва-банк: явился в ОВИР, не разведясь. Случилось чудо: свирепейшая дама по фамилии Израилова (!) была в отъезде, а другой инспектор, видимо, просто проглядел. Документы приняли.
Шло время. Осунувшаяся Галя продолжала таскать на студию огромные папки с эскизами; Машенька, сверкая дивным личиком, играла во дворе с детьми, а Женя, страдая от собственной неприкаянности, с нетерпением и страхом ждал разрешения на выезд. Не зная куда себя деть, он часто увязывался за мной в молочную, булочную, обувную мастерскую. Его общество временами тяготило, потому что строчки, которые крутились в голове и обещали стать стихами, при его появлении исчезали. Но что было делать. Ведь не прогонишь человека, которому худо. Женина неприкаянность росла день ото дня. Однажды, когда мы ехали в трамвае, он внезапно вскочил и направился к выходу. «Куда? Почему?» – недоумевала я. «Никуда. Так просто». Трамвай тронулся, а я смотрела из окна, как Женя с присущей ему небрежной грацией медленно пересекает огромную пустую площадь, на ходу комкая и отбрасывая в сторону трамвайный билет, немедленно подхваченный и унесённый ветром… Законченный кадр из не снятого Женей фильма.
Зимой нас позвали на проводы. Народу собралось немного. Мы сидели за столом в уютной, обжитой, знакомой квартире, которую ранним утром должен был навсегда покинуть один из её обитателей. Далеко за полночь мы ушли к себе, а на заре улетел Женя.
Мой муж оказался прав. Едва прибыв «на пересылку» в Италию, Женя смертельно затосковал. Он то и дело вызывал Галю на переговорный пункт (в нашем доме телефона не было). И вскоре случилось то, что должно было случиться: Галя сообщила нам, что они с Машей решили последовать за Женей. И снова та же волокита, которую я, впрочем, помню слабо, потому что к тому времени родила второго сына. Галя заходила взглянуть на новорождённого, потом принесла специально для него сшитый тёплый синий конверт, потом забежала рассказать, что её навещали сотрудники Госбезопасности и уговаривали не уезжать, а через некоторое время сообщила, что получила разрешение.
Придя на проводы, мы с грустью обнаружили, что уютного жилища больше не существует. «Живите в доме, и не рухнет дом». В доме не жили, а доживали. Утром мы посадили Галю и Машу в такси, помахали им вслед. А днём, не веря своим глазам, увидели, как они снова входят в наш подъезд. Что стряслось? В чем дело? «Какие-то неувязки, – усталым голосом сказала Галя, – летим завтра утром». Их неожиданное появление казалось таким же диким и противоестественным, как если бы они вернулись с того света. Жизнь дала им редкую и малоприятную возможность ещё раз перешагнуть порог навсегда покинутого дома и провести в нём ещё одну тревожную ночь. Наутро отъезд состоялся.
А за несколько дней до того с седьмого этажа на наш четвёртый перекочевали огромные напольные антикварные часы, которые нам предстояло сдать в какой-то музей. Они погостили у нас недели две, наполняя комнату задумчивым звоном и звуками старинного марша, а потом уехали. От распавшегося на наших глазах уклада нам на память остались лишь несколько Галиных картинок, выполненных цветными мелками. На одной были пёстрые геометрические фигурки на зелёном фоне, на другой – яркие цветы на чёрном, на третьей – крупные бабочки, порхающие среди кладбищенских крестов.
Через некоторое время мы получили открытку из Вены (из Вены ли?), позже – несколько художественных альбомов из Нью-Йорка, где обосновалось семейство. Дальше тишина. И лишь пятнадцать лет спустя, в начале перестройки, мы совершенно случайно узнали, что Галя умерла от рака, Маша играет в маленьких театриках, которые возникают и лопаются, как мыльные пузыри. Она талантлива, хороша собой, русский не забыла и дважды приезжала в Россию. А Женя… Женя, как всегда, полон планов, но ничего определённого. Как и в России, семью долгие годы кормила Галя. Её поделки, шитьё, вышивка в русском стиле пользовались большим спросом. У неё были золотые руки. Жаль её.
Я слушала всё это и вспоминала, как много лет назад, поднявшись на седьмой этаж, застала Женю за учебником английского. «Ты вовремя как никогда, – обрадовался он. – Сейчас ты мне объяснишь разницу между «live» и «leave». Я их всё время путаю». ««Live» – жить, а «leave» – уходить, покидать», – сказала я.
А впрочем, как их не путать? Ведь они синонимы. Жить значит уходить: сегодня – от себя вчерашнего, завтра – от себя сегодняшнего. Говорят, от себя не уйдёшь. Ещё как уйдёшь. Вопрос лишь в том – как далеко. И так ли уж судьбоносно физическое перемещение в пространстве? Тогда, объясняя Жене разницу между live и leave, я сказала, что в первом случае гласная короткая, а во втором – долгая. И то правда: живем стремительно, а уходим долго, всю жизнь.
Dahin, Dahin…[14]14
Туда, туда (нем.), Гёте.
[Закрыть]
Тебе, с кем я блуждаю
во времени и пространстве
Шевелил ли нам волосы ветер дальних странствий? Шевелил. Пел ли нам песню весёлый ветер? Пел. Звал ли ты меня в даль светлую? Звал. Мы только поженились, ноги были резвыми, а песни манящими: «Нам нет преград ни в море, ни на суше.», «.и мелькают города и страны, параллели и меридианы.». Ну, страны, положим, не мелькали, но нам вполне хватало городов и весей. Набив рюкзак тушёнкой, сгущёнкой и сухарями, мы отправлялись в дорогу. Ехали в плацкартном вагоне на верхней полке. Лёжа на животе, смотрели в окно. В нос набивались пыль и копоть. В вагоне стойко пахло туалетом, в котором на полу денно и нощно качалась лужа (воды ли?). Вода была на полу, в раковине и даже на полочке под зеркалом. За каждым, выходящим из туалета, долго тянулся влажный след. Но это не портило нам ни настроения, ни аппетита, который рос по мере удаления от постоянного места жительства. Куда мы ехали? Куда-нибудь туда. К примеру, на Мещёру. Почему на Мещёру? Потому что о ней необычайно ярко написал Паустовский, чем, говорят, сослужил этим краям дурную службу.
Хотя поезд нас нисколько не утомлял, выйти из него и отправиться куда глаза глядят было ох как приятно. Если бы только не рюкзаки, которые превращали нас в тупо передвигающее ноги и мечтающее о привале вьючное животное. Когда мы присели отдохнуть в какой-то деревушке, к нам подошла крохотная бабуля в ослепительно белой косынке и, примостившись рядом, угостила молодой морковкой. Пока мы её грызли, бабуля смотрела на нас ласково и жалостливо. «А я в окно глянула – вижу: бредут сердешные, под мешками гнутся. И кто вас гонит с таким грузом– то? Что за ирод проклятый?»
В самом начале шестидесятых Мещёра казалась местом тихим и даже патриархальным. Как-то раз, проходя мимо избы, мы услышали монотонный скрип и заунывное пение. Заглянув в окно, увидели, как молодая женщина, напевая колыбельную, качает висящую под потолком люльку. Видели мы и старуху, которая пряла на старинной прялке. А однажды попали на хутор, где жил молодой пасечник с женой и сопливым мальцом. Пасечник усадил нас за стол, принёс тазы с разными сортами мёда и не отпускал, пока мы всё не перепробовали. Ночевали мы в просторной комнате на полу. Постелив под себя палатку, залезли в спальные мешки и приготовились спать. Но не тут-то было. Едва наступила тишина, как вся комната наполнилась шуршанием и шорохом. Изба оказалась густонаселённой. Жили в ней мыши и тараканы, которые определённо были рады свежим людям. Пугались они только тогда, когда мы направляли на них луч фонарика. Но, ненадолго исчезнув, возвращались и с новыми силами принимались за дело: сновали в головах, в ногах, ползали по палатке, норовя залезть в спальник. Когда наутро хозяин опять принёс тазы с мёдом, мы с вожделением подумали о хранящейся в рюкзаке тушёнке и сказали, что теперь угощать будем мы. Хозяин подвёл нас к сложенной во дворе печке, и мы принялись за дело. В какой-то момент, оглянувшись, обнаружили, что за нами внимательно следят два рогатых существа – бык и корова. Но если бык, пытаясь сохранить мужское достоинство, вёл себя так, будто ему совсем неважно, что там кипит и булькает, то бесстыжая корова, неистово мыча, лезла мордой прямо в котелок.
Однако в домах мы ночевали редко. Чаще в лесу или на реке.
Есть речка по имени Пра,
Там стелется дым от костра. —
охваченная романтическим порывом, записывала я в свой блокнот. Однажды утром, выйдя из палатки, мы увидели. Но в том-то и дело, что ничего мы не увидели, кроме накрывшего реку и окрестности густого белого тумана. Всё отсырело. Даже не пытаясь развести костёр, мы снялись с места и побрели. Совсем рядом лаяли собаки, переругивались рыбаки, но всё закрывала молочная пелена. А была ли Мещёра? Ночёвка у реки, болото, где мы перепрыгивали с кочки на кочку, чтоб в конце пути обнаружить, что рядом идёт нормальная просёлочная дорога, бабуля с морковкой, сельпо, в котором пахло свежим хлебом, резиной да бензином? Вот, однако, куда завёл меня туман, какие элегические ноты он извлёк из меня. И в самом деле, что остаётся в памяти от всех этих путешествий? Туман, один туман, да кое-какие детали.
Следующим летом ты снова позвал меня в даль светлую. Такую светлую, что светлей не бывает. Мы отправились на Белое море. Причём в самый разгар белых ночей. (А может, это я, прочитав северные рассказы Юрия Казакова, позвала тебя в даль светлую.) Мы доехали до Архангельска, про который местные жители шутили «треска, доска, тоска», остановились на ночь в плавучей гостинице на причале, и тут я вдруг поняла, что заболела. Войдя в крохотный гостиничный номер, почувствовала, что не стою на ногах. Только этого не хватало – в чужом городе, в самом начале пути. «Меня качает», – сообщила я. «Меня тоже», – признался ты. Значит, и ты болен. И тут нас обоих сильно качнуло. Мы глянули в окно и увидели за окном воду. Господи, да под нами плещется Северная Двина – вот нас и качает. Слава Богу, мы здоровы и завтра поплывём дальше, к самому Белому морю.
«Пароход, он белеет на просторе – пароход». На просторе белел целый теплоход – огромный и величественный. К тому же полупустой. Пассажиров – раз, два и обчёлся. Мы облазали его сверху донизу. Впрочем, плавание на теплоходе помню смутно. Зато во всех подробностях помню спуск по трапу в карбас (так местные называли баркас), который подплыл к теплоходу, чтоб забрать пассажиров. В тот день штормило. Мы долго следили с палубы, как карбас то исчезал в волнах, то появлялся. Наконец он остановился (если считать остановкой постоянную болтанку), с теплохода спустили трап и объявили, что можно выходить. Трап мотало во все стороны. Единственно куда он не попадал, это в карбас. Его держали сверху, ловили снизу, но волны и ветер делали с ним что хотели. Тот самый весёлый ветер, который пропел нам песню, позвав в дорогу. Что ж, спускаться так спускаться. Только страх мог заставить меня ринуться вперёд и ступить на трап первой. Хоть в воду, хоть в лодку, но лишь бы поскорее. Ждать не было сил. Волны шумели, люди кричали, трап мотало, кто-то протягивал мне руку, за которую я уцепилась, плохо понимая, что происходит. Всё. Вроде бы я в лодке. «Садись, садись», – кричали мне, указывая на скамейку, но я плюхнулась на дно карбаса. Чем ниже, тем лучше – не видно волн. Если я была первой, то ты шёл последним, пропустив впереди себя всех, кому не терпелось попасть в лодку. Наконец несколькими рывками завели мотор и поплыли к берегу. Теплоход проводил нас низким прощальным гудком. Однако до берега мы не доплыли – был отлив. Мужчины вынесли на берег детей и женщин. «Здесь есть опасные места, – говорили нам, – после отлива песок вязкий. Засосать может». – «А как узнать, где вязко?» – «Да разве объяснишь? Мы-то знаем, чутьё у нас. И то, бывает, попадаемся».
Посёлок, куда мы прибыли, назывался Майда. В Койду приехали позже. Попутчики пригласили нас к себе на ночёвку. Угощали рыбой – варёной, жареной, солёной, в том числе и сёмгой, которую, как нам объяснили, ловить после недавних испытаний на Новой Земле было строго запрещено. Ели все из одной миски руками. Постелили нам на печке, но не спалось. Мешали свет и духота. На следующий день нас отвели к старикам, у них была пустая комната на втором этаже. Оттуда открывался дивный вид: мшистое поле да небо. И больше ничего.
На приполярном белом свете
Белы ночами кочки мхов.
Опять не сплю до самых третьих,
Горластых самых петухов.
Стойкое романтическое настроение диктовало множество стихотворных строк. Завидую самой себе: как дышалось, как писалось, как не спалось! Не так, как сейчас – тяжело и безрадостно, а совсем по-другому – легко и тревожно, в ожидании стихов и всяческой новизны. Новизна была всюду. Завтра за морошкой идём с двумя бабулями. «Ходи, девка, ходи», – звали они нас, когда мы отставали. К мужику, старухе, ребёнку – ко всем здесь обращались «девка». «Ходи, девка, поспевай». С кочки на кочку, с кочки на кочку – и полная банка морошки:
…И перед нею на колени
В тепло и влагу мшистых кочек.
Да будет на зиму варенье,
Чтоб коротать длинноты ночи.
«Кушайте», – угощали нас всюду. «Кушайте», – говорили с ударением на последнем слоге. И подставляли рыбу, варенец с коричневой пенкой, морошку или сваренную в печи рассыпчатую кашу. В соседней деревне Жуковке жили всего две старухи. Одной дома не было, а другая пригласила нас в избу и, приподняв кружевное покрывало, долго демонстрировала все свои перины да одеяла. И того и другого было в избытке. Вдоволь нахваставшись, она позвала нас к столу, налила чаю и, приговаривая певучее «кушайте», смотрела, как мы прихлёбываем пустой чай.
«Море смеялось.» – писал классик. У него смеялось море Чёрное, а у нас Белое. Положишь на песок свои вещи, пойдёшь плавать, оглянешься, а на берегу нет ничего. Куда всё подевалось? Да вон оно, плывёт. Вон полотенце, вон одёжки. Вода пришла. Здесь ведь приливы и отливы. Забыла разве? Беги, лови своё добро.
Когда это было – в первое наше северное путешествие или во второе – не помню. Да и неважно. Помню, что долго шла по пустынному берегу и вдруг увидела влажное бревно с вырезанными на нём тремя буквами. Нет, не с теми, о которых вы подумали. На бревне аршинными буквами было вырезано слово «РАЙ». Да, это был рай. Особенно для тех, кто приехал в самое светлое время года, чтобы, побродив да поглядев, в то же светлое время и уехать. Правда, уехать оказалось не так-то просто. У моря погоды, а значит, и теплохода пришлось ждать трое суток. Но что за беда? Спешить было некуда. Мы даже решили на обратном пути попробовать наняться на работу. Нам посоветовали добраться до посёлка Каменка в устье реки Мезени, где есть большая лесобиржа и всегда нужны люди. Начальник долго обнюхивал наши паспорта, удивляясь тому, что у нас чудные да к тому же разные фамилии, но на работу взял. Какую работу выполнял ты – не помню. Мне велели перетаскивать и складывать штабелями ровные, дивно пахнущие свежей древесиной доски. Я работала на некоторой высоте. Что подо мной было? Возможно, всё те же доски. Помню, что однажды, задумавшись и заглядевшись на реку, я чуть не рухнула вниз. «Куда, девка!» – крикнули над ухом, хватая за плечо.
В самом деле, куда? Куда опять влечёт нас неведомая сила? Dahin, dahin, туда. То в Башкирию, где столько земляники, что можно собирать её, лежа на животе и лениво переползая с места на место. То на Оку, где, заночевав в лесу, мы проснулись от истошного визга электрической пилы и дикого хруста. Оказалось, совсем рядом рухнуло огромное спиленное дерево. То в Эстонию, где, набредя на брошенный хутор, мы увидели в окно висящие на вешалке старые плащи, куртки, шапки и стоящие под ними отжившие свой срок сапоги и туфли. А может, хозяева ещё собирались за ними вернуться? Во всяком случае, дом был заперт, но сарай открыт, и дверь сарая тоскливо и жалобно скрипела. Ночью над нашей палаткой с диким граем летало вороньё, шумели на ветру деревья и безостановочно скрипели ворота сарая. Прислушиваясь к этим ночным звукам, я вспомнила брошенные в пустом доме вещи и поняла, что это привидения, которые, снявшись с места, бродят где-то рядом. Недаром всё вокруг шуршит, шелестит, шепчется и вздыхает. Не в силах выдержать охвативший меня ужас, я уже готова была разбудить тебя, как вдруг ты громко и с большим воодушевлением запел песню Петра Старчика на стихи Марины Цветаевой «И марш вперёд, уже трубят поход.» Присмотревшись, я увидела, что ты крепко спишь, и будить тебя не имеет смысла. Оставалось воспитывать волю и ждать утра.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































