Текст книги "Золотая симфония"
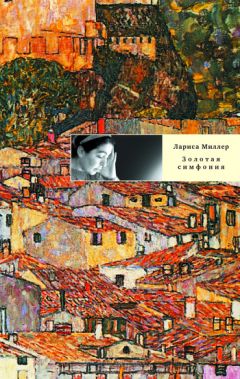
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Однажды в ответ на его улыбчиво-традиционное – «не обнаружился ли новый Пушкин?» – я должен был весело признать: «обнаружился!» Эту историю стоит рассказать, потому что и тут Миша совершил поступок… Летом 38-го в редакцию стали приходить юмористически-безграмотные и столь же патетические стихи с пришпиленными к тетрадочным листкам фотографиями автора. Он подписывался «Я. Пушкин». Такие же стихи с теми же фотопортретами он присылал в «Знамя» и в «Комсомольскую правду», где они попадали порою тоже ко мне (поскольку я и там занимался ремеслом «литконсультанта» в силу тех же обстоятельств). С маленьких снимков глядело лицо бритоголового дебила, на розыгрыши неспособного. На всякий случай, чтобы не пасть жертвой розыгрыша кого-нибудь из друзей-поэтов, я – по совету Миши Миллера и Анатолия Тарасенкова (моего работодателя в «Знамени») – стихов Я. Пушкина всерьёз не разбирал, а только прохаживался по орфографии и нелепой рифмовке. Всё звучало вполне безобидно, но, конечно, обидно. И вот стали приходить от обиженного не жалобы, а угрозы разоблачить меня как «засевшего там-то и там-то» врага народа. В ту пору это звучало вовсе не смешно. В конце концов Миша решил послать многоадресному жалобщику официальное уведомление, что консультант такой-то от работы с начинающими отстранён. (И Тарасенков в «Знамени» сделал то же самое). Пришло ликующее письмо от Я. Пушкина – кажется, последнее. Помню, его ходила читать к Мишиному столу вся редакция. Бедняга признался, что он, действительно наделённый судьбою фамилией Пушкин, стал придумывать стихи год назад, в 37-м, в честь столетия гибели своего однофамильца, дабы появился на свет наш, советский Пушкин! Миша спрашивал меня, не чувствую ли я себя Дантесом… В общем, история была анекдотическая и незабвенная. Но дежурная фраза Миши – «не обнаружился ли новый Пушкин!» – приобрела не очень весёлый смысл. И я теперь отвечал: «Слава богу, нет!» Вот то моё мнимое отстранение от работы было по всем тогдашним меркам ещё одним поступком Миши Миллера. И мы не раз вспоминали его потом…
Миша легко и отзывчиво улыбался, но я совсем не помню его смеющимся или хохочущим. Отчего это было так – не знаю. Он излучал спокойную надёжную порядочность. Все знали: он – умный и очень цивилизованный. И нет у меня на памяти никого, кто думал или говорил бы о нём дурно. Ему должно было бы хорошо житься на свете. Но живо помню, как он становился неразговорчивым, погружённым в уныние, для посторонних необъяснимое. Вероятно, более близкие его друзья знали причины. Но его замкнутая повадка в этих случаях была такова, что я не мог решиться, ну, скажем, беззаботно обнять его за плечи и произнести что-нибудь этакое – бодрящее и необязательное. Помню только, как однажды Туся Разумовская предупредила меня: «Не трогайте сегодня Мишу». И тихо объяснила, что у него неудача со статьёй, которую он попытался написать по её же просьбе. О чём – вспомнить не могу. Но суть дела была чисто психологической и состояла в том, что он, написав обещанное и даже передав свой текст Софье Дмитриевне, вдруг взял его обратно, решительно и бесповоротно. «А что – действительно получилось плохо?» – примерно так спросил я. «Не знаю, – сказала С. Д., – он не позволил мне её прочитать!» Меня, уже начавшего тогда печататься в «Литгазете», это поразило. Оттого, наверное, и запомнилось… Может быть, так объяснялись и другие его «приступы унынья» (не знаю, как сказать лучше)? Может быть, ему, отлично понимавшему, что хорошо и что плохо в литературе, просто не давалось собственное творчество – «не давалось» с его же собственной точки зрения? Он не дожидался чужого суда, а сам вершил его над собой? Это очень похоже на правду… Позднее – в армейской газете 10-й армии – он писал легко и непринуждённо. Как все мы – пустяково-газетные тексты. Но страницы фронтовой печати – не плацдарм для самовыявления в литературе! Он это прекрасно сознавал и там «не держал себя за руку».
Вот я вернулся к началу этого письма-воспоминания. И теперь окончу его печально-обещанным. Он написал нам 24 февраля 42-го:
Мои дорогие ребята!
Приближается час нашего расставания. Может он произойти неожиданно. И потому хочется заранее сказать вам какие-то тёплые, хорошие слова.
Всё, что произошло, страшно. Перенесу ли я всё это, не знаю, – боюсь, что нет. Слишком часто ударяет обухом по голове мысль о дочке, жене, матери. Какое горе на них обрушилось! Отец, муж, сын – дезертир, преступник! Как мне доказать, что это не так? Что мне делать? Пошлют на передовую – бесславно погибну, так и не искупив преступления своей кровью. Какой уж из меня герой! Посадят – тогда уж совсем смерть. Так хотелось бы работать, «служить у вас хотя б швейцаром». Но ведь никакой работы не доверят! Одним словом – конец, страшно нелепый и неожиданный. Вот как бывает, дорогие!
Сколько бы мне ни оставалось жить, быть может, совсем немного, я всегда буду помнить вас, мои родные. Ведь вы единственные люди, которые понимают, верят – я не преступник, не авантюрист. Я – несчастная жертва этого злосчастного кипнисовского[1]1
Кипнис – главный редактор фронтовой газеты. – Л. М.
[Закрыть] бардака, будь он трижды проклят! Я всегда буду помнить такое ваше тёплое участие в эти тяжкие для меня дни, я всегда буду помнить всё хорошее, что было в нашей совместной двухмесячной жизни: поезд Куйбышев – Кузнецк, твои песни, Женя, Нижний Посад, приезд Дани и ещё многое, многое.
Друзья мои, дорогие! Всем, кто помнит меня, объясните, что я не преступник, что всё происшедшее – страшная моя ошибка. Если у меня будет хоть какой-нибудь адрес, давайте его всем, кто захочет мне написать… Это будет единственной моей радостью в жизни. Объясните всем – я стал жертвой нашей общей любви к Москве. Я не подумал, что именно во имя этой любви – не должен был совершать свой мальчишеский преступный шаг. Теперь, наверное, никогда больше Москвы не увижу.
Но главное не это. Главное – дочь, жена, мать. У меня к вам три просьбы, ребята. Быть может, одна из них слишком серьёзна. И всё же умоляю вас, во имя дружбы, выполните и её.
1) Напишите коллективное письмо жене. Объясните обстановку в редакции, объясните, что я не преступник. Одним словом, найдите такие слова, чтобы хоть как-то смягчить её горе. Надеюсь на тебя, Даня, в первую очередь. Письмо лучше послать с оказией. По почте – не дойдёт.
– Моя дочка остаётся без средств к жизни. Ребята, можете или нет, но вы должны это сделать – это и есть моя самая серьёзная просьба – высылать ей по куйбышевскому адресу хотя бы триста рублей в месяц, сколько сможете. И ещё одна просьба – делать это как бы от моего имени, иначе родители жены денег не примут.
– Отвечайте на каждое письмо мне. Знакомым сообщите, что я переведён в другую часть, оттуда напишу. Родителям, сестре, брату – напишите то же самое. Но если у меня другого адреса не будет, писать я не смогу – напишите им вторично, объяснив хотя бы вкратце, в чём дело. Иначе они с ума сойдут, не получая от меня писем. Если же у меня будет адрес – все письма обязательно перешлите. Поручаю это тебе, Нёмочка. В письме Белле напишите, что деньги я дочке буду посылать сколько смогу. (Я имею в виду, конечно, ваши деньги.)
Вот три просьбы. Ещё раз умоляю не забывать о них никогда.
Чем жить так, как мне предстоит, лучше совсем не жить. Но всё же попробую. Если окажется всё бессмысленным, то выход будет один. В этом случае не осуждайте меня, а поймите. И вспоминайте – был такой – Миллер – в общем неплохой малый, любил жизнь, не всякую, а именно нашу, советскую, желал счастья своей стране и всегда старался чем мог помочь строительству этого счастья, любил книги, музыку, ненавидел войну и стал нелепой жертвой её…
Если не доживу до победы – а наверное, не доживу – желаю вам дожить до неё и в какой-нибудь мирный день вспомнить и обо мне. И ещё желаю – не становиться жертвой своих мальчишеских желаний. В наше суровое время это не прощается.
Пишу какие-то розовые слова, а на душе – дьявольщина, иногда кажется, мозг не выдержит.
Может случиться и это. Ещё раз умоляю сделать всё, о чём прошу. Не забывайте меня. Помогите лично мне, если сможете. Уверен в вас. Крепко обнимаю, целую вас, Даня, Женя, Нёма, Толя.
Ваш Миша
Если окажетесь в М., обязат. повид. Беллу.
Вот перепечатал я это трагическое письмо с «петлёй на шее» и надо бы что-то прибавить. Но остальное вы уже знаете сами. Тяжело на душе не только от воспоминаний. У меня есть ощущение нечистой совести: в памяти не сохранилось ничего, что давало бы ответ на мучительный вопрос – как мы, четверо, исполнили просьбы Миши?
И главную из них – как долго посылали мы деньги Вам, крошечной, и как это делалось? Редакцию вскоре разогнали – всё по той же причине. Мы подали коллективный заступнический рапорт начальнику политотдела армии полковнику Пономарёву (думаю, что я не путаю фамилии). И тогда впервые узнали, что коллективные рапорты в армии запрещены. Была политически осуждена вся обстановка в «кипнисовском бардаке». Нас отправили в разные места. Нёма Мельников попал в дивизию нашей армии. Мне пришлось уехать в резерв ПУРа. Жене Аграновичу – не помню куда. Существенно, что уже в апреле– мае мы не были вместе. Каждый что-то делал, чтобы Мише помочь, но усилия эти были тщетны (смешно и наивно было бы полагать, что они сыграли хоть какую-нибудь роль в замене смертного приговора отправкой Миши и М. на передовую). Я связался с Маргаритой Алигер и просил её всё рассказать Фадееву, (который хорошо знал Мишу), дабы А. А. что-нибудь предпринял. В 49-м, когда меня исключали из партии за космополитизм, к моим винам была прибавлена «защита дезертира во время войны». (Это сделал отнюдь не Фадеев, а критик Даниил Романенко, который весной 42-го расследовал всю эту историю в нашей редакции по поручению Политуправления фронта и от кого-то узнал о моей попытке привлечь к заступничеству А. А.) Помню ещё, что я виделся в Москве с Беллой – раз или два. Всё ей рассказал, но дружеские отношения у нас с ней почему-то не сложились. Мишиного письма я ей показывать не мог, потому что папочек «Зольдатен Брифе» – трофей 42-го года – с собою в командировки не возил. (Кстати, такие папочки, взятые в разбитом немецком бронетранспортёре под Сухиничами, были и у Миши.) И, естественно, задавать вопроса о деньгах я не мог бы, а говорила ли она о них хоть что-нибудь – не помню. Боюсь, мы выполняли ту Мишину просьбу раза два-три – не больше, словом – пока были ещё вместе. А может быть, и дольше, но как это происходило – уже не вспомнить.
Недавно я спросил об этом Нёму Мельникова (в тот вечер, когда нашёл и перечитал Мишино письмо). Ничего внятного и он припомнить не смог. Меня только утешает, что ощущения нечистой совести по этому поводу во время войны я не испытывал. Значит, что-то доступное нам мы всё-таки делали… А если провинились, прощенья у Миши уже не попросишь. Прошу его у Вас.
Д. Данин Мая 85
Отцу
Письмо, послание, прошенье
От потерпевшего крушенье.
Письмо, послание, призыв
От гибнущего к тем, кто жив.
Из заточенья, из неволи
Сигнал смятения и боли,
Мольба, отчаяние, крик…
Я устремилась напрямик
На голос тот. Но вышли сроки,
Оставив выцветшие строки
Про горе и малютку-дочь…
Мне сорок пять. И чем помочь?
* * *
То облава, то потрава.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата —
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжко виновато,
Что карало без вины,
Приговаривая к нетям.
Хорошо быть справа третьим,
Пережившим этот бред.
Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.
* * *
Я встретила погибшего отца,
Но сон не досмотрела до конца.
Случайный шорох помешал свиданью.
Прервал на полуслове, и с гортанью
Творилось что-то… тих и близорук,
Он мне внимал растерянно… И вдруг
Проснулась я, вцепившись в одеяло:
Отца нашла. Нашла и потеряла.
* * *
Жить сладко, и мучительно,
И крайне поучительно.
Взгляни на образец.
У века исключительно
Напористый резец,
Которым он обтачивал,
Врезался и вколачивал,
Врубался и долбил,
Живую кровь выкачивал,
Живую душу пил.
И всем, чем дышалось…
Когда я думаю о каком-нибудь поэте, то в памяти моей (правда, весьма слабой на стихи) прежде всего возникают не строки, а звучание, не слова, а мелодия, ритм, наиболее характерные для поэта. При мысли о Пастернаке слышу вот что: «та-та-ТА-та-та ТА-та-та та-та-ТА-та-та ТА-та…» Слова вертятся в голове, но, лишь порывшись в сборнике, могу их воспроизвести:
Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка…
А иногда звучит совсем другое: «та-ТА-та-та та-та-та– ТА та-ТА-та-та та-ТА та-ТА-та…» Что это? Беру в руки книгу и, полистав, читаю:
В московские особняки
Врывается весна нахрапом,
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки…
Пастернаковская музыка богата и разнообразна, но она всегда пастернаковская, и, слыша её, чувствую, пользуясь словами другого поэта, «сердцебиение при звуке». И вовсе не потому, что Пастернак для меня самый-самый. У меня не было с его поэзией того романа, какой был в 71-м с Заболоцким или позже с Георгием Ивановым. Напротив, я никогда не могла читать его подряд, быстро уставая от бешеного напора и густой образности. И тем не менее он – часть меня.
Кто-то сказал, что невозможно по-настоящему понять поэта, не пожив в его родных краях, не подышав тем воздухом, каким дышал он. Возможно, это преувеличение, но доля истины здесь есть. Пастернаковская поэзия, его московское аканье, его многочисленные гласные, похожие на распахнутые окна, в которые «врывается весна нахрапом» или бесшумно влетает тополиный пух, – это моё московское и подмосковное детство, моя ранняя юность с её романтикой, захлёбом и мгновенными перепадами настроения.
Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.
Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят…
Летом 54-го года мы снимали дачу в Переделкине неподалёку от писательского городка, и почти каждый день я приходила на тихую улицу Павленко, чтобы там, не опасаясь машин, учиться кататься на велосипеде. Я доезжала до трансформаторной будки, неуверенно разворачивалась и ехала обратно мимо дачи Пастернака до конца аллеи. И так – много часов подряд. Что я знала тогда о поэте, чью улицу изучила до мельчайших подробностей? Да ничего существенного. Только то, что он известный, что в нашем книжном шкафу стоят его сборники, что катаюсь мимо его дачи. Причём с каждым разом всё ловчей, быстрей, уверенней. И в конце концов я, как птенец из гнезда, вылетела с тихой и безопасной улицы Павленко на простор, чтоб, пытаясь опередить поезд, с ветерком промчаться по откосу на станцию и встретить маму.
В том же 54-м, когда мы с мамой прогуливались под летним дождичком, нашу тропу пересёк человек в плаще и резиновых сапогах. Мама быстро сжала мне руку, как она всегда делала, когда хотела незаметно привлечь к чему-то или кому-то моё внимание. «Корней Иванович», – крикнул человек в плаще, подойдя к забору дачи Чуковского. «Пастернак», – шепнула мама, когда мы отошли на несколько шагов. Вот, собственно, и все мои ранние впечатления, связанные с Пастернаком. Мало? Мало. Но и бесконечно много, если учесть восприимчивый полудетский возраст. Эти «мимолётности» очнулись во мне позже, когда я, сняв с нашей полки сборник, наконец-то прочла:
Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной…
Но, как выяснилось много лет спустя, в конце семидесятых, с поэзией Пастернака меня связывало нечто гораздо большее, чем полудетские впечатления. Оказывается, «сердцебиение при звуке» – это у меня от отца, которого я не знала. О любви отца к поэзии, и в особенности к Пастернаку, рассказывали мне все, с кем я о нём говорила. «… А Пастернаку готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно», – вспоминал его приятель.
Не потому ли у меня и не случился роман с Пастернаком, что отец «переболел» им ещё до моего рождения, оставив мне лишь память об этой «высокой болезни»? Не потому ли я не помню стихов наизусть, что их слишком хорошо помнил отец, – настолько хорошо, что это мешало ему писать собственные, которые он никогда никому не показывал, а впоследствии уничтожил? Не завещал ли он мне, памятуя о своём горьком опыте, это странное свойство – забывая слова, помнить звук?
Поэзия Пастернака – это молодость моих родителей, безумная любовь отца к маме, любовь, толкнувшая его на гибельный шаг: ради встречи с мамой он самовольно покинул часть.
«Ты – благо гибельного шага», – написал Пастернак в сорок девятом, но я читаю эту строку так, будто она – об отце, о любви, стоившей ему жизни.
Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Всё равно – на свету, в темноте —
Ты всегда рассуждаешь по-детски…
А это – о маме. О моей лукавой, взбалмошной, весёлой, несчастной маме, которая любила, забравшись с ногами на диван, помечтать вслух, пофантазировать. Ну хотя бы о том, как в один прекрасный день ей, отлучённой в эпоху космополитизма от журналистской работы, вдруг каким– то чудом снова удастся оказаться в своей стихии. И если во время этих грёз раздавался телефонный звонок, мама, сняв трубку, произносила коротко и по-деловому: «Редакция!»
Конечно же, это была игра, театр для себя, без которого она не могла жить.
30 мая – день маминого рождения, праздник, который всегда отмечался пышно. Хотя бы потому, что комната была заставлена пышными букетами сирени. 30 мая – это гости, звонки, поздравления, музыка, застолье. Так было каждую весну. Так было и в 1960-м. Но на следующий день на столе, с которого ещё не успели снять праздничную скатерть, появилась газета, извещавшая о смерти члена литфонда Пастернака Б. Л. Всё смешалось для меня: день рождения, день смерти, ощущение праздника, чувство утраты, поздравительные звонки и звонки, несущие скорбную весть. И всё это на фоне сирени – белой, тёмной, густой, душистой.
И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой…
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.
Отец, его любовь и гибель, мамины фантазии, её праздники, её сирень… При чём здесь Пастернак? Да при всём. Потому-то и возникает у меня особое щемящее ностальгическое чувство, когда я попадаю в его ауру, в его звуковое поле. Именно звуковое, так как звук – первичен. На этом настаивают сами поэты:
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись…
(О. Мандельштам)
Эта тайна та-ТА та-та-ТА-та та-ТА,
А точнее сказать я не вправе…
(В. Набоков)
Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе…
Так начинают жить стихом.
(Б. Пастернак)
«Тьма мелодий», глубины памяти, колодец времени – всё это поток жизни, неиссякаемой и вечной, как стихи.
Глава III
Роман с английским
Север, юг, восток и запад
СеверЛето 54-го было особенным. Тем летом я написала свой первый рассказ, научилась кататься на велосипеде, впервые влюбилась и первый раз съездила в Ленинград. «Тебе четырнадцать, – сказала мама, – ты уже большенькая. Можно ехать в Ленинград». И мы поехали. Бабушка списалась с нашей дальней родственницей Флорой, которая жила со своим взрослым сыном Игорем на Садовой, и та пригласила нас пожить у неё. Первые ленинградские впечатления: огромная коммуналка, серые чехлы на креслах и диванах Флориной комнаты и плотно зашторенные окна. «Чтоб не выцвели обои», – объяснила хозяйка. Маленькая, со следами красоты, хриплым голосом и неизменной сигаретой во рту, она обожала и постоянно ублажала своего высокого, стройного сына. Он был с ней груб, но она не обижалась, смотрела ему в рот и сдувала с него пылинки. «В Ленинграде нет девушки, достойной его. Он говорит, что женится на той, которая будет ему под локоток», – чуть ли не ежедневно повторяла Флора. Она предоставила нам с мамой кровать, на которой мы все две недели спали валетом. Собственно, нам ничего больше не требовалось, потому что мы приходили только ночевать. Мама всегда брала с собой в сумку тапочки и надевала их, когда уставали ноги. Так и вижу, как она ходит в тапочках среди золота, хрусталя и мрамора петербургских дворцов. Вначале я стеснялась, ожидая насмешек, но потом привыкла. За две недели мы обошли всё что могли. Мама накупила путеводителей и книжек и читала их мне по дороге. Большой Каприз, Китайский дворец, грот, колоннада, ботик Петра Великого, часы «Павлин», мальчик, вынимающий занозу – всё смешалось в моей голове. Дворцы и парки казались не музеем, а уснувшим царством, в которое мне посчастливилось попасть, чтоб рассмотреть его во всех подробностях: вот какие у них одежды, какая посуда, какие картины и часы. Я погрузилась в чужую эпоху, куда более романтичную и привлекательную, чем моя собственная. Но настоящее потрясение я испытала, когда на каком-то горбатом мостике мама вдруг остановила меня и сказала: «Вот тут ходил Пушкин». Я посмотрела под ноги и почувствовала слабость в коленках. Тем более что мы постоянно экономили на еде, чтоб побольше увидеть. «Выбирай: один бутерброд с сыром и поездка в Петергоф или два бутерброда без Петергофа», – говорила мама, когда мы заходили в столовую. Конечно же, я брала один, а второй ела глазами.
Наверное, больше всех дворцов меня поразил дом на Мойке – последняя квартира Пушкина. По-моему, музей тогда только открылся. Народу было очень мало – человек пять, не больше. Девушка-экскурсовод повела нас по комнатам, рассказывая о Пушкине так, будто знала всё из первых рук. Почти перед самой поездкой я дочитала Тынянова, жалея, что книга обрывается так рано, в самом начале пушкинской жизни. И вот я попала в её конец. Когда мы зашли в кабинет Пушкина, и девушка заговорила о его последних часах, голос её дрожал. У меня тоже комок стоял в горле. По-моему, плакали все. Никогда больше мне не встречался экскурсовод, который бы так переживал события более чем вековой давности. Особое чувство к этому дому осталось у меня на долгие годы. Я мечтала привезти туда своих детей. Когда я решила, что мой старший сын уже достаточно большой, я потащила его в Ленинград и привела в дом на Мойке. В маленьком вестибюле стояли толпы. Мы долго ждали, когда выйдет предыдущая группа и можно будет войти. Внутри было душно и тесно. Блёклый голос усталого экскурсовода наводил тоску. Я пыталась поставить сына так, чтоб он хоть что-нибудь увидел и услышал, но бесполезно. При переходе в следующую комнату мы оказались возле дверей, которые служительница тотчас же за нами закрыла: в предыдущий зал вошла другая группа. Я поняла, что, кроме духоты и толчеи, ничего не будет и пора выбираться на воздух. Вдруг я увидела, как мой сын побледнел и стал падать. В это же мгновение за нашей спиной распахнулись двери, и в комнату рухнула женщина из другой группы: ей тоже стало дурно от духоты. Смотрительница принесла воды, мы посидели у окна и пошли к выходу. Когда ещё через несколько лет я приехала в Ленинград с младшим сыном, в дом на Мойку мы не попали: то ли был ремонт, то ли очереди в кассу. Но, помня обморок старшего, я не особенно туда стремилась.
В июне 54-го, когда мы с мамой белыми днями и ночами бродили по городу, я тоже временами была близка к обмороку. Но прежде всего от избытка чувств и впечатлений. Всё, что говорила мама, я понимала буквально: здесь бродил Пушкин, здесь жила Пиковая Дама, а здесь, через этот двор, проходил Раскольников – мама успела рассказать мне этот роман. Отъезд из Ленинграда стал для меня трагедией. Из такого мира вернуться к обычной жизни! «Давай задержимся хотя бы на день», – просила я. Это был единственный случай, когда я предала Москву, в которую всегда и отовсюду стремилась и с которой никогда не хотела расставаться надолго.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































