Текст книги "Золотая симфония"
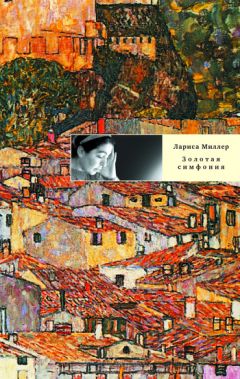
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
Давай как будто
«А давай как будто у мишки живот болит, и ты его лечишь». – «Нет. Лучше давай как будто он заблудился, ходит, ходит по лесу и вдруг.»
С этой ёмкой и мудрой формулы мы начинали в детстве любую игру. Стоило только произнести «давай как будто», и начиналось нечто небывалое, нам самим неведомое, но только нами творимое. Хотим – так построим сюжет, хотим – эдак. Нет ничего невозможного. Всё в наших руках. Такие маленькие демиурги. Откуда нам было знать, что жизнь нас сто раз переиграет и даст нам фору, заставляя участвовать в её собственных иногда совершенно безумных сюжетах. Что там наши беспомощные сценарии – живот заболел, в лесу потерялся – рядом с тем, что вытворяет жизнь! Взять хотя бы мишку. Жил он, жил и вдруг пропал. Я долго его искала и, не найдя, заменила куклой Машкой. Теперь она стала главным действующим лицом в наших с подружкой дворовых играх. Конечно, простенькая Машка с кукольной мордашкой не шла ни в какое сравнение с важным, добрым и мудро-печальным серым медведем, подаренным мне мамой на день рождения. Но что было делать? Жизнь, то есть игра, должна продолжаться.
Наступила весна. И как-то раз, когда мама с отчимом вытащили из-под дивана чемодан, чтобы убрать туда пронафталиненные зимние вещи, я заметила среди всякой всячины родную серую лапу. Боясь поверить в своё счастье, я разгребла пёстрые тряпки и обнаружила того, кого уже не чаяла найти. Схватив медведя на руки, я в тот же миг чуть не выронила его от ужаса – медвежья голова беспомощно откинулась назад, натянув единственную нитку, на которой держалась. «Положи на место!» – испуганно закричал отчим и принялся отнимать у меня медведя. «Почему? Он же мой», – недоумевала я. «Он твой, но сейчас он нужен», – настаивал отчим. И тут я заметила, что в верхней части туловища, на том месте, где к нему крепилась голова, зияет плохо зашитая дыра. Я сунула туда палец и наткнулась на что-то твёрдое. «Не трогай!» – закричал отчим и снова попытался отнять медведя. «Подожди. Надо ей объяснить, – вмешалась мама. – Понимаешь, девочка, он сейчас очень нужен. В нём прячутся разные красивые вещи – кольца, серьги, брошки. Все остальные места – ненадёжные, а мишка надёжный, он всё сохранит. Дай его нам на время». Я слушала маму и смотрела на мишку. Он выглядел ужасно. Голова болталась, шерсть кое-где вылезла, а главное – он, как чучело, был набит чем-то чужеродным. «Но это мой мишка», – пыталась я возразить. «Да, да, конечно, он твой, и ты его скоро получишь, но не сейчас».
В конце концов (в результате каких перемен – не знаю), но помятый, постаревший и пропахший нафталином мишка ко мне вернулся. Он больше не участвовал в наших играх и тихо жил в доме. «Давай как будто ничего этого не было», – могла бы я ему сказать, но зачем, если пришитая мамой мишкина голова, так неестественно плотно сидела теперь на туловище, что не давала забыть о случившемся.
Как же так? Ведь он мой, и мама сама мне его подарила. Да что ты заладила: «Мой, мой». Давно надо было избавиться от этих собственнических настроений – ещё в эпоху куличиков в детской песочнице, где малыши верещат как резаные: «Не трогай! Это моя формочка, моё ведёрко, мой совок». Ничего твоего нет. И ты ничей. И даже сам не свой, потому что постоянно меняешься, как и сюжет, который ты создаёшь в соавторстве с жизнью. А иногда она это делает без тебя и даже с тобой не советуется.
«А может, ничего и не было, – говорю я, всхлипывая, – никакой двойки». «Что ты, девочка, что значит – не было?» – пугается мама, которая давно уже пытается утешить меня, объяснив, что двойка за сочинение – не причина для горьких слёз. Но я безутешна. Я только что перешла в новую школу из прежней, любимой, где учительница по литературе всегда читала мои сочинения вслух и хвалила за фантазию. Сейчас передо мной лежит тетрадь, где моя работа крест-накрест перечёркнута красным карандашом, а рядом с огромной зловещего вида двойкой – размашистая подпись новой учительницы и её гневный окрик: «Придерживайся плана!..» «Давай как будто ничего не было», – говорю я себе, пытаясь спастись от неумолимой действительности с помощью формулы, взятой напрокат из раннего детства.
Но разве эта формула не служит нам пожизненным заклинанием? Разве мы раз и навсегда не договорились с самими собой и с окружающими жить так, будто смерти нет? Мы навсегда остаёмся детьми, и каждый свой день начинаем с того же самого (пусть даже не произносимого вслух) оборота, с которого когда-то начинали игру: «Давай как будто.» Игра продолжается. Мы постоянно предлагаем невидимому худсовету свои новые сюжеты, которые тот принимает, отвергает или, грубо вторгаясь, переделывает на свой лад. Сюжетов не так уж много, и трудно преодолевать штампы, но ещё невыносимее мириться с казённой, безразмерной, единой для всех схемой, которую проще всего проиллюстрировать старым английским стишком:
Solomon Grundy
Born on Monday
Christened on Tuesday
Married on Wednesday
Fell ill on Thursday
Worse on Friday
Died on Saturday
Buried on Sunday
This is the end of Solomon Grunday[15]15
Соломон Гранди родился в понедельник, крестился во вторник, женился в среду, заболел в четверг, сильнее в пятницу, умер в субботу, погребён в воскресенье. Таков конец Соломона Гранди (англ.).
[Закрыть].
Давай как будто жизнь неисчерпаема и богата историями со счастливым концом. Нет, лучше давай как будто конца нет совсем, а есть лишь бесконечное множество вариаций. Нет, давай как будто.
О мире, Мцыри и воздушном шаре
Если подумать, то окажется, что нет никаких атеистов. Все – верующие. Все верят в разумный ход вещей, вернее, в то, что он обязан быть разумным. Верят в торжество справедливости, в победу добра над злом и в то, что зло непременно должно быть наказано. Но кем? Тем, кто является гарантом справедливости. А кто им является? Тот, чьё имя да не будет помянуто всуе. В глубине души каждый верит, что когда-нибудь Он всё расставит по своим местам. Пусть не сейчас, пусть позже. Пусть даже настолько поздно, что мы, свидетели и очевидцы совершаемого зла, о победе добра так и не узнаем. Что ж, тем загадочнее мир, тем он притягательнее, тем больше оснований не относиться к нему как к бессмысленному нагромождению случайностей.
Мне в этом отношении легче, чем другим. Для меня мир так и остался непознанным. Сколько я ни пыталась усвоить хоть какие-нибудь сведения о нём, запомнить хоть какие– то его биографические и географические данные, ничего не выходило, потому что моя память – решето. Даты, факты, события, имена – всё уходит, улетучивается, ускользает из памяти, оставляя мир нерасчленённым, неразмеченным и загадочным, как улыбка Джоконды. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей.» – вот мои представления о мире.
Однако в нём существуют островки, про которые я знаю всё вплоть до мельчайших деталей. Причём существуют эти островки только в моей памяти. Потому что со времени их существования в реальном мире, утекло столько воды, что их давно уже смыло. Именно эти несуществующие территории я помню и знаю как пять своих пальцев.
Наверное, такая память имеет свои преимущества, потому что извлекает из всего некий особый томительный звук, рождённый невозможностью постичь, познать, уловить, удержать.
В детстве меня очень волновал образ «Мцыри», тоскующего по сильным чувствам и ярким мгновениям, которых так мало было в его жизни. Помню, с каким подъёмом писала я школьное сочинение на эту тему. Процесс писания до такой степени меня захватил, что я, наверное, испытывала то же самое, что Мцыри во время грозы: он ловил руками молнию, а я вспыхнувшее слово. Недаром улов и слово близки по звучанию. Слово есть некая ЛОВУШКА для сыпучего и текучего – то есть для всего, что иным способом не поймать.
Два дивных глагола – ловить и летать. Я мечтала о том и о другом. И мой старший сын тоже. Настойчивое желание летать овладело им лет с пяти. Именно в этом нежном возрасте он то и дело взмахивал руками и подпрыгивал в надежде, оторвавшись от земли, задержаться в воздухе. Став немного старше, он принялся мастерить воздушный шар. На это ушло целое лето, масса энергии и куча всякого материала. При малейшем ветре воздушный шар начинал задумчиво кружить по участку (дело было на даче), но так и не взлетел. И правильно сделал. Он остался мечтой, сном, чем-то недосягаемым и абсолютно необходимым для того, чтоб мир не разучился улыбаться улыбкой, не поддающейся трактованию.
«Мы играем?» – неожиданно спрашивал сын посреди игры. И, услушав моё уверенное «да», переспрашивал: «Мы играем?» Странный вопрос. Конечно, играем. Но если вдуматься, то вопрос не такой уж странный. Жажда игры оказывалась столь велика, что сама игра была не способна утолить её. Оставалось томление по игре и неуверенность в том, что происходит именно то, чего он так долго ждал.
«Мы живём?» – кто не задавал себе подобного вопроса? Кто не знаком с комплексом Мцыри, который считал жизнью лишь те короткие минуты, («глазами тучи я следил, руками молнии ловил»), когда вопроса не возникало?
Живём ли мы? Живём, живём. Доказательство – налицо: вон какая сильная амортизация души и тела. Кстати, мой так и не взлетевший сын собирался изобрести эликсир жизни, чтоб его близкие не старели и жили вечно. Он так долго собирался, что мы, его родители, уже почти вошли в ту часть тоннеля, что называется «старость». Впрочем, всё нормально, как теперь говорят. Всё путём. Тем самым путём, которым мильон раз проходили до нас другие. Просто мы «на новенького», и нам всё в диковинку.
«Зачем я пришла?» Сколько раз слышала я сквозь сон это бабушкино бормотанье, когда она появлялась в комнате, чтобы взять что-нибудь из буфета и вернуться на кухню. Могла ли я тогда предположить, что через несколько десятков лет буду бормотать то же самое, пытаясь понять, зачем пришла? Какая дичь. Не могла, конечно. Одно дело – бабушка, другое – я. Оказалось, дело-то одно – жить, стареть, умирать. Как жить, как стареть, как умирать – тут могут быть разночтения и варианты. Но в главном мы все едины. И ещё в том, что в глубине души до последнего надеемся, что смерть – это то, что бывает с другими. Даже если мы с юных лет о ней думаем и посвящаем ей рифмованные и нерифмованные строки, мы до конца в неё не верим. И причина нашего неверия – в вере, той самой, о которой я говорила в начале. Вере в то, что ОН всё устроит. Пусть не завтра, пусть потом, пусть даже после нас, но устроит. И то чудесное, что ОН устроит, тот закон, который создаст, будет непременно иметь обратную силу…
Коллекция
Мы с мамой поднимаемся по скрипучей лестнице загородного дома, на стенах которого развешаны многочисленные коллекции бабочек. Владелец этих коллекций ведёт нас в свой кабинет на втором этаже. Сутулый, постоянно кашляющий, с трубкой в зубах, он движется бесшумно, потому что на ногах у него валенки. Мне очень нравится этот человек. Он добрый и весёлый, хоть и грустный. Он мамин начальник, главный редактор журнала, где работает мама. Мне только не нравится, что он ради своей коллекции загубил столько бабочек. Помню, как поймав однажды бабочку, я так долго сжимала её в пальцах, что сбила с крылышек пыльцу. Когда я наконец её отпустила, она, сделав слабую попытку взлететь, упала на траву. Мне сказали, что, бабочки без пыльцы не летают. Потрясённая своим невольным злодейством, я долго плакала. Я плакала из-за одной бабочки, а тут их несметное количество. И все мёртвые. Странно как-то.
Но ещё страннее было посещать квартиру, наполненную чучелами разных животных. Войдёшь в коридор и тут же попадаешь в обьятья огромного медведя. Заглянешь в комнату, а со стены на тебя смотрит мёртвыми глазами олень. Войдёшь в кабинет хозяина и наступишь на медвежью шкуру. Хозяин – писатель Ефим Пермитин. Книг его я никогда не видела, но знала, что он и двое его сыновей – заядлые охотники, а хозяйка дома – тихая, хлебосольная Тасинька – мамина подруга. Жили они неподалёку от нас, в Замоскворечье, и мы у них часто бывали. Не скажу, что мне это шибко нравилось. Я боялась всех этих шкур и морд. Но хозяин был уверен, что я от них в восторге и, катая меня на спине, специально подносил к оленьей или медвежьей морде и тыча в неё лицом, говорил: «Ну, поздоровайся, видишь, какой милый зверь».
Я гораздо больше любила бывать в гостях у мастера скрипок. Его комната находилась в тёмной коммуналке в самом конце бесконечного коридора. Но, войдя в комнату, вы оказывались в волшебном мире разнокалиберных скрипок. Больше всего меня занимал всамделишний инструмент размером в палец. Почему я решила, что он всамделишний – не знаю. То ли мне сказали, то ли я хотела, чтоб так было. Скрипки всех размеров стояли вдоль стен, лежали на полках и, как мне сегодня кажется, висели под потолком. Все они были сделаны хозяином комнаты, который, когда приходили гости, любил, достав одну из них с полки, сыграть на ней что-то сладко-напевное. Сегодня я задала бы ему тьму вопросов: кто он, откуда, как научился делать скрипки, почему работает инженером, а не скрипичным мастером. Но тогда, в далёком детстве, мне было достаточно того, что я о нём знала: седой, курит трубку, целует маме руку, работает с моим отчимом в каком-то институте, часто ходит в театр, обращается к жене на вы. А дома у него живут скрипки, и он играет на них, прикрыв глаза и улыбаясь.
А ещё был на свете художник Валёк Никольский. Он жил в очень бедной комнате под чердаком. Посреди комнаты стоял мольберт, а вдоль стен – картины. Их было много и становилось всё больше, потому что Валёк постоянно работал. Но он не только писал картины. Он ещё оформлял книги и дарил их нам с мамой. А некоторые книги – например, детские стихи, – дарил только мне. Валёк говорил басом и носил длинные волосы. У него были широкие плечи и тонкие пальцы. Я любила его рассматривать. Меня занимало то, что он – такой красивый, широкоплечий, басовитый – сидит в инвалидном кресле и его короткие, как у ребёнка, ноги беспомощно свисают. Дома он всегда носил пальто с длинным ярким шарфом. Наверное, на чердаке было холодно. Хотя я там видела однажды полураздетую девушку, которая ему позировала. Интересно, куда делись все его картины, где диковинные скрипки из московской коммуналки? И кому достались калейдоскопы, которые делал страдающий туберкулёзом дядя Володя, отец моего двоюродного брата? Они валялись на диване, на прикроватном столике, на буфете, и мне никогда не надоедало их вращать. Вжик – один узор, вжик – другой, вжик – третий. К сожалению, я ни разу не видела дядю Володю за работой и совсем не знаю, откуда он брал цветные стёклышки, фольгу или что-то другое и как помещал всю эту весёлую начинку в разноцветный цилиндр. И для чего он их мастерил – для заработка, для забавы?
Странно устроен ребёнок. С одной стороны, всему удивляется, а с другой, – всё принимает как должное, и никаких вопросов.
Мой отчим собирал марки. От него я впервые услышала шикарное слово «филателия». В центральном ящике нашего письменного стола лежали аккуратные альбомы с марками, большие и маленькие лупы и никогда прежде мною не виданные пинцеты. Я бы всё это так и съела, настолько они были аппетитные. Отчим говорил, что собирание марок очень развивает и расширяет кругозор. Он подарил мне альбом, лупу и пинцет. Я была на седьмом небе. Когда из меня стали выскакивать слова типа «Гельвеция», мама, которой очень не нравилась зацикленность отчима на марках, вынуждена была признать, что филателия и впрямь развивает.
А самый близкий друг отчима собирал мундштуки и трубки. В его комнате всегда пахло дорогим табаком, который он держал в специальных изящных мешочках. Он и его жена жили в огромном доме на Таганке. Там была коридорная система (я тогда впервые узнала, что такая существует), то есть по обеим сторонам бесконечного, похожего на железнодорожный тоннель коридора были понатыканы крохотные квартиры с игрушечными кухнями. Как ни мала была кухня, хозяйка дома умудрялась закатывать царские обеды. И если я не справлялась с каким-нибудь необъятным блюдом, папин друг задумчиво говорил, посасывая трубку: «А не пора ли тебя пошлёпать по тому месту, откуда ноги растут?»
Мне даже нравилось, что для того, чтобы попасть в особый, ни на что не похожий мир, надо долго идти нудным, длинным, полутёмным коридором. Чем длиннее был проход, тем неожиданнее оказывалось то, что ждало за дверью.
Однажды такой коридор привёл меня в странное обиталище разных баночек, скляночек, пузырьков и флаконов. В комнате витал нежный запах духов, а хозяйка, сверкая бело-розовым лицом и ослепительно чистым шёлковым халатом, бесшумно порхала по комнате. Сперва я думала, что она собирает все эти разноцветные ёмкости точно так же, как другие собирают трубки или марки. Но вскоре поняла, что она – косметичка, и мама принесла ей своё лицо. Пока владелица баночек колдовала над маминым лицом, я сидела в углу и следила за её движениями. Шёл маленький спектакль, танец рук, которые трогали, ласкали, гладили и мяли мамину кожу. Во время этой ворожбы владелица танцующих рук говорила с мамой тихим воркующим голосом. От всего этого мне (хотя трогали не меня, а маму) сперва стало щекотно, а потом захотелось спать. Когда руки, вспорхнув в последний раз, завершили свой танец вокруг маминого лица, началась ворожба другого рода. В ход пошли баночки. Полные опустошались, а порожние, наполнившись с помощью пластмассовой ложечки чем-то ароматным и густым, плотно закрывались, вкладывались в бумажный кулёк и вручались маме. Мы несли их домой, где я немедленно отвинчивала крышки и принималась нюхать, нюхать и нюхать густую сливочную массу с волшебным названием «крем».
Теперь самое время воскликнуть: зачем всё это застряло в моей памяти? Где сегодня все эти волшебные миры, все эти страстные собиратели, хранители, любители, мастера, умельцы? Зачем они однажды появились и куда делись? Вопрос в пространство, которое, как всегда, молчит. Попробуем ответить за него. Ответим вопросом на вопрос: а почему, собственно, жизнь не имеет права создавать свою собственную коллекцию? Почему она не может быть страстным и бескорыстным собирателем разных человеческих особей? Вот такая особь, а вот – такая. Здесь и художник, и скрипичный мастер, и любитель трубок, и филателист, и ретушёр Юра, сын наших соседей на Полянке. Как к нему ни зайдёшь, он сидит перед чьей-то фотографией и не то затемняет её, не то высветляет. А справа и слева ждущие своего часа застывшие лица – улыбающиеся, хмурые, торжественные, взрослые, старческие, детские. Он брал много заказов и работал сутками. Когда он трудился над очередной фотографией, его взгляд становился таким же цепким и хищным, как у художника Валька, работающего с моделью. Я не понимала, зачем надо ретушировать снимки, но, однажды оказавшись на кладбище, увидела фотографии в круглых рамочках и вспомнила Юру.
Кладбище – тоже коллекция. Коллекция отживших экспонатов. И подпись есть, и даты, и фото для наглядности. Человек собирает свою коллекцию, а жизнь – свою. Она шутя творит будущие экспонаты, даёт им возможность полетать, погрешить, помельтешить, помечтать, помучиться, а потом превращает в нечто недвижное, неживое, у которого тоже есть своё место – тихое, тенистое, с холмиком, с оградой, с фотографией на памятнике. Но я не люблю кладбище. Там нет тех, ради кого мы туда приходим. Они – где угодно, даже в этих записях, но там их нет. Впрочем, это уже о другом.
Что у нас время?
«Take your time», – говорят англичане, что означает «не спеши», а дословно: «бери своё время». Ещё существует словосочетание – «keep time» – «выдерживать ритм или верно идти (о часах)», буквально – «хранить время». Кто не хочет удержать время? Нам хорошо удаётся терять его, тратить, убивать. Самое безобидное из всего, что мы умеем с ним делать, это – проводить. Хотя «провести» имеет и другое значение – «обмануть». И это нам удаётся ещё лучше. Мы то и дело обманываем себя, а тем самым и его, что заняты чем-то осмысленным и важным.
Если доверять языку – а только ему и надо доверять – то можно надеяться, что буквальное значение и есть главное. «Возьми своё время и удержи его» – раз сие возможно в языке, значит, возможно и в жизни. Надо только материализовать такую бесплотную субстанцию как время, превратив его во что-то осязаемое, зримое. Не этим ли мы всю жизнь занимаемся? А удалось нам или нет, покажет опять же время. Хотя окончательная ясность наступит, только если дожить до конца времён. А поскольку это невозможно (да и есть ли у времён конец?), то можно расслабиться. Можно, но не получается. Слишком велика потребность чувствовать, что всё не зря – минута, день, жизнь. У Владимира Соколова есть стихотворение про муравья, который, взвалив на спину тяжеленный груз, долго тащил его в свой муравейник. А когда дотащил, удостоился похвалы: «Хорошую какую иголку приволок». Муравей, конечно, обрадовался. И не потому, что тщеславен, а потому, что приятно сознавать, что твой труд не напрасен.
Мы безнадёжно испорчены эпохой индивидуализма. Нам плохо удаётся роль безымянных участников событий. Ведь недаром существуют притяжательные местоимения: «Take your time» – «возьми своё время». Не бывает общих времён. Даже если мы живём в одну эпоху, у каждого (в личном, интимном плане) время своё.
«Я не знаю времени, – сказала мне знакомая художница, – плыву в потоке, и всё. А произошло ли это вчера, сегодня, год назад – мне безразлично. Вернее, для меня может стать одинаково важным то, что случилось сто лет назад и сегодня. В моём восприятии всё существует одновременно». «Счастливая, – подумала я. – Мне бы так». Я время слышу, вижу, осязаю. Переживаю, короче. Звучит забавно – переживаю время. Можно ли его пережить? «.Уйдёт, а я останусь», – писал поэт. Значит, надеялся его пережить.
Впрочем, иногда начинает казаться, что время – это людская выдумка, и нет ничего, кроме череды событий, на которые мы набросили самодельные густые сети, сплетённые из разных хитроумных штуковин. «Время», – сказали мы гордо и сами же попались в свои тенёта. Бьёмся и не знаем, как вырваться. А времени как не было, так и нет. Есть один только воздух, который струится и струится.
Одна моя ученица, забыв значение английского слова, спросила: «Что у нас «send»?» Как будто мы с ней заранее договорились: это будет означать то-то, а это – то-то. Может, и в самом деле мы (не я с моей ученицей, а мы все) условились, что у нас будет такое понятие как время, и теперь мучаемся с ним: теряем, тратим, догоняем, а оно терпит или не ждёт.
«Нет времени», – говорим мы, объясняя? почему не в состоянии что-то сделать. Хорошо бы эти слова означали совсем другое. А именно то, что времени не существует – нет ни века, ни года, ни часа, ни возраста. Есть жизнь, которая требует не времени, а сил. Много, много сил, которых всегда не хватает.
Дни тяжелы и неподъёмны.
Казалось бы, светлы, бездонны,
Легки – и всё же тяжелы.
Столь ощутимы и объёмны,
А догорят – и горсть золы.
И как нести всю тяжесть эту:
Весомых дней, текущих в Лету,
Событий иллюзорный вес,
Покров небес, которых нету, —
Аквамариновых небес.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































