Текст книги "Золотая симфония"
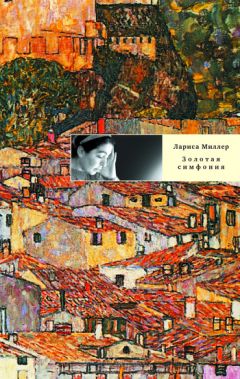
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Фальшиводокументчица
Если в первом семестре второго курса я ещё с грехом пополам посещала уроки физкультуры, то во втором решила завязать. Причина таилась в том, что две наши группы – мою и моего друга – неожиданно объединили. Это значило, что придётся на его глазах скакать по залу с зажатым между ступнями мячом, который, конечно же, будет постоянно выкатываться; прыгать через козла, непременно на нём застревая; лезть на брусья, чтоб на трясущейся ноге делать ласточку. А тут ещё и учителя сменили. Если раньше у нас был молодой, лысый, картавый преподаватель, терпеливо приговаривающий: «Пуыгай, Миллеу, пуыгай», то во втором семестре его сменила молодящаяся дама, прозванная за свои ярко-синие спортивные брюки «синештанной». Она с нами не церемонилась, действуя по армейскому принципу: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Посетив одно занятие, я поняла, что на второе не пойду. В часы физкультуры я торчала в библиотеке или, прильнув к щёлочке в двери спортзала, наблюдала, как ловко мой друг отжимается, держит угол, крутится на брусьях. Так я дожила до весенней сессии. И вдруг – гром среди ясного неба: меня не допускают к экзаменам – нет зачёта по физкультуре. Я бросилась искать «синештанную». Заглянула в спортзал, в учительскую, в столовую и наконец заметила её синие брюки в буфете. Деликатно дождавшись, пока она дожуёт пирожок, я обратилась к ней с дурацким вопросом: «Как быть с зачётом?» «Не знаю», – ответила та, доставая из «глубоких штанин» пудреницу и помаду. «Но ведь меня не допускают к экзаменам». «Сама виновата», – резонно парировала «синештанная», покрывая губы толстым слоем краски.
«Иди в деканат», – посоветовал мне кто-то из ребят. Подождав в приёмной, я оказалась в необъятном кабинете, где за необъятным столом сидела пожилая сухая седая узкогубая деканша.
– Слушаю, – произнесла она, оторвавшись от бумажек и приподняв очки.
– Меня не допускают к сессии, потому что я не получила зачёта по физкультуре.
– А почему не получила?
– Не ходила.
– А почему не ходила?
Я промолчала.
– Болела, что ли?
Я кивнула.
– Принеси справку.
– А можно мне сдать зачёт сейчас?
– Вопрос не по адресу. Ступай к преподавателю.
– Я уже была у неё.
– И что же?
Я пожала плечами и робко спросила:
– А вы не можете распорядиться, чтоб она приняла у меня зачёт?
– А с какой стати? Ты пропускала занятия, а я прикажу ей поставить тебе зачёт?!
– Но я же хочу попробовать его сдать.
– Вот и пробовала бы раньше. Почему ты вообще пришла сюда?
– Мне посоветовали к вам обратиться.
– Зря посоветовали.
Поняв, что разговор окончен, я снова отправилась вниз, в спортзал к «синештанной».
– Можно сдать зачёт?
– Какой зачёт? – воскликнула та, явно получая удовольствие от моего растерянного вида. – Оценки выставлены, итоги подведены, ведомости сданы: я ухожу на пенсию. Так что теперь уж как-нибудь без меня.
И снова тем же путём – коридор, лестница, приёмная – в деканат.
– Зачем ты опять пришла?
Я пересказала разговор с «синештанной».
– Что же ты хочешь от меня? Липовых зачётов мы не ставим. Болела – неси справку. Иначе к сессии не допустим.
По дороге домой я думала только об одном: что сказать маме? Дальше скрывать невозможно. Как я и ожидала, мама была в бешенстве. «Как ты могла? Как посмела? Я целый год работала как проклятая, нанимала учителей, чтобы ты поступила, а ты из-за какой-то ерунды… – Она метнулась к телефону и набрала бабушкин номер. – Мама, произошла катастрофа: эту дрянь могут выгнать из института. Не кричи, слушай и не задавай вопросов. Срочно нужна справка, что она болела, причём серьёзно, потому что пропущено много уроков. Попроси свою Полину Вульфовну. Объясни, уговори, сделай что угодно, но справка нужна срочно».
Полина Вульфовна, бабушкин районный врач, добрая душа, к которой больные ходили не только с жалобами на здоровье, но и с жалобами на всё на свете, написала в справке, что я, переболев гриппом, получила осложнение на сердце. Осложнение имело красивое название, которого я не помню. Получив драгоценную бумажку, я, ошалев от счастья, полетела в Сокольники. До экзаменов оставалось всего ничего, а я ещё и не начинала готовиться. Только бы поскорее всё это кончить, отдать справку и забыть о ней. В институте было пусто и прохладно. Занятия завершились, и лишь у доски с расписанием экзаменов толпились студенты. Мне повезло: в приёмной никого не было, и деканша оказалась на месте. Войдя в кабинет, я с торжествующим видом протянула справку. Взяв её в руки, деканша принялась внимательно изучать бумажку.
– Кто тебе это дал? – спросила она, подняв голову и вперившись в меня взглядом.
Я похолодела и, чуя недоброе, решила не называть фамилию.
– Там же написано.
– Написано неразборчиво. Так как фамилия?
– Не помню.
– Ты что, не знаешь фамилию своего участкового врача?
– Это не мой врач. Когда я болела, жила у бабушки.
– Та-а-а-к, – удовлетворённо протянула деканша, и её тонкие губы растянулись в иронической улыбке. – Та-а-а-к, что это за врач, мы ещё выясним. Значит, ты болела гриппом и заработала осложнение. Если это так, ты должна была пропустить немало занятий и по другим предметам. Всё это мы сейчас проверим. Милочка, – обратилась она к секретарше, – достань-ка мне журнал 205-й группы и позови медсестру. Да пусть она захватит карточку Миллер.
Всё происходящее казалось мне дурным сном, в котором к тому же появилось подобающее этому сну новое действующее лицо – хромая горбунья в белом халате. Она славилась тем, что каждому, входящему в её кабинет студенту, ставила диагноз «злостный симулянт». Посмотрев на меня как удав на кролика, горбунья положила какую-то папку на стол деканши. Дальнейшее забыто. В памяти остался лишь самый конец сна и металлический голос, который произнёс:
– Ну что ж. С тобой всё ясно. Никаким гриппом ты не болела, никаких занятий, кроме физкультуры, не пропускала, на сердце не жаловалась. Справка твоя – фальшивая и останется здесь. А ты можешь идти. Когда понадобишься, пригласим.
Мои ноги приросли к полу.
– Что ещё? – спросила деканша.
– А можно мне послезавтра сдавать экзамен? – произнесла я, с трудом шевеля губами.
Деканша хлопнула ручкой по столу и, откинувшись на спинку кресла, захохотала сатанинским смехом.
– Экзамен, говоришь? Да ты же фальшиводокументчи– ца! Тебя судить надо. – И, перестав смеяться, деловым тоном добавила: – Завтра будет приказ об отчислении. Потом соберём общеинститутское собрание и решим, что с тобой делать дальше. Исключение из комсомола тебе обеспечено, а там посмотрим. Больше вопросов нет? Можешь идти.
Не помню, как я вышла из института, как добиралась до дому, что говорила маме. Помню только, что через некоторое время я снова оказалась на улице, но не одна, а с мамой. Мы дошли до метро, доехали до станции «Сокольники», сели в трамвай и сошли возле института. В кабинет декана мама вошла без меня. Я осталась ждать в самом тёмном углу коридора. Мамы не было целую вечность. Когда она наконец появилась, то, даже не попытавшись отыскать меня взглядом, направилась к выходу. Я двинулась за ней. Мы молча дошли до трамвайной остановки. И вдруг, повернувшись ко мне, мама ударила меня по лицу: «Дрянь, дрянь – повторяла она, рыдая, – дрянь ты этакая. Из-за тебя я валялась в ногах, по полу стелилась, на коленях ползала». Я молча смотрела на неё, и вдруг слёзы хлынули у меня из глаз. Впервые за всё это время я плакала, захлёбываясь слезами и не могла остановиться. Подошёл трамвай. Мы сели на заднее сиденье и, обняв меня за плечи, мама зашептала: «Ну всё, всё, успокойся. Этой справки больше не существует. Нам повезло: во время разговора в кабинет вошла замдекана. Она оказалась очень милым человеком. Когда я упала на колени, она бросилась меня поднимать, а когда узнала, что твой отец погиб на фронте и я одна тебя растила, подбежала к столу и разорвала справку на мелкие клочки. «Пусть приходит и сдаёт экзамены, – сказала она, – беру всё на себя»».
Сессию я сдала хорошо, но каждый раз возле аудитории, где проходил экзамен, появлялась похожая на призрак деканша и, улыбаясь тонкими бескровными губами, грозила мне пальцем. Как будто боялась, что я её забуду.
Роман с английским
На раннем этапе мои отношения с английским строились весьма драматично: это были сплошные невстречи (да простят мне ахматовское слово в столь несерьёзном контексте). Первая невстреча состялась на заре пятидесятых летом в Расторгуеве, куда, как обычно, выехал детский сад, где работала бабушка. На сей раз я жила не в группе, а с бабушкой и всем «педсоставом», как тогда говорили. Среди педсостава оказалась воспитательница, знающая английский. У неё был с собой адаптированный «Оливер Твист», с помощью которого она регулярно пытала собственного сына, а позже, по бабушкиной просьбе, и меня. Сирота Оливер не вызывал во мне ничего, кроме жалости. Но жалела я не его, а себя. Мало мне школы, на дворе лето, за калиткой визжат и возятся «воспитательские» дети, а я почему-то должна сидеть на жаркой террасе и тупо повторять «work house – работный дом». Вот, пожалуй, и всё, что я вынесла из тех занятий.
Вторая невстреча произошла в Москве. «Step by step», – торжественно прочитал отчим название толстой потрёпанной книги, по которой когда-то сам пытался учить английский, и, энергично поплевав на пальцы, перевернул страницу. Домашнее обучение началось. «This is a carpet», – произнес он, тыча в висевший на стене ковёр. «This is a table», – сообщил он, хлопнув по столу ладонью. «Three НШе pigs», – объявил, указав на картинку в книге. Все слова он произносил громко и радостно, но с особым удовольствием слова с межзубным звуком, который для простоты заменял на «с» или «з». Мама была довольна: плюс к школьному я получала дополнительную порцию английского дома. Сама она, несмотря на какие-то мифические курсы Берлица, которые когда-то посещала, не могла мне помочь. Изредка произносимые ею английские слова звучали столь причудливо и вызывали у меня такое недоумение, что она виновато умолкала. Школьный же английский, породивший все эти дополнительные хлопоты, не помню совсем. Первые и последние воспоминания о нём относятся к 53-му году – году «дела врачей». «Англичанкой» в нашем 7 «Г» была Софья Наумовна – невысокая женщина с приятными чертами лица и проседью в пышных волосах. Когда началась вся эта свистопляска и газетная травля, она так нервничала, что едва могла вести урок. Мне даже казалось, что она боялась особо нахальных и злобствующих девиц (а таких в нашем классе было немало) и, заискивая перед ними, завышала им оценки. Меня Софья Наумовна в ту пору почти не замечала и редко спрашивала, но, встретив однажды на улице, назвала по имени и ласково поздоровалась.
Вот и весь мой ранний английский. И как я оказалась в инязе, сама не знаю. Впрочем, если разобраться, всё объяснимо. Язык мне давался легче, чем другие предметы. Химичка звала меня «дубиной стоеросовой». Математичка, физик и учитель по черчению наверняка думали так же, но отличались большей выдержкой. С историей, особенно древней, всё было бы хорошо, если бы не имена и даты. А литература… Литература – это особая статья. Я любила её, но не школьную, не препарированную автором учебника и моей учительницей, которая за шаг влево или вправо от жёсткого плана сочинения беспощадно влепляла двойку. Сочинение и явилось тем барьером, который я не смогла взять на вступительных экзаменах на филфак МГУ.
О, жаркое лето 57-го! Прохладные металлические ступени университетской лестницы, где я сидела в полном трансе, не найдя своей фамилии среди допущенных к следующему экзамену.
О, жаркое лето Всемирного фестиваля молодёжи – события, абсолютно прошедшего мимо меня, потому что я, провалившись в МГУ, сделала по маминой просьбе отчаянную попытку поступить в Институт иностранных языков.
Экзамен, которого совсем не помню, это экзамен по языку (опять невстреча). Зато отлично помню, как сдавала историю, вытащив билет № 29 – («Триумфальное шествие Советской власти и поход Степана Разина за зипунами») – единственный, которого боялась, потому что не выучила и успела повторить лишь перед самым экзаменом, дожидаясь своей очереди в душном коридоре.
Итак, иняз. Вот когда, по логике вещей, должна наконец-то произойти моя встреча с английским. Но жизнь – выше логики или, по крайней мере, совсем другое дело. Иняз для меня всё что угодно, но только не постижение языка.
Иняз – это, прежде всего, освобождение от ненавистной школы, головокружительное чувство новизны, интеллигентные преподаватели, говорящие студентам «вы». Иняз – это многочасовые разговоры по душам с подружкой, весёлая праздность и не менее весёлый экзаменационный аврал. Иняз – это не столько Чосер, Шекспир и Байрон, сколько лихо распеваемые нами по-английски джазовые песенки, ради которых на наши институтские вечера рвалась вся московская «золотая молодёжь». Иняз – это три с половиной целинных месяца, степные просторы и долгие ночные прогулки под густыми звёздами. Это – любовь, которая сделала институт в Сокольниках самым счастливым, а позже самым несчастным местом на земле.
Ну а как же английский? А как же дивные институтские преподаватели? Серьёзный и умный Наер, фанатично влюблённый в язык коротышка Венгеров, темпераментная, с живыми глазами, громким смехом и постоянной сигаретой в руке Фельдман, высококлассные специалисты по стилистике и переводу Рецкер и Кунин, многочисленные американцы, вернее, американские евреи, по высокоидейным соображениям переселившиеся в Россию в тридцатые годы? Неужели вся их наука прошла мимо меня? А как же мои регулярные походы в Разинку[2]2
Так называли Библиотеку иностранной литературы, располагавшуюся в те годы на ул. Разина (ныне Варварка).
[Закрыть], где неотразимый Владимир Познер делал обзор новинок английской и американской литературы? Неужели всё мимо? Наверное, нет. Наверное, я что-то всё-таки усваивала даже помимо собственной воли. Но насколько же меньше, чем могла. Оглядываясь назад, вижу, что в студенческие годы мой роман с английским то затухал, то вспыхивал с новой силой. На первом курсе идея выучить язык казалась мне весьма оригинальной и привлекательной. И не только мне, но и моей подруге. Мы приняли твёрдое решение каждый день беседовать по-английски. Начали бодро. Обложившись словарями, пытались обсудить какую-то театральную постановку. Однако наши мысли и эмоции оказались настолько богаче словарного запаса, что мы постепенно перешли на русский.
Желание блеснуть совершенным знанием языка жило в каждом из моих сокурсников. «Why not?» – к месту и не к месту восклицал один, сопровождая вопрос усмешкой. «There is no doubt about that (в этом нет сомнения)», – выкрикивал другой, небрежно стряхивая пепел с сигареты. Бросить какую-то случайную фразу, лихо сострить, «сорваться на английский», как у нас говорили, казалось особым шиком. Однако подобные попытки часто кончались полным конфузом. Помню, как одна наша студентка завершила свою шутку звонким: «Isn't you?» Все засмеялись, но не остроте, а ошибке, позорной, невозможной в стенах языкового вуза. Но… «и невозможное возможно». Блистая высокопарными, сложными и весьма книжными фразами, взятыми из учебников и книг по домашнему чтению, мы вряд ли могли без затруднения попросить поставить чайник или отреагировать на элементарное «спасибо». Вот откуда брались учителя, подобные той, с которой я по окончании института работала в спецшколе. Однажды к ней на урок пришли гости из Австралии. Уходя, они поблагодарили её сердечным «thank you», на которое она ответила не менее сердечным и совершенно русским «please». Тем не менее иняз весьма презрительно относился к МИМО[3]3
Московский институт международных отношений, ныне МГУМО.
[Закрыть], считая его на порядок ниже и рассказывая о нём уничижительные анекдоты. Хотя бы такой: диалог между двумя прохожими в Нью-Йорке: «Which watch?» – «Five clocks». – «Such much?!» – «МИМО?» – «МИМО!»
Наверное, иняз действительно учил более рафинированному языку и давал более широкое и серьезное лингвистическое образование. Нам читали курс по истории языка, языкознанию, фонетике, психологии, литературе. Правда, нас также пичкали истматом, диаматом, историей партии. Много времени уходило на педагогику и практику в школе, которую я принимала, как горькое лекарство. Но что было делать? Я училась на педагогическом отделении. На переводческий тогда девочек не брали. И все же никакие истматы, никакая практика в школе, никакие изъяны в обучении не могли помешать овладеть языком тому, кто этого действительно хотел. Помню студентов старших курсов, с которыми была на целине. Помню, с каким восторгом я следила за их состязанием в синхронном переводе, когда один быстро читал весьма сложный русский текст, а другой столь же быстро вторил ему по-английски. Несмотря на некоторый академизм преподавания и явный дефицит живой разговорной речи, за пять институтских лет можно было многому научиться. Хотя бы тем необычным способом, каким когда-то учился наш преподаватель Венгеров. Говорят, что он, будучи студентом, часто приходил в преподавательское общежитие в Петроверигском и, отловив кого-нибудь из native speakers (англоязычных), просил разрешения тихонечко посидеть в углу и послушать живую речь. Так он погружался в естественную языковую среду.
Я тоже одно время регулярно посещала общежитие в Петроверигском. Этот факт достоин упоминания лишь потому, что ездила я туда с единственной целью – брать частные уроки у старого преподавателя нашего института Фридмана. И происходило это тогда, когда я уже окончила иняз и считалась дипломированным специалистом. Бедный славный Фридман испытывал страшные муки, занимаясь со мной. «Да вы всё знаете, – говорил он. – Ну зачем вам это? Я не могу брать с вас денег. Вы сами можете давать уроки». Но я была непреклонна и терзала старика целый год. Такие приступы случались со мной и позже, и тогда я принималась ездить через всю Москву, чтобы брать уроки у своих бывших преподавателей. Но это всё потом. А в годы, предназначенные для учёбы, я не только не лезла из кожи вон, но даже не отличалась особым прилежанием. Однажды после урока по домашнему чтению (мы тогда читали «Трое в лодке» Джером Джерома) молодая симпатичная преподавательница подозвала меня и деликатно попросила не смеяться так откровенно на уроке, читая заданную на дом главу. «Ведь сразу видно, что вы только что открыли книгу». Нет, я не была плохой студенткой, но всё делала от сель до сель: учила требуемый список выражений, грамматику, статьи из «Moscow News», политический словарь. Иногда в период очередного наплыва чувств к английскому сидела в лингафонном кабинете, слушая отрывки из классики в исполнении английских актёров и чтецов и даже запоминала кое-что наизусть. Например, знаменитое «Bells» Эдгара По или не помню чьё стихотворение, начинающееся словами: «Do you remember an inn, Miranda? Do you remember an inn?» Но всё это было как во сне. Слишком много другого происходило со мной в те годы: дружба навеки, любовь до гроба, крах того и другого, да ещё этот постоянный поиск смысла жизни. Ну не в изучении языка же он, в самом-то деле. Так всё и шло, пока не случилось нечто, заставившее меня очнуться. На одном из старших курсов, подойдя к преподавательнице, чтобы попросить её поставить подпись под каким-то документом, я вдруг поняла, что не знаю, как это сказать по-английски. Испытав чувство физического к себе отвращения, я решила немедленно начать новую жизнь.
И начала. Следуя примеру некоторых моих однокурсников, принялась охотиться на живых носителей языка, чтоб, устранив дефицит живой разговорной речи, общаться с ними в неформальной обстановке. Моей первой добычей стала сестра знаменитого скрипача Иегуди Менухина, пианистка, приехавшая вместе с ним на гастроли. Муж этой дамы имел собственную психиатрическую клинику не то в Штатах, не то в Англии, и она попросила меня сопровождать её в одну из московских психбольниц, где ей обещали встречу с главным врачом. Войдя в больницу, не помню какую, мы были сразу же остановлены грубым окриком. Некто в белом халате принялся на нас орать, заявив, что мы вошли не в ту дверь. Моя спутница заволновалась: «What does he want? What does he want?» (Что он хочет?) Услышав английскую речь, бедняга замер с открытым ртом. Воспользовавшись паузой, я объяснила ему, кто мы и зачем пришли. Дальше всё происходило, как в плохом кино: кланяясь и улыбаясь, человек в белом халате повёл нас в кабинет главного врача. Он преобразился столь стремительно, что на него было больно смотреть. «How nasty, – твердила гостья, следуя за нами. – It's all because I am a foreigner. How nasty!» (До чего противно! Это всё из-за того, что я иностранка.)
Следующей моей добычей была американская чета, приехавшая на международный онкологический конгресс: хирург Норман и его жена Милдред. Я познакомилась с ними, регистрируя участников конгресса в гостинице «Украина». Миниатюрная маленькая Милдред постоянно рассказывала о своих четырёх детях, а долговязый Норман, увешанный фото– и киноаппаратами, хотел знать всё. Заметив возле Белорусского вокзала бабулю с огромным грузом на спине, потребовал: «Лариса, пойдите и спросите, что у неё в мешке». И был очень разочарован, когда я сказала, что это неудобно. Увидев спящего на улице пьяного, достал фотоаппарат и попытался его сфотографировать, чем вызвал праведный гнев патриотически настроенных прохожих. К моему великому смущению, шнуруя башмак, он поставил ногу на сиденье автобуса, а к моему восторгу, удивительно чисто и красиво насвистывал фортепьянный концерт Грига и разную прочую классику. Когда мы прощались, они оба признались, что, не понимая, как можно работать бесплатно, поначалу опасались не из КГБ ли я. Однако, узнав меня получше, успокоились. Расстались мы большими друзьями, и несколько лет к ряду я получала от них рождественские фотокарточки всей семьи и собаки. Но это всё были встречи кратковременные и мимолётные.
Самым значительным событием в моей «английской» жизни оказалась работа на британской торговой выставке в Сокольниках в 1961 году. Это была моя первая официально оформленная деятельность, за которую по истечении двух недель я даже получила зарплату. Придя на стенд с надписью «Электроника», я оказалась в обществе очень милых джентльменов. Помню трёх: длинного худого Джефа, изящного мистера Виллоуби и плотного пожилого господина семитского вида. Сентиментальный Джеф без конца всему умилялся: то берёзам в парке, то голубям возле университета, то моей косе. Маленький, в добротной серой тройке и с трубкой во рту, мистер Виллоуби был постоянно одержим желанием попутешествовать по России и заворожённо твердил: «Омск, Томск, Минск». Эта страсть привела его однажды на Белорусский вокзал, где он, поддавшись дорожной лихорадке, сел в электричку и проехал несколько остановок. О своём приключении он рассказывал с гордостью десятилетнего мальчика, сбежавшего из дома. Пожилой джентельмен семитского вида всё время пытался со мной уединиться, чтоб выяснить, как живут евреи в СССР. Однажды ему удалось загнать меня в угол и закрыть собой все пути к отступлению: «Говорят, у вас в стране сильный антисемитизм. Говорят, евреям трудно получить высшее образование. Это так?» «Но вы же видите, – ответила я, пытаясь выбраться из засады, – я же учусь». И тут раздался насмешливый голос мистера Виллоуби: «Russian girls know all the answers». (Русские девушки знают ответы на все вопросы.)
Однажды, раздавая буклеты посетителям выставки, я заметила на себе чей-то внимательный взгляд. Думая, что человек ждёт буклета, подошла к нему и услышала отчётливый шёпот: «Вас будут ждать в шесть пятнадцать на скамейке возле павильона». Не вполне осознав, что случилось, я поняла, что ослушаться нельзя, и ровно в шесть пятнадцать была в указанном месте.
К великому моему изумлению на скамейке сидел Толя Агапов, наш недавний выпускник, с которым три года назад мы были вместе на целине. У меня отлегло от сердца: добродушный, широколицый, с ямочками на щеках, улыбчивый Толя вряд ли мог представлять опасность. Он и правда говорил со мной дружески и, как мне казалось, откровенно. Выяснилось, что Толя по распределению попал в КГБ и, сидя со мной на скамейке, выполнял свои прямые обязанности. Он расспрашивал меня о «моих» англичанах: о чем говорим, куда ходим. Когда я забыла упомянуть прогулку с Джефом на Ленинские горы, он мне о ней напомнил. «Раз ты и так всё знаешь, зачем же спрашивать?» – удивилась я. «Затем, чтобы ты чувствовала ответственность», – без улыбки пояснил он. «А вообще будь осторожна. Это же такое дело… ещё влипнешь», – понизив голос доверительно сообщил Толя. Несколько лет спустя я узнала, что он сперва запил, а потом покончил с собой. Самоубийство никак не вязалось с его обликом. Видимо, работа в органах не вязалась с ним ещё больше.
В день закрытия выставки меня вызвали в специальную комнату и велели написать отчет, то есть письменно изложить то, что я прежде рассказала Толе. «О великий могучий русский язык» язык родного КГБ, ревниво оберегавшего меня от слишком активного общения по-английски. «О великий могучий», на который требовалось перевести незамысловатые английские диалоги. Подобный опыт сильно охладил мой пыл и поубавил желания общаться с англоязычными. И все же работа на выставке стала моей первой настоящей встречей с английским. Я увидела, что на этом языке острят, грустят, сентиментальничают, заказывают еду в кафе, восторгаются балетом, рассказывают о семье и кошке. Причём вовсе не по тем скучным матрицам из наших учебников. И не на старомодном, хоть и красивом английском Диккенса и Голсуорси, которых мы штудировали на уроке. Существовал живой язык, и я с головой в него окунулась.
Воспоминания об этом были столь яркими, что спустя восемь лет я, несмотря ни на что, снова согласилась поработать в Сокольниках. Мне позвонили и сказали, что срочно требуется переводчица на уже открывшуюся международную выставку. На следующий же день я была в знакомом парке и в знакомом павильоне. Но, как известно, нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. На сей раз моим хозяином, именно хозяином, оказался молодой, высокий, плечистый немец, живущий в Штатах и представляющий американскую фирму. Он встретил меня весьма сухо и, коротко ознакомив с экспонатами, сел читать газету. Каждое трудовое утро начиналось с того, что мой хозяин с брезгливым видом проводил пальцем по столу и аппаратуре и подносил палец к моим глазам. Убедившись, что я не собираюсь делать надлежащих выводов, наконец, изрёк: «Лариса, в ваши обязанности входит вытирать пыль, подметать и готовить кофе». Попроси он иначе, я бы, может, и согласилась, но этот тон… «Меня прислали сюда как переводчицу», – ответила я. «Кто прислал? КГБ? – вскинулся он. – Одну убрали – проштрафилась, плохо доносила. Вместо неё прислали другую. Будете отрицать?» «Я и не знала, что пришла на чьё-то место», – начала я, но поняла, что оправдываться бесполезно. А он продолжал, всё больше распаляясь: «Скажете, в этих стенах нет микрофонов? Нам всё объяснили, когда мы сюда ехали. Раз, два, три, четыре, пять!.. – неожиданно закричал он, оглядывая потолки и стены. – Я не хочу в вашу Сибирь. Слышите? Я вас не боюсь. – И снова обращаясь ко мне: – Почему вы разрешили вашему правительству ввести в Чехословакию войска?» «Меня никто не спрашивал», – ответила я. «Надо, чтоб спрашивал», – парировал он. «А вас спрашивали, когда в Германии уничтожали евреев?» Он осёкся и, помолчав, мрачно сказал: «The nation went mad». (Народ сошёл с ума.)
Было видно, что мой вопрос его задел. Он стал объяснять, что, хотя тогда и не жил, на нём тоже лежит груз вины, который невозможно сбросить. С этого дня мой немец стал со мной немного любезней, разговорчивей и даже изредка позволял себе улыбнуться. Тем не менее, каждое утро приветствовал меня одним и тем же вопросом: «Writing reports?» (Пишете отчёты?)
Что касается этих самых «reports», то мне не пришлось их писать до самого последнего дня. «Почему от вас не поступило ни единого отчёта?» – осведомились у меня, пригласив в ту же комнату, где я была в 1961-м. «Но мне никто не говорил», – ответила я. И это было чистой правдой: я появилась на выставке с опозданием, и со мной позабыли провести инструктаж. Так что мой единственный отчёт состоял из краткой информации о фирме, её экспонатах и её представителях.
Пока я писала, в комнату вбежала переводчица с соседнего стенда. Ее щёки пылали, на глазах были слёзы, а в дрожащей руке – лист бумаги. Из её сбивчивого рассказа я поняла, что к ней на стенд подбросили письмо с просьбой о политическом убежище. Все оживились, задвигались, кто– то вышел, кто-то вошёл, куда-то позвонили. Я поспешила поставить точку и исчезнуть. «Всё. С выставками покончено, – решила я. – И на что они мне дались? Мало ли других возможностей?»
Через год или два я познакомилась с двумя очень милыми англичанками-аспирантками моего старшего друга – ленинградского профессора В. А. Майнулова. Одну звали Цинция, другую Венди. Цинция занималась Волошиным, а Венди – Багрицким. Цинция ленилась говорить по-русски и с облегчением переходила на английский, а трудолюбивая Венди пользовалась малейшей возможностью поупражняться в русском. Я подружилась с обеими. Цинция уехала раньше, а Венди пробыла ещё несколько месяцев. Она охотно приходила ко мне в гости и приезжала на дачу в Востряково. Дружба с ней была для меня подарком. Впервые я могла говорить не просто с живым носителем языка, но с человеком, близким по интересам. Наконец-то я получила возможность беседовать по-английски (мы договорились часть времени говорить на русском, часть – на английском) о том, что меня действительно волновало: о литературе, театре, образовании, традициях.
Но, к великому сожалению, и этот опыт кончился плачевно. Моего мужа неожиданно вызвали на работе в Первый отдел, где огромный молодой человек – Эдик с Лубянки, объяснив, что Венди не просто аспирантка, очень настойчиво «попросил» контакты не прекращать и обо всём сообщать им. Нам оставалось одно: немедленно предупредить нашу знакомую, что она в чёрном списке. Но как это сделать? Всюду глаза и уши. Наконец мне явилась счастливая мысль пригласить её туда, где она наверняка не была и где вряд ли нас будут подслушивать – в баню. Встретившись у кинотеатра «Метрополь», мы отправились в Центральные бани. «Блестящая идея», – хвалила я себя, входя внутрь. Но в раздевалке рядом с нами пристроилась моложавая блондинка, которая, как мне казалось, ловила каждое наше слово (чтоб не привлекать к себе излишнего внимания мы говорили по-русски). Это меня насторожило, и я решила отложить важное сообщение до парной. Но и в парилке разговора не получилось. Моя гостья, ошеломлённая жаром, паром, видом распаренных тел и шлёпающих по ним веников, побледнела и стала медленно оседать. Я подхватила её и вывела прочь. Усадив бедную девушку на скамью и дав ей немного отдышаться, я ошеломила её ещё раз, и куда сильнее, чем прежде. Слушая мой рассказ, она потрясённо повторяла лишь одно: «No, oh no». Потом на возбуждённом и торопливом английском, принялась шёпотом переспрашивать, благодарить и сокрушаться: «Значит, меня больше сюда не пустят, никогда не пустят». Мы тепло простились, понимая, что прощаемся навсегда. И лишь недавно, двадцать два года спустя мы снова случайно нашли друг друга. Я получила от Венди длинное и подробное письмо, в котором она сообщала, что преподаёт русский в Ноттингемском университете, пишет статьи и книги о русской литературе, среди них – книга о поэзии Анны Ахматовой, прекрасно помнит наши беседы и прогулки в Востряковском лесу, моего трёхлетнего сына и ленивые вареники моей гостеприимной бабушки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































