Текст книги "Золотая симфония"
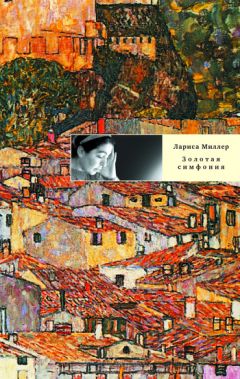
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Прежде чем отпустить восемнадцатилетнего заморыша на целину, мама решила его подкормить. Прослышав, что в Литве есть райский уголок по имени Паланга, мама побежала за билетами. Ночь в дороге – и мы в раю, в маленьком курортном городке местного значения. Кругом звучала нерусская речь. «Это литовский?» «Наверное», – ответила мама. Нет. Это не только литовский. Слышу знакомые интонации, но слов не понимаю. Идиш. Конечно же, идиш, к которому прибегали бабушка с дедушкой, когда не хотели, чтоб я понимала. В городке звучали идиш и литовский. И лишь изредка русский. О Паланге в России тогда почти не знали. С трудом объяснившись с пожилой литовкой, мы сняли у неё комнату на двадцать дней и побежали к морю. Жёлтый песчаный пляж. «Дюны», – сказала мама. Тихое, тихое море, в котором почти никто не купался. Я разделась и вошла в воду. Вода – ледяная, дно – песчаное. Я долго, долго шла и наконец решилась лечь на живот и немного проплыть, ударяясь коленками о песок. Для меня, привыкшей к Чёрному морю, это было не купанье. Но зато можно было валяться в дюнах и гулять в огромном зелёном парке.
Решив подкормить ребёнка, мама рано утром убегала на охоту и возвращалась с добычей: сырками, диковинными бутылочками разной величины, в которых были сливки, простокваша, молоко шоколадное, топлёное, простое. Но и этого ей было мало. Она узнала, что существует некий частный пансион, где кормят обедами, и в назначенный час мы вошли в просторную комнату, где пахло так, что голова кружилась. Кругом звучал идиш. Две пожилые женщины разносили еду: румяные блинчики, компот, рыбу. Одна из подавальщиц подошла к нашему столику и обратилась к нам на идише. «Простите, мы не знаем идиша. Мы из Москвы», – объяснила мама. «Из Москвы? Какие же вы евреи. Вы – гоим. Я вам ничего не дам. Это еврейский пансион». «Но принесите хотя бы дочке. Она голодная», – взмолилась мама. Подошла вторая подавальщица и, тихонько посовещавшись с первой, принесла нам еду. Больше мы туда не ходили. О, как часто вспоминала я на целине палангские бутылочки с разнообразным молоком и румяные блинчики в негостеприимном пансионе.
«НЕ ПИЩАТЬ!» – крупными буквами написано на нашем вагоне. Эшелон, ожидавший нас на Рижской-товарной, казался бесконечным. Меня провожали мама и Натан, который тащил мой рюкзак. На рюкзаке, как в детсадовскую эпоху, была нашивка с фамилией: на институтском собрании будущих целинников нам велели пометить вещи. Возле вагонов плескалось море людей: играли на гитаре, пели, обнимались, плакали. Мама изо всех сил старалась держаться, но когда кто-то по соседству жалостливо сказал: «И куда таких детей гонят?» – она заплакала и уже не могла остановиться. Наконец дали команду «По вагонам!», и мы полезли в свои теплушки. Задвинули огромные щиты, и эшелон тронулся. В вагоне было почти темно. Только у самого потолка гнездились узкие оконца, к которым ринулись все, пытаясь увидеть своих. Встав на какую-то выемку в стене, я тоже на мгновение пробилась к свету и вдалеке увидела маму: она бежала, плакала и что-то кричала. За ней шёл Натан с поднятой рукой. Я попыталась помахать в ответ, но сорвалась с выемки, на которой стояла. Когда глаза привыкли к полумраку, стало ясно, что в вагоне три ряда нар. Я почему-то устроилась под самым потолком, где было душно и снились кошмары. На второй день пути нам надоела темнота, мы отодвинули щит, и в вагон хлынул свет. Перед глазами поплыли поля, леса, посёлки. Всеобщее внимание привлёк густо заросший холм, на склоне которого почему-то полыхало несметное множество костров. Тревожное и величественное зрелище. Многие ребята целый день сидели на краю вагона, свесив ноги. Состав то мчался, то еле полз, то подолгу стоял среди цветущих лугов, и тогда мы спрыгивали с поезда и бежали собирать букеты цветов, похожих на подмосковные: но эти были ярче, крупнее, первобытнее. К сожалению, наша лафа скоро кончилась. Пришло начальство и приказало поставить щиты на место. Оказывается, в одном из вагонов произошло ЧП: кому-то встречным поездом оторвало ногу. Об этом несчастном случае, как и обо всех последующих (а их на целине было немало), всегда говорилось глухо, и имён пострадавших не называли. Состав был огромным. В нём ехали студенты разных факультетов и курсов нашего иняза, а может, и других вузов. Все пять дней пути мы жили странной, ни на что не похожей жизнью. В полумраке вагона перестало существовать время. Мы не знали, где едем, когда остановимся и скоро ли тронемся снова. Однажды нас подняли среди ночи, велели взять миски и ложки и повели кормить. Спотыкаясь спросонья, хмурые и молчаливые, мы пришли в пустую столовую казарменного типа, где нам накидали в миски макарон с жилистым мясом, а в кружки плеснули компота. В следующую ночь нас разбудил чей-то вопль: «Урал!» Загрохотали щиты, и все посыпались из вагонов. Было почти темно. Не разбирая дороги, мы бежали туда, где чернела река. Вот и Урал. Не помню ни берегов, ни самой реки. Никаких зрительных впечатлений не осталось, только ощущение мощного потока ледяной воды. Окунувшись, я испытала восторг и ужас: ночь, чужие края, быстрое течение, из которого трудно выбраться. В воду кидались в чём попало: кто в трусах, кто в штанах и свитере. «По вагонам!» – закричали с берега, и все ринулись обратно. В вагоне долго переодевались, в полной темноте роясь в вещах и стуча зубами.
Не помню, в какой географической точке мы с подружкой попали в избу, где нас угостили кислым молоком и домашним хлебом. Перед тем как усадить за стол, хозяйка в цветном переднике повела нас к бочке, из которой узорчатым черпаком набрала воду и плеснула нам на руки. Потом протянула вышитое полотенце. «Рушничок», – сказала она. Так я впервые услышала это ласковое слово. Возвращаясь к поезду, мы заблудились и оказались меж двух чужих эшелонов. В одном из них ехали пэтэушники, которых в те годы называли ремесленниками. «Эй, лови девок», – услышали мы. Парни засвистели, забегали. Один схватил нас за руки, другой поставил подножку. Мы повернули назад, но путь назад был тоже отрезан. Я изо всех сил дёрнула подругу за руку, и, не помня себя, мы нырнули под поезд. На это надо было решиться: целинные поезда были непредсказуемы и могли тронуться в любую секунду. Вынырнув с другой стороны, мы бросились искать своих. Вот и знакомые лица. Какие все хорошие, добрые, милые. Ввалившись в вагон, мы рухнули на нары, корчась от смеха и почти плача. На нас удивлённо смотрели, но мы не могли остановиться.
На шестые сутки приехали. Нас встречали грузовики. На один погрузили вещи: рюкзаки, мешки с воблой, тушёнкой и брикетами киселя. В другой сели сами. Дорога была ухабистой, и так подбрасывало, что казалось, ещё немного – и выбросит совсем. Крепко держась за скамейку и щурясь от сильного ветра, мы орали песни:
Я не знаю, где встретиться
Нам придётся с тобой.
Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой.
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы…
Наконец мы дома: в бескрайней степи стоит огромная, человек на сто, палатка, разделённая пополам. Одна половина – для мальчиков, другая, за тонкой перегородкой, – для девочек. Я оказалась между перегородкой и своей однокурсницей, которая ночами громко храпела. Когда же однажды она на моих глазах поймала курицу и свернула ей шею, чтоб после сварить, этот храп стал казаться мне особенно зловещим.
Итак, на три с половиной месяца у меня появился новый адрес: «Сев. Казахстан, Кокчетавская обл., Красноармейский р-н, п/о Большой Изюм, Таинча, разъезд № 11, элеватор». И всё это означало – бесконечная степь, ковыль, полынь, постоянно меняющиеся небесные краски, которые можно было наблюдать во всех подробностях. Что я и делала, так как мало спала, но подолгу бродила ночами. К тому же не одна, а со своим однокурсником, с которым впервые разговорилась в поезде, а подружилась на 11-м разъезде. «Сделай доброе дело, погуляй со мной», – сказала я ему в один из первых вечеров. На работу нас ещё не гоняли. В палатке было тоскливо, читать не хотелось, и я чувствовала себя одинокой и неприкаянной. Мы бродили в степи. Ковыль клонился от ветра, пахло полынью, которую я срывала и нюхала, потерев между ладонями. Говорили без умолку. Оказалось, что в Москве у нас много общих знакомых, что в его доме живут наши близкие друзья, что мы любим одну и ту же музыку, одни и те же книги. Одним словом, не могли не встретиться.
Look, Look, Look at the stars above,
Look, Look at my sweetest Love,
Oh, dear, give me a night in June, I mean it…
Я пела эту старую английскую песенку, а он смотрел на меня сияющими голубыми глазами и смеялся. «Спой ещё раз. Ты так смешно произносишь: «Look, Look, Look.»» Разлучала нас только работа. Первое время, когда зерна на элеваторе ещё не было, нас посылали в колхоз полоть морковку. Увозили рано утром, привозили вечером. Обед наш состоял из тарелки молочного супа с вермишелью и кружки молока. К концу недели очень захотелось есть. Прослышав, что в Таинче, до которой, по слухам, было 25 километров, в столовой кормят бесподобными сливками, мы с подружкой надели резиновые сапоги на босу ногу (чтоб было не так жарко) и отправились. Шли семь часов, в кровь стёрли ноги, под конец разулись и пришли в столовую босиком. В столовой было пусто. Взяв по стакану сливок, мы выбрали уютное место между окном с тюлевой занавеской и чудовищной копией с шишкинских мишек. Ноги гудели, в животе было пусто, растягивая удовольствие, мы неторопливо окунули алюминиевые ложечки в пышную белую массу и, не спеша, облизнули. М-м-м, какая вкуснота. Ещё ложка, ещё и ещё. Надо сделать перерыв. После перерыва попробовали продолжить, но вскоре остановились. «Жирные сливки», – сказал я. «Да, слишком густые», – согласилась подруга. Мы смотрели на наши, потерявшие всякую привлекательность сливки и не знали, что с ними делать. Оставлять обидно. И с собой не унесёшь: не было подходящей тары. Стараясь, чтоб нас не увидела тётенька из раздаточной, мы, прихрамывая, выползли из столовой. Обратный путь казался неодолимым: топать босиком те же 25 километров без мощного стимула не было сил. Выйдя на дорогу, проголосовали. Остановился грузовик. За рулём сидел молодой весёлый парень. Мы плюхнулись рядом с ним в кабину и с облегчением вздохнули: слава богу, довезёт. Но не тут-то было: от парня несло спиртным, а машину страшно мотало. Мы попросили его остановиться, но он нажал на газ и рванул с ещё большей скоростью. Только когда подруга начала на ходу открывать дверцу, он резко затормозил. «Дуры! – кричал он нам вслед. – Психички!» Но часть пути мы всё– таки проехали. Домой приползли затемно.
Вскоре пошло зерно, и началась работа. Работали в три смены. В нужный час собирались у конторы, и нас разводили по сушилкам, к которым подъезжали машины с зерном. В самый бойкий период грузовики шли непрерывным потоком: едва успевали разгрузить одну машину, подъезжала другая, за ней третья и так без конца. А назавтра всё сначала: проснулся, натянул сапоги с налипшим внутри зерном, надел телогрейку, взял рабочие рукавицы – и на элеватор. Вот твоя сушилка, твой бесконечный ряд машин, и начинается обычная процедура. В руки – плицу (большой совок для разгрузки зерна), ногу – на колесо, другую – за борт, и пошёл махать плицей, пока не выбросишь из кузова всё зерно, которое тут же попадало на ленту транспортёра и, перелопаченное специальной острой лопастью, отправлялось на сушилку. Шофёры тем временем дремали в сторонке. В страдную пору им приходилось работать круглые сутки, и они пользовались любой возможностью немного отдохнуть. Мы относились к грузовикам как к живым существам: этот – любимый, этот – никакой, а этот – ненавистный. «Никакой» – это обычный грузовик, «любимый» – самосвал, который разгружается сам, без нашей помощи. «Ненавистный» – самосвал с изъяном, когда кузов поднимается недостаточно высоко, чтоб саморазгрузиться, но слишком высоко для того, чтобы устоять в нём. Тем более что полы в самосвалах скользкие. Стоишь в кузове, машешь плицей, а сам постепенно соскальзываешь вниз и вот-вот рухнешь под транспортёр, под его острую лопасть. Прошёл слух, что в Таинче именно так и случилось с кем-то из студентов. Как всегда всё было глухо. Однажды я работала в паре с длинным тощим парнем, который, соскальзывая с дефективного самосвала, цеплялся за меня и приговаривал: «Ой, мамочки, падаю, ой, Ларисочка, держи». А ночью в палатке он кричал. Наверное, ему снились самосвалы. К концу рабочего дня я не чувствовала ни рук, ни ног, ни спины. Но стоило немного отдохнуть, и откуда-то брались силы на прогулки и даже на кино, до которого надо было пилить несколько километров по степи – оно находилось в соседней деревне. Что это было за кино! Одна афиша чего стоила – ошибки чуть ли не в каждом слове «ФОМФАРЫ ЛЮБВИ», «ЗОЛОТАЯ СИНФОНИЯ». Помню, что буквы на афише были все крупные и цветные. Перед сеансом – танцы. Местные парни в длинных пиджаках и кепках прижимали к себе подруг и, активно работая оттопыренным локтем, с серьёзным, почти застывшим лицом резво двигались по тесному предбаннику, усыпанному шелухой от семечек. Семечки лузгали все: и танцующие, и стоящие у стенки. Их лузгали и во время сеанса. Чем увлекательнее сюжет, тем быстрее работали челюсти. А фильмы были похожи на сон, на сладкую грёзу. Смутно вспоминаю какой-то зимний горный курорт, богатый отель, счастливую любовь, юную красавицу на фигурных коньках, делающую немыслимые пируэты на голубом льду. А музыка! Под какую пленительную музыку шла эта пленительная жизнь. Скинув сапоги и расстегнув телогрейки, мы с моим другом сидели в тесном деревенском кинотеатре и, замерев, глядели на экран. Да, именно такое кино нужно было показывать на 11-м разъезде. Оно было про нас. И неважно, что фильм – иностранный. Всё равно он был про нас, про ту жизнь, которая начнётся, как только вернёмся в Москву. Московские улицы, голубые троллейбусы, парк Сокольники, возле которого учились, газовая колонка в коммуналке, горячий душ, бабушкина жареная картошка – всё это такая же далёкая мечта и золотая симфония, как экранная страна горных курортов, шикарных отелей и пируэтов на льду.
В кромешной темноте возвращаясь из кино, мы неожиданно услышали позади себя рёв мотора и чьи-то крики. Вскоре темноту осветили фары. Свет фар был шальным, неровным. Когда машина приблизилась, мы поняли, что в кузове люди, которые кричали и барабанили по кабине, пытаясь остановить пьяного шофёра. Обезумевший грузовик, ревя и мотаясь из стороны в сторону, неумолимо приближался. Деваться было некуда. Слева и справа заборы. Между ними узкая дорожка. Мой друг прижал меня к забору и загородил собой. Машина проехала почти вплотную. След колёс был возле самых его ног. Через некоторое время раздался грохот, и мотор заглох. Подойдя ближе, мы увидели разрушенный сарай и окруживших кабину пассажиров. У меня так дрожали ноги, что я едва дошла до дому.
К тому времени, а это, наверное, уже был сентябрь, нас расселили по домам. Мы, восемь девочек, жили в доме начальника элеватора Тюкавкина. Спали, не раздеваясь, на тюфяках на полу. Режим у всех был разный: одни работали утром, другие – днём, третьи – ночью. Когда работа начиналась в два часа ночи, нам стучала в окно предыдущая смена. Проснувшись, я первым делом пудрила в темноте нос, достав из-под подушки пудреницу. Эта процедура, наверное, заменяла мне умывание. Работая в ночную смену, я хронически не высыпалась, и к концу второй недели у меня начались слуховые галлюцинации. В хрипе и скрипе транспортёра мне чудились голоса близких. «Девочка», – звала мама. «Ларочка!» – кричала бабушка. В ту ночь я работала совсем одна, и мне стало страшно. Иногда удавалось вздремнуть в конторе, где была большая белая печка, к которой могли привалиться сразу несколько человек. Однажды я проснулась оттого, что меня трясли за плечи. С трудом открыв глаза, я почувствовала, что спине горячо и пахнет гарью. «Горишь, горишь», – кричали мне. Я пыталась скинуть телогрейку, но пальцы не слушались. Мне помогли, и я увидела, что часть телогрейки выгорела. В выгоревшей телогрейке у меня стал совсем бывалый вид. Но тяжелее всего приходилось вкалывать, когда пошли поезда и началась разгрузка-погрузка. Влезешь в тёмный и душный, наполненный зерном поезд, и – плица за плицей – подбрасываешь зерно на транспортёр, по которому оно уходит на просушку. Целый день пашешь, а толку чуть. Один из наших пятикурсников так устал, что не заметил, как уснул в вагоне на куче зерна. Он работал на погрузке поезда, и зерно по транспортёру бежало внутрь вагона, где нужно было равномерно раскидывать его по всем углам. Пока он спал, зерно прибывало и прибывало. Когда вернулся с обеда напарник, он с трудом откопал погребённого друга, который был почти без сознания и кашлял кровью. Как ни странно, все эти ЧП не нарушали обычного хода нашей целинной жизни, то ли потому, что начальство всегда пыталось скрыть любое происшествие, то ли в силу нашего полудетского легкомыслия. Наверное, в силу того же легкомыслия, некоторые явления жизни почти не доходили до моего сознания. Мне не приходило в голову поинтересоваться, почему в тех краях жили чечены. И почему молодые чеченские парни грозились не отпустить живым ни одного москвича, почему они совершали набеги на нас? Они то на полном ходу заскакивали в палатку на велосипедах и проносились по ней, размахивая кнутом, то бросали в палатку камень с привязанной к нему бритвой.
Несколько раз я работала со своей однофамилицей – миловидной молодой женщиной. На мой удивлённый вопрос, откуда у неё такая фамилия, женщина ответила, что она немка с Поволжья. Мне этого вполне хватило, и не возникло ни малейшего желания узнать, почему и когда немцы оказались здесь, в Казахстане. Нет, меня в ту пору занимали совсем другие вещи: подолгу наблюдая за ночным и заревым небом, я научилась с точностью до нескольких минут определять время. Однажды, ещё в пору палаточной жизни, я и мой друг несли ночную вахту (ночные дежурства организовали из-за набегов чечен). Мы грели чайник на маленькой железной печурке, установленной возле палатки под открытым небом, заваривали чифирь и не спеша его попивали, сперва провожая, а потом встречая солнце.
«Ты знаешь, мне кажется, я люблю тебя, – сказал мне мой друг». – «А мне не кажется, я правда люблю тебя». Он робко прикоснулся губами к моим губам. Я засмеялась: «Целина – школа жизни».
За три с половиной целинных месяца я настолько успела привыкнуть к простору и воздуху, что, вернувшись в Москву, задыхалась. Мне не хватало неба, степных запахов, высоких трав. Я привезла с собой веточку сухой полыни, спрятала её в наволочке и ночами доставала и нюхала, тоскуя по степи и небу – молчаливым участникам бесконечных прогулок.
Кончились летние месяцы. О, как хотелось домой. Мы считали дни, полагая, что вот-вот уедем – и вдруг как гром средь ясного неба: остаёмся до середины октября. В Москву полетели отчаянные письма. Случайно бросив взгляд на письмо моей соседки по комнате, я увидела крупные, расплывшиеся от слёз буквы: «МАМА! КАТАСТРОФА! ОСТАЁМСЯ ДО НОЯБРЯ!» Жалея домашних, я написала довольно спокойное письмо, попросила прислать чего-нибудь вкусненького и, главное, моё голубое платье. Через некоторое время из Таинчи пришло извещение на посылку. За ней отправился наш однокурсник Женя. Его по состоянию здоровья сняли с работы на элеваторе и назначили почтальоном. Вернувшись с вечерней смены, я увидела посреди комнаты ящик и сидящего возле него Женю. Попросив у хозяйки что-нибудь острое, вскрыли посылку: там были фрукты, посланные мамой из Кисловодска. Мы разложили всё по кучкам: отдельно яблоки, груши, сливы. Предстояло всё это поделить на восемь частей. Нет, на девять, с учётом Жениной доли. Ночью мне снился мучительный сон: разрезание яблока на девять равных частей. Ещё через несколько дней пришла посылка с моим голубым платьем. Как было сладко, сняв с себя постылую рабочую робу, нырнуть в прохладный голубой шёлк! Нацепив платье, я отправилась в столовую, битком набитую нашим изголодавшимся народом: давали горячие булочки. У самой раздачи стоял мой друг, по сияющим глазам которого я поняла, что не зря мёрзла в лёгком платье. «Феноменально!» – воскликнул он. Не успев понять, относилось ли это восклицание ко мне или к булочкам, которые он только что получил, я увидела в его руках пустую тарелку, а на полу, в грязной жиже румяные булки. Все смеялись, но и сочувствовали. Булками мы в ту пору всё-таки объелись – нам их купили сразу несколько человек. А вообще, есть хотелось всё время. Тем более что давали одно и то же: манную кашу и макароны. Воблу, кисели и тушёнку мы съели ещё летом. Правда, я свою порцию тушёнки обменяла на кисели: банку тушёнки на пачку киселя. Потом мне сказали, что я продешевила, так как спокойно могла брать за банку тушёнки не одну, а несколько пачек плодово-ягодного. Как странно, тушёнка, которую я ненавидела, оказалась гораздо ценнее моего любимого киселя. Несмотря на усиленную физическую работу, я поправилась на три килограмма. Мой друг смеялся надо мной: «У тебя щёки сзади видно». Голубое платье я, кажется, надела всего один раз. Носить его было некуда. К тому же похолодало.
Где-то в начале сентября приехал наш комсомольский вождь – аспирант немецкого факультета. Он собрал нас в красном уголке. «Знаю, что многие недовольны задержкой. Что вас не устраивает?» – спросил он. «Домой хотим», – закричали с места. «Это не ответ. Давайте конкретней». – «Холодно в резиновых сапогах». «Так значит, всё упирается в утеплённые вещи, – произнёс вождь, сделав пометку в своем блокноте. – Что ещё?» Раздался нестройный хор голосов. «Не слышно. По одному». «Грузовики доски возят, – крикнул кто-то, – кладут их поперёк и летят как угорелые. Недавно одному парню чуть голову не снесло». «Хорошо. Запишем: ездят машины, срубают товарищей», – подытожил аспирант. «Каша надоела», – раздался голос. «Закупим воблы». Это нас убило. Раз собираются закупать воблу, значит, застряли надолго. А может, навсегда.
Пришло извещение, что меня вызывают на почту для разговора с Москвой. В назначенный час мы с моим другом отправились на почту, то есть в просторную избу, где работала одна-единственная девушка-телеграфистка. Ждали долго и почти потеряли надежду на разговор. И вдруг… Москва. Мамин голос. Вопросы, слёзы. «Как ты, что ты?» Ну что расскажешь за пять минут? «Лучше ты расскажи, как там в Москве. Натан? Что Натан? Он рядом с тобой? Нет, не надо давать ему трубку. Просто передай привет». Господи, я и думать о нём забыла. Как и о чём я могла говорить с ним отсюда, из этой новой жизни, когда рядом сидит мой друг, светловолосый, голубоглазый и порывистый. «Ты похож на Вана Клиберна», – сказала я ему однажды. Он просиял, и я поняла, что попала в точку. Позже, уже в Москве, принимая участие в институтских вечерах, мой друг стремительно, как Клиберн, выбегал на сцену и исполнял те же, что и он, «Грёзы любви». Знаменитый пианист был его кумиром.
Июнь, тополиный пух на улицах Москвы. Первый конкурс Чайковского, консерватория, вдохновенная игра молодого долговязого американца – всё это так недавно и так давно.
Однажды из чёрной тарелки, висевшей на воротах элеватора, донеслись звуки скрипки. Играл Давид Ойстрах. Открытие сезона в консерватории. Шёл холодный осенний дождик, а мы стояли под худой крышей заброшенного сарая, не в силах шевельнуться. Мой друг обнимал меня за плечи и, наклонившись к самому моему уху, тихонько подпевал скрипке. Неужели есть консерватория, метро, телефонные звонки, тихое вечернее чтение возле настольной лампы, горячий душ? Горячий душ – предел мечтаний.
Раз в неделю мы ходили в крошечную, почти игрушечную баньку. Одновременно помещалось там человек восемь. Остальные ждали: кто в тесном предбаннике, кто на ступеньках, кто на вольном воздухе. Одни болтали. Другие занимались делом: например, синхронным переводом. Наши пятикурсники любили устраивать конкурс на самый точный и быстрый устный перевод. Мы, салаги-второкурсники, с восхищением следили за этим турниром. Глядя, как один читает сложнейший текст по-русски, а другой почти одновременно с ним произносит то же самое по-английски, я клялась себе, что едва приеду в Москву, начну штурмовать науку: пойду в лингафонный кабинет, надену наушники, обложусь словарями и… начну шпарить, как они. «Good intentions, but…» (Благие намерения, но… – Л. М.) – как говорил наш милый, добрый, почти слепой преподаватель.
Существовала тайная причина, по которой я любила банный день. Дело в том, что у нас с моим другом была одна мочалка на двоих, и момент передачи её из рук в руки являлся молчаливым подтверждением того, что я и он – одно целое, раз даже мочалка у нас общая. А в остальном баня была для меня мукой. Зная заранее, что из-за духоты мне станет дурно, я занимала место у самой двери, чтоб, когда начнет темнеть в глазах, успеть выйти в предбанник. Так я ходила туда– сюда, и мытьё моё длилось долго. А о том, чтоб помыть в бане голову, и речи быть не могло. Раз я отправилась мыть волосы на речку. Речка была мелкой, узкой и прозрачной. Я встала на колени и опустила волосы в воду, а когда попробовала их намылить, то обнаружила в волосах сплошные утиные перья. Подняв голову, я увидела проплывающих мимо уток. Замотав голову полотенцем, я отправилась домой. На работу ходила в платке, а после работы принималась отвоевывать у перьев прядь за прядью. Теряя терпенье, я вырывала вместе с перьями волосы, и мои толстые косы становились всё тоньше и тоньше. Когда я приехала в Москву, бабушка ахнула. Мои длинные густые волосы были её гордостью. Наша семейная легенда гласила, что в войну, когда и без того забот хватало, бабушка сумела сохранить мои волосы: мыла их, расчесывала, заплетала. И вдруг такое зрелище. А я в 18 лет чувствовала себя ветераном труда: потеряла часть волос и приобрела хронический радикулит. Этому чувству суровой бывалости отвечал и целинный гимн, сочинённый на известный мотив старинного танго нашим однокурсником.
Я не знаю, когда в Москву вернёмся,
Но, скорее всего, мы здесь загнёмся.
Нас не спасут ни фталазолы, ни пургены.
Нас схоронят в степи, нас схоронят в степи аборигены.
Много наших крестов торчит над степью,
Ограждая поля угрюмой цепью.
И тихо вымолвил парторг, идя с погоста:
«К коммунизму дойти, к коммунизму дойти
не так уж просто».
Эту песню мы распевали и в наш последний целинный день, трясясь в грузовике по дороге на станцию, где нас ждал не товарный состав, а обычный пассажирский поезд. Мы ринулись по вагонам, и когда я, наконец, выбрала себе место, то обнаружила, что в спешке потеряла рюкзак. Глянув в окно, я увидела, что он одиноко стоит на перроне. Надо было срочно за ним бежать, но у меня не хватало решимости выйти из вагона: а вдруг поезд тронется, и я останусь. Мой друг стрелой выскочил на перрон, схватил рюкзак, и, едва ступил на подножку, мы поехали.
Мы ехали домой. В это трудно было поверить. Все завопили «ура» и бросились обниматься. Мечты начали сбываться сразу: нам выдали чистое бельё. Застелив свою постель, я залезла на вторую полку и стала смотреть в окно. Начиналась жизнь, от которой дух захватывало. А ещё я везла с собой деньги. Совсем небольшие, но самолично заработанные. Мне хотелось привезти их целиком, чтоб похвастаться дома, и потому за все три дня пути я не потратила ни копейки, питаясь исключительно сгущёнкой и белым хлебом. Мы с моим другом подолгу стояли в тамбуре, рисуя картинки будущей жизни.
Москва, как её ни ждали, возникла откуда ни возьмись. На перроне толпы встречающих. Цветы, крики, стучат в окно, тянут руки. Мелькнуло мамино лицо. Или мне показалось? Господи, никак не выбраться из вагона. На спине рюкзак, в руках сумка с остатками хлеба и сгущёнкой. Выхожу из вагона и сразу попадаю в объятья. «Девочка моя», – мама смеётся и плачет. «Ущипни меня», – прошу я. «Зачем?» – «Ущипни, чтоб я поняла, что это не сон». Кто-то, не помню кто, взял мой рюкзак, и мы двинулись по перрону. Оглянувшись, я встретилась глазами с моим другом, которого тоже тискали и тормошили его близкие. Ох, мы даже телефонами не обменялись. А на перроне опять звучало:
Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.
Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































