Текст книги "Золотая симфония"
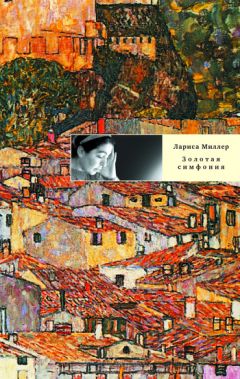
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Фея времён года
В чём она была тогда на сцене? Кажется, в чёрном трико. Гибкая, тонкая, она играла фею в спектакле «Времена Года», поставленном студией пластической драмы (не уверена, что студия называлась именно так). В спектакле звучала музыка Вивальди, которая нынче весьма популярна в американских супермаркетах, где, наверное, часто бывает Фея, переселившаяся в Штаты лет десять назад. Приятно ли ей постоянно слышать столь знакомую музыку? Вспоминает ли она конец семидесятых, когда играла на сцене популярной тогда студии пластики?
«Знаешь, я так устаю от всех своих нагрузок, что просто стоя сплю», – написала она мне из Штатов. Наверное, при такой усталости и вспоминать нет сил. Да и зачем вспоминать? Йоги считают это занятие бесплодным и бесполезным. Так предадимся же ему – этому бесполезному занятию, которое одно только и способно объяснить нам, что происходит внутри и вокруг нас. А потому я направляю луч памяти на сцену, где хрупкий принц тщетно пытается всучить красную розу очередному объекту своей любви: то сумасбродной, розовой, как поросёнок, принцессе, то похожей на фарфоровую куклу дочери китайского мандарина, то бесстрашной и бессердечной, закованной в латы воительнице. Зима сменяется весной, весна летом, лето осенью, а принц, всё страдает и странствует в поисках счастья, в упор не видя преданно любящую его Фею Времён Года. Вот она, вовлекая его в свой танец, снежным вихрем носится по сцене, вот медленно вращается в веночке из полевых цветов, вот, утягивая его за собой, неистово кружится, подобно гонимым ветром осенним листьям. А принц – он с ней и не с ней. С ней – потому что она – это снег, трава, листья. Не с ней – потому что это всего лишь снег, трава, листья, то есть некая данность, нечто само собой разумеющееся. Как она – Фея может убедить его в том, что и весенний хаос, и летнее многоцветье, и снежный вихрь – всё это ему, ему, от которого ей нужна самая малость: чтоб он подарил ей свою красную розу? Но этого никогда не случится, потому что он относится к ней как к погоде и, в очередной раз влюбляясь, рассеянно грызёт протянутую ему Феей травинку.
После спектакля моя спутница повела меня за кулисы знакомиться с Феей, которую хорошо знала. Я ожидала увидеть богемного вида примадонну, а увидела приветливую молодую женщину. Актриса, протянув мне руку, человечьим голосом сказала: «Марта». Мы похвалили спектакль и её игру. «Вам понравилось? Правда понравилось?» – радостно переспросила она. По коридору прошли ещё не успевшие разгримироваться аист с аистихой, в углу курили принц с китайским мандарином. Несли какие-то громоздкие коробки, приборы. Кто-то с кем-то о чём-то торопливо договаривался. «Вы, наверное, едва стоите на ногах. Не будем вас больше держать». – «Нет-нет. Я очень рада, что вы пришли. Мы обязательно увидимся. Я знаю, что вы пишете стихи, и очень хотела бы их почитать». – «Конечно, я подарю вам книжку». «Это Фея. Узнаёшь?» – спросила я сына, когда Марта впервые пришла к нам в гости. Сын смотрел на неё во все глаза. К тому времени я успела сводить на спектакль почти всех своих друзей и близких. Во мне непрерывно звучала музыка Вивальди, а теперь и сама Фея пожаловала. Она сидела в кресле и слушала мои стихи. «Хочешь, я пластически изображу какую-нибудь стихотворную строку? Мы это часто практикуем во время занятий. Скажи какую». «Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою», – предложила я. Марта встала, сбросила толстый свитер и, на секунду задумавшись, закрыла лицо руками. Потом откинулась назад, наклонилась вперёд и, наконец, медленно отведя руки от лица, устремила взгляд в пространство, в котором жил её (если бы её!) принц.
«Знаешь, – говорила она мне в одну из наших встреч, – я жить не хотела, когда он ушёл. В крайнем случае я готова была что-нибудь с собой сделать». Это «в крайнем случае» она употребляла к месту и не к месту. Родным её языком был литовский, и до восемнадцати лет она жила в маленьком литовском городке, где русская соседка, привязавшись к девочке, проводила в беседах с ней целые часы. Отсюда и беглый русский и почти полное отсутствие акцента. Разве что слегка редуцированные гласные и некоторые невпопад употребляемые слова. «Спасло меня только то, что я перешла в другую труппу, – говорила Марта. – Если бы осталась на прежнем месте и встречалась с ним каждый день. До сих пор не пойму, как я выжила. Знаешь, когда мы её впервые увидели – его теперешнюю жену, она ему активно не понравилась. Он всё приставал ко мне: «Что у неё с лицом? Почему у нее такая кожа? Она, что – рябая?» И я как дура её защищала: «Ну что ты хочешь? Чем она виновата? В крайнем случае не хуже других». И вдруг однажды как обухом по голове: «Знаешь, я ухожу к ней. Прости, но так получилось». Я выбежала из дома в чём была. Где ходила, что делала, как назад вернулась – ничего не помню. Не спала, не ела. Только курила. Сейчас уже легче – пять лет прошло. И всё же иногда сердце ноет, ноет, и тоска такая».
Как-то раз Марта позвала меня на прогон нового спектакля, где у неё была небольшая роль. Она играла мать скульптора, которая, сама того не желая, мешает ему жить, мучая своей неустанной заботой. Сын борется с ней, пытаясь освободиться от её мелочной опеки и чрезмерной любви, чтоб, освободившись. лепить её скульптуру. В каждом его движении одержимость и мощь. Изгнав мать, он заполняет ею свою жизнь и встаёт на колени перед завершённой скульптурой. Что это – позднее раскаяние, прозрение? Но окажись мать рядом, он, скорей всего, снова прогонит её. Ему необходима свобода от тесных уз и назойливой реальности, чтоб превратить эту реальность в произведение искусства.
Но какую бы роль Марта не играла, я видела в ней фею. Когда-то в одной французской книге я читала о женщине настолько гибкой и тонкой, что она походила на чёрточку. Готическая фигурка Марты в чёрном трико была такой чёрточкой, таким лёгким, летучим штрихом.
Однажды Марта взяла меня с собой на репетицию, которой предшествовала разминка. Продемонстрировав несколько движений, руководитель, щёлкнув пальцами, предлагал актёрам поменять позу. Щёлк – одна поза, щёлк – другая, щёлк – третья. Темп убыстряется, и движения, сменяя друг друга, сливаются в одно. Гибче, гибче, быстрее, легче, держите темп. А теперь глиссандо. И никакого залипания на одной ноте, всё летит, всё движется. Как в жизни. Щёлк – зима, щёлк – лето, щёлк – и Марта замужем. Вот уже и дочка родилась. Пройдёт несколько лет, и девочка станет такой же гибкой и длинноногой, как её мать. К тому же она окажется исключительно музыкальной. С ней будет заниматься музыкой бабушка, а позже, когда жизнь опять сделает «щёлк», человек, про которого Марта несколько высокопарно скажет мне: «Это мужчина моей жизни». Но щелчки судьбы – они ведь весьма болезненны. Щёлк – и «мужчина её жизни», измучив Марту перепадами настроения, приступами язвенной болезни, взаимоотношениями с прежними жёнами, уезжает на Запад. Он пишет ей оттуда и даже присылает деньги, но Марта одна. Нет, не одна. Теперь у неё дочь и щенок, который приблудился к ней во время каких-то гастролей. Он знал, что делал: ведь она – Фея Времён Года, то есть душа флоры и фауны.
Но фея ли она? Разве фея может перестать быть феей? Разве актёр может покинуть театр?
«Я больше не могу, – сказала она, – я стала истеричкой». – «Но как ты будешь жить без сцены?» – «Вот так и буду. В крайнем случае подлечу спину». Марта стала меняться на глазах. Из гибкой лозы она превратилась в даму с красивыми формами. Она перестала испытывать постоянный голод и хроническую усталость. Она начала печь пироги и готовить цепелины – картофельные оладьи с творогом, – фирменное литовское блюдо.
Однажды, когда мы сидели на её уютной кухне, по радио зазвучали «Времена года». Я в страхе посмотрела на Марту, ожидая взрыва эмоций, сама не знаю каких. Ведь это был голос прежней жизни, каторжной, безумной, но неповторимо яркой. К моему великому удивлению Марта продолжала спокойно чистить картошку. «Узнаёшь?» – спросила я, кивнув на приёмник. «Конечно, – ответила она ровным голосом. – Здесь мы скользим, взявшись за руки, помнишь?» Как не помнить. Я смотрела этот спектакль несметное количество раз и помню всё: и бег, и скольжение, и весеннее ликование, и похороны аистихи, и. короче говоря, помню всё.
Как-то она позвонила мне почти ночью. «Прости, что я так поздно. Но ты знаешь, мой бывший муж собирается уезжать в Штаты и зовёт нас с собой. Он хочет, чтоб дочка была рядом с ним, и считает, что ей там будет лучше. Как ты думаешь, стоит ли мне всё это затевать? Он говорит, что поможет». – «Ну, если поможет.»
Нет, она не фея. Она – железная женщина. У неё стальные мышцы и сильные руки, которыми она будет драить полы и мыть лестницы в американских домах, чтоб обеспечить себя и дочку. Эти её сильные руки до сих пор помнит мой сын. Двадцать лет назад, когда мы вместе жили на даче, Марта вдруг схватила его, сунула под мышку и с диким гиканьем побежала по тропинке. Крепко зажатый и слегка придушенный малыш был абсолютно уверен, что его уносит баба-яга. Эта роль ей действительно отлично удавалась. Уйдя из театра, Марта организовала в своём доме детскую танцевальную студию и каждый год устраивала новогодние спектакли, в которых играла ведьму. Она так страшно хохотала, так вращала подведёнными глазами, так натурально летала на метле, что дети визжали от ужаса и восторга.
Из Штатов она прислала мне два или три письма. Писала, что много работает, но ни о чем не жалеет. «В крайнем случае, дочка Яна учится в хорошей школе, вполне овладела английским, танцует и занимается музыкой». В письмо были вложены фотографии: вот их дом на берегу океана, вот Яна в национальном костюме на празднике литовской общины. Вот они обе – мать и дочь. Кто из них Яна, кто Марта? Обе юные и стройные. Яна, Марта, Март, Январь – смена времён года, смена декораций, перемена участи.
Как-то ночью в нашей квартире раздался телефонный звонок. Звонила Марта. То ли она забыла, что у нас ночь, то ли вообще часов не наблюдала. К телефону подошёл сын, он не решился меня будить, зная, что я принимаю на ночь снотворное. Мы ещё раза два обменялись письмами и замолчали. Где она сейчас? Как – где? В самом надёжном месте – в моей памяти, вмещающей тьму разных образов, событий и времён. Там всё ещё длится тот беспросветный мартовский день, когда умерла моя мама. Марта приехала ко мне и, не говоря ни слова, не пытаясь ни утешить, ни отвлечь, обняла за плечи и по-деревенски, по-бабьи завыла. А мне ничего другого и не надо было. Я хотела только одного – выплакаться, и она дала мне такую возможность.
А вот мой день рождения, на который она пришла с букетом каких-то полупризрачных сухих трав и собственным рисунком, сделанным тушью. «Это – фантазия на тему твоего стихотворения. Угадай какого». Я долго всматривалась в переплетающиеся и расходящиеся абстрактные линии, но так и не угадала. Она дарила мне множество своих рисунков, которыми одно время сильно увлекалась. Все они напоминали её танец: удлинённые гибкие линии переплетались, расходились, свивались в кольцо, снова расходились. И как она может жить без танца, без сцены? Вот так и может. Она много чего может. Может, уехав из Литвы, обосноваться в Армении, потом в Москве, потом в Штатах. «Я, наверное, начисто лишена ностальгии, – говорила она. – Легко обживаюсь на новом месте. Я и в поезде могу жить. Повешу картины на стену, занавески на окна, брошу что-нибудь пёстрое на лежанку – и дома».
Кто же она? – Фея? Баба-яга? Железная женщина? И то, и другое, и третье. Зачем ей театр? Весь мир – театр, где у неё тьма ролей. Мне нравилось смотреть на Марту, когда она проводила разминку перед началом репетиции. Волевая, сильная, она звонко щёлкала пальцами, приказывая всем повторять за ней: щёлк – и она висит, как бельё на верёвке, щёлк – и тянется ввысь, как шпиль готического собора, щёлк – и кисти сжаты наручниками, щёлк – и становится темно от крыльев. Вон их сколько – больших, шуршащих. Ещё секунда, и полетим. Так её – судьбу. Так её, так её. Пусть знает, кто здесь хозяин. Нет никаких наручников – есть крылья. Нет ностальгии – есть свобода. Нет тоски, нет отчаяния. Есть амазонка с хлыстом, которая повелевает.
Глава V
«А если был июнь и день рожденья…»
Памяти Арсения Александровича Тарковского[6]6
Эссе было написано летом 1989 года, вскоре после смерти А. А. Тарковского.
[Закрыть]
В затонах остывают пароходы,
Чернильные загустевают воды,
Свинцовая темнеет белизна,
И если впрямь земля болеет нами,
То стала выздоравливать она —
Такие звёзды блещут над снегами,
Такая наступила тишина,
И, боже мой, из ледяного плена
Едва звучит последняя сирена[7]7
Арсений Тарковский, «Конец навигации». В советское время по цензурным соображениям вместо слов «боже мой» печатали «вот уже». – Л. М.
[Закрыть].
Эти стихи были так не похожи на все остальные, напечатанные на той же странице журнала «Москва» (не помню номера и года, но помню, что это было в начале шестидесятых). Всего одно маленькое стихотворение, над которым стояло имя неизвестного мне поэта: Арсений Тарковский. Стихи запомнились. Имя тоже. Когда я хотела записать только что сочинённые строки, я подкладывала под листок бумаги журнал с полюбившимся стихотворением. Для вдохновения. Я недавно начала писать стихи и по вечерам ходила на литобъединение при многотиражке «Знамя Строителя». Литобъединение собиралось на Сретенке в Даевом переулке. Там читали стихи, курили, спорили, кого-то возносили до небес, кого-то ругали, приглашали в гости мэтров. Но имя Тарковского никогда не звучало. Он был еще мало известен[8]8
В 1946 году после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» издание первой книги Тарковского было приостановлено, набор уничтожен.
[Закрыть].
В это время я услышала, что при Союзе писателей открылась студия молодых литераторов. Меня пригласили в эту студию, и я с радостью пошла. Организационное собрание происходило в малом зале Дома литераторов. Зал был набит битком. За длинным столом сидели писатели – будущие руководители семинаров. Речи, речи. По окончании собрания всем студийцам предложили подойти к спискам, висящим на доске, и посмотреть, в чей семинар они включены. Я мечтала попасть к Давиду Самойлову, но, увы, не попала. Я очень огорчилась и побежала к одному из организаторов студии, поэту Нине Бялосинской, с которой была знакома прежде, умоляя записать меня к Самойлову. «Не могу, – отказала Нина, – у него полно народу. Но я записала тебя к прекрасному поэту Арсению Тарковскому. Иди, познакомься с ним. Вон он, пожилой, с палкой». Робея, я подошла к поэту. Тот встал, уронил палку, протянул мне руку ладонью вверх и, мягко улыбнувшись, сказал: «Здравствуйте, дитя моё». И происходило это в 1966 году. Тарковскому было 59 лет.
На первом семинаре Тарковский произнёс речь, если то, что он сказал, можно назвать речью: «Я не знаю, зачем мы здесь собрались, – говорил он с улыбкой. – Научить писать стихи нельзя. Во всяком случае, я не знаю, как это делается. Но, наверное, хорошо, если молодые люди будут ходить сюда и тем самым спасутся от тлетворного влияния улицы». Вот с такой «высокой» ноты мы начали свои занятия. На каждом семинаре кто-то читал стихи, а потом семинаристы высказывались по поводу прочитанного. Почему-то на литобъединениях было принято нападать и кусаться. Тарковского такой тон шокировал. Было видно, что ему становилось неуютно в обществе юных волчат. Тарковский не хвалил всех подряд. Вышучивал неуклюжие строки, не пропускал ни одной плохой рифмы, но никогда не делал это грубо. Если же стихи ему совсем не нравились, он говорил: «Это так далеко от меня. Это совсем мне чужое». Арсений Александрович никогда не держался мэтром, вёл семинары весело и любил рассказывать, как однажды Мандельштам читал в его присутствии новые стихи:
Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа…
«Почему не Антуан?» – спросил Тарковский. «Молодой человек! У Вас совсем нет слуха!» – в ужасе воскликнул Осип Эмильевич[9]9
Позже я узнала, что этот эпизод произошёл не с ним, а с Семёном Липкиным. – Л. М.
[Закрыть].
В присутствии Тарковского, такого артистичного, живого, ироничного и простого, смешно выглядели юные, неулыбчивые поэты, которые мнили себя гениями, говорили загадками, читали туманные стихи. Однажды во время занятия, когда кто-то читал стихи, вошёл один такой юный «гений», шумно подвинул стул на середину комнаты, взял со стола пепельницу, поставил её возле себя на пол и, усевшись, закурил. В перерыве мрачный юноша подошёл к Тарковскому и с ходу стал читать ему что-то заумное и длинное. Арсений Александрович, который, видимо, надеялся в перерыве отдохнуть от стихов, покорно выслушал чтение до конца. Но когда тот собрался читать следующее, прервал его, спросив, кто он и откуда. Молодой человек сказал, что работает в подвале. «Что вы там делаете? Пытаете?» – осведомился Тарковский.
Он был терпим. Не любил конфронтаций, острых углов. Никогда не спорил с пеной у рта, а просто молча оставался при своем мнении. Но он был непримирим и определёнен, когда речь шла о принципиальных вещах. Мой друг Феликс Розинер был свидетелем такой сцены на семинаре молодых литераторов в Красной Пахре в семидесятых годах. На общем собрании один из участников семинара вышел на трибуну и гневно заявил, что накануне вечером имярек пел под гитару антисоветские песни. «За такие песни расстреливать надо!» – кричал обличитель. И тут из зала раздался громкий голос Тарковского: «Того, кто говорит, что за песни надо расстреливать, необходимо немедленно лишить слова».
Наступил день, когда на семинаре в ЦДЛ обсуждались мои стихи. Не помню, что мне говорили, но помню, что я была удручена. Мне казалось, что Тарковского мои стихи оставили равнодушным. Но некоторое время спустя он вдруг попросил меня дать ему стихи. Сказал, что хочет повнимательнее прочесть их. Когда я пришла к нему домой через несколько дней, Тарковский был в страшном волнении. Он шёл мне навстречу. Вернее не шёл, а прыгал на одной ноге (он был без протеза), тяжело опираясь на палку. «Здравствуйте, детка. Я как раз пишу вам письмо. Вы чудо и прелесть. И стихи ваши чудо. Вы всё прочтёте в моём письме. Пойдёмте в комнату». Мы сели на диван. Голова моя кружилась. Мне казалось, что это сон. Арсений Александрович придвинул к себе лист бумаги и стал дописывать письмо. «Читайте». Он подал мне густо исписанный листок бумаги. Я читала и не верила своим глазам. Когда я кончила читать и посмотрела на Тарковского, он, улыбаясь своей особенной растроганной и ироничной улыбкой, быстро провёл ладонью по моим волосам. «Всё правда, детка. Вы чудо. Только пишите». Даже сейчас через двадцать с лишним лет, вспоминая тот день, я завидую самой себе. Потом до меня доходили слухи, что он читал знакомым мои стихи, носил их в журнал «Юность» и читал вслух в отделе поэзии, ездил в издательство «Советский писатель» на приём к главному редактору Соловьёву и пытался ускорить издание моей книги, которая лежала там без движения. Сам Тарковский никогда мне об этом не говорил. Разве что вскользь, без подробностей. Я не боюсь, что меня обвинят в нескромности, по нескольким причинам. Во-первых, как говорила Ахматова, беседуя с кем-то из друзей: «Мы не хвастаемся. Мы просто рассказываем друг другу всё подряд». Могу ли я, вспоминая о своих отношениях с Тарковским, пропустить одно из самых важных в моей жизни событий, связанное с ним? И, кроме того, поэт не рождён поэтом раз и навсегда. Он может иссякнуть. Любое его стихотворение может стать последним. И тогда он гол как сокол. И никакие прошлые стихи и успехи не утешат. Во всяком случае, меня. И потому я позволю себе привести полностью письмо Тарковского.
Дорогая Лариса!
Я прочитал глазами Ваши стихи, прочитал весь Ваш 1967 год моему приятелю Владимиру Державину, и (как и он) нахожусь в состоянии восхищения, всё радуюсь, каким очень хорошим поэтом Вы стали в ЭТОМ году. Раньше всё было в начале шкалы отсчёта, теперь же Вы занимаете наивысший уровень над поэтами послевоенного времени.
У Вас уже есть всё, для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше чем в чьё-нибудь, я верю в Ваше будущее. У Вас свой взгляд на каждую изображаемую реалию, всё проникнуто мыслью, Вы прямо (в лучших стихотворениях) идёте к цели; мысль крепко слажена, и нова, и нужна читателю. Особенно внимательно я прочитал стихотворения 1967 г., пометил – что, по-моему, нужно исправить (ударения, звуки). На книгу стихов ещё не набирается, не стоит хорошее разжижать ранними (послабей) стихотворениями. Что ещё у Вас хорошо – это большое дыхание: синтаксического периода хватает на всю строфу и Вы прекрасно её строите; что до формы, то идеалом мне кажется – совпадение ритма и синтаксиса, а это у Вас есть. ПОСЛЕДНИЕ СТИХНИЯ очень выигрывают от того, что Вы стали строго рифмовать. Вы прелесть и чудо; теперь всё – для поэзии, я уверен, что русская поэзия должна будет гордиться Вами; только ради Бога, не опускайте рук! Я верю в Вас и знаю, что Ваше будущее – не только как поэтессы, но и как поэта у Вас в кармане, вместе с носовым платком. Ещё год работы – и слава обеспечена, причём слава ещё более, чем Вам, нужна Вашим будущим ЧИТАТЕЛЯМ.
Преданный Вам А. Тарковский 10.IV.1967 г.
Р. S. Не выбрасывайте этого письма, спрячьте его на год. Посмотрим, что принесёт он Вам (нам), проверим моё впечатление. А. Т.
С этого дня началась наша многолетняя дружба.
Так хочется удержать в памяти его мимику, голос и выговор. Он произносил какие-то усечённые, редуцированные гласные. Говорил так, будто ему не хватает воздуха, слегка задыхаясь. И стихи читал, будто на последнем дыхании, замирая к концу. И, тем не менее, великолепно доносил каждое слово, каждый звук.
А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду – стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду – стоит
В семи шагах, рукою манит…
Сама строка здесь прерывистая, как дыхание. И последнюю фразу он произносил, как бы сходя на нет: «А мать пришла, рукою поманила – и улетела…» Кто бы и как ни читал стихи Тарковского, я всегда буду слышать только его голос, помнить только его интонацию:
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Арсений Александрович делает глотательное движение, будто сглатывает то, что стоит в горле и мешает читать…
Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло, —
и еле слышно:
Только этого мало.
Он читал абсолютно без пафоса, иногда с волнением, иногда почти индифферентно, но я не думаю, что кто-то может прочесть его стихи лучше, чем он сам. В 70-е, 80-е годы Тарковский нередко выступал в научных институтах, библиотеках, творческих союзах. Всегда читал стоя. «Из уважения к Музе», – говорил он. В 1976 году мы с мужем купили магнитофон и приехали к Тарковскому, чтобы записать его чтение. Это была моя давняя мечта. Он читал долго и щедро. К сожалению, качество кассет оказалось низким, и сейчас их почти невозможно слушать. Слава Богу, теперь выпущены пластинки.
Тарковский любил читать стихи других поэтов. Однажды при мне к нему пришел прощаться перед отъездом в Израиль Анатолий Якобсон[10]10
Анатолий Якобсон – литератор, преподаватель русского языка и литературы, активный участник правозащитного движения. В 1973 году был вынужден уехать из СССР. Несколько лет спустя покончил с собой в Израиле.
[Закрыть], и они с Т. долго наперебой читали Пушкина. Тарковский часто читал Тютчева, Анненского, Мандельштама, Ходасевича, Ахматову. По-моему, Арсений Александрович очень тосковал без неё. Как-то он грустно сказал мне: «Вот нет Анны Андреевны, и некому почитать стихи». Когда читал Ахматову, на глаза его наворачивались слёзы. «Её рукой водили ангелы», – говорил он.
Тарковский любил вспоминать шутки Ахматовой. У его жены Татьяны Алексеевны Озерской даже была записная книжка, в которую она все годы их знакомства записывала ахматовские остроты.
Как-то, придя к Тарковским в Переделкино, мы увидели у Арсения Александровича на кровати маленький сборник Георгия Иванова, изданный за рубежом. «Послушайте, какой дивный поэт!» – воскликнул Тарковский и, открыв книжку, прочёл:
Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица,
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
И как безнадёжно бледны
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.
Потом мы долго листали сборник и читали стихи по очереди. Арсений Александрович с удовольствием читал гостям стихи и прозу Даниила Хармса из хранившегося у него самодельного сборника. Часто читал понравившиеся ему стихи молодых своих друзей: Саши Радковского, Марка Рихтермана, Миши Синельникова, позже Гены Русакова. Всех нас он опекал, пытался помочь, хотя это было не просто и не всегда ему удавалось. «Плохие времена, детка, пятидесятилетие»[11]11
Имеется в виду 50-летие Октябрьской революции.
[Закрыть], – со вздохом говаривал Тарковский ещё в начале нашего знакомства.
На моей книжной полке стоит фотография, сделанная в 1972 году в библиотеке им. Чехова, где мы, молодые поэты Саша, Миша, Марк, Алик Зорин и я выступали со стихами. Тарковский вёл вечер. И как это было давно! Марк Рихтерман умер в 1980-м. Он успел увидеть в печати несколько своих стихотворений.
Случилось это только благодаря усилиям Евгения Евтушенко, Арсения Александровича и Татьяны Алексеевны, которая стала другом всех молодых людей, окружавших Тарковского. У Саши Радковского до сих пор нет ни одной книги и даже ни одной настоящей публикации[12]12
В 1993 году в издательстве «Авиатехинформ» вышел сборник стихов А. Радковского «Шершавая десть».
[Закрыть]. А те несколько стихотворений, что напечатаны, тоже, по-моему, появились в печати не без помощи Тарковского. Остальным участникам того вечера повезло больше: у нас есть книги. Хоть и урезанные, препарированные, но есть, что само по себе чудо, если учесть, что пятидесятилетие плавно перешло в шестидесяти-, а потом в шестидесятипятилетие. И всё это время мы ждали, когда кончатся «праздники» и начнётся жизнь. Невольно приходят на память строчки из самодельной книги никогда не печатавшегося поэта Владимира Голованова «Сентяб, октяб, нояб, декаб, кап, кап, кап…» Одно время Тарковский, которому случайно попал в руки машинописный сборник Голованова, с удовольствие угощал гостей его странными, абсурдными, смешными и горькими стихами: «А ледники ползут, как змеи, и тают, гадины, как масло…» – громко хохоча читал Арсений Александрович.
Сентяб, октяб, нояб… Шли годы. И всё это выморочное время Тарковский оставался для нас заповедником, где мы находили то, что исчезало на глазах: корневую, нерушимую связь с русской и мировой культурой, благоговейное отношение к Слову, Музыке, Жизни. Арсений Александрович не любил пафоса, и мы ему никогда не говорили высоких слов, хотя каждый из нас понимал, что такое Тарковский. Его присутствие на земле вселяло надежду. И он сам всегда призывал надеяться, не опускать рук, хотя вовсе не был оптимистом. Вот как он надписывал свои сборники: «…с надеждой добра и пожеланием счастья, в ожидании новых стихов и книги, с заветом писать во что бы то ни стало… 18.8.69», «.с неистребимой верой в физическое бессмертие произведений подлинного искусства, в неодолимую силу их духовности, в то, что грядущему они – хлеб насущный. 7.2.1975».
Я всегда показывала Тарковскому свои новые стихи. Сперва читала их сама, потом он брал листки у меня из рук и прочитывал про себя или вслух своим особым вибрирующим голосом. Последние две строки он обычно произносил медленнее и тише, как бы замирая к концу и возвращая стихотворение туда, откуда оно пришло: в тишину, безмолвие, небытие. Тарковский редко ругал стихи, которые я ему читала, но я всегда видела, когда он по-настоящему взволнован. Иногда очень ценные замечания делала его жена, переводчик художественной литературы с английского языка. Она обладала прекрасным чувством слова, и мне всегда было важно её мнение. Когда я дарила Тарковским свой очередной самодельный сборник, всегда поражалась тому, с каким вниманием Татьяна Алексеевна прочитывала его и потом звонила мне, чтоб поговорить подробно о стихах. Случалось, что Тарковский просил меня почитать новое, но я вздыхала: «Новых нет. Не пишется». – «Ничего, – отвечал он, – это перед стихами». Сам он некоторое время не писал и очень страдал от этого. И вдруг, где-то в середине семидесятых у него произошёл новый взлёт. Он написал сразу несколько прекрасных стихов. И удивительно помолодел. Даже его реакция на чужие стихи изменилась. Он стал требовательнее, придирчивее, острее реагировать на то, что ему читали. После стольких лет привычного: «Всё у вас хорошо, детка», я вдруг услышала замечания, критику, что было неожиданно и необычно.
Я никогда не видела Арсения Александровича озабоченным литературными делами. Он был далёк от всех и всяческих группировок, от редакционной суеты и сплетен. Он был сам по себе. Думаю, что книги Тарковского вышли во многом благодаря трудам его жены.
Я никогда не видела Тарковского сосредоточенно работающим за письменным столом, как подобает профессиональному литератору. Может быть, он работал так прежде, когда был моложе. И, тем не менее, в те годы, когда я его знала, им была написана целая книга стихов. А среди них такие шедевры, как «Пушкинские эпиграфы», «Зима в детстве», «Вот и лето прошло», «Памяти Ахматовой», «И я ниоткуда». Да разве всё перечислишь. Он записывал стихи в свой толстый небольшого формата кожаный блокнот с ленточкой-закладкой. Этот блокнот он всегда брал с собой на выступления и читал оттуда новое.
Конечно, я занимаюсь зряшным делом, пытаясь передать словами его облик, живую мимику, жесты. Лицо Тарковского казалось чрезвычайно подвижным. В глазах была нежность, а в углах губ уже таилась ирония. Временами, когда он себя плохо чувствовал, глаза его были полуприкрыты, и на лице появлялось страдальческое выражение. Но услышав что-нибудь смешное, он мог мгновенно просиять и расхохотаться. Иногда он вздрагивал и стонал, жалуясь, что у него болит нога. Ампутированная.
«Где моя палка-упалка, палка-пропалка?» – приговаривал Арсений Александрович, собираясь встать. Он часто ронял и терял свою палку. Но и когда тяжело опирался на неё, не было ощущения, что он устойчив. И правда, он нередко терял равновесие, падал. Наверное, потому что был импульсивен, порывист. И потому, быть может, что осмотрительность, осторожность не были свойственны ему. Тарковский мог полезть по приставной лесенке за книгой, лежащей на верхней полке. Мог встать на что-нибудь шаткое, чтоб починить лампу. Он ломал то руку, то ногу, но не менялся.
Тарковский часто немного играл и не всегда удавалось понять, серьёзен он или шутит. «Ой, умираю», – вскрикивал он, хватаясь за сердце, за локоть или плечо. «Что с вами, Арсений Александрович? Что у вас болит?» – «Всё болит. Душа болит. Я устал». – «Отчего устали?» – «От всего устал. Жить устал. Обмениваться, дышать». Когда раздавался звонок в дверь или телефонный звонок, Тарковский страшно вздрагивал, и лицо его искажалось, как от внезапной боли. «Таня-я-я», – громко звал он жену. – Звонят». Причём это «звонят» звучало как «пожар». По– моему, у Арсения Александровича была телефонофобия. По телефону его голос звучал почти панически, и он быстро заканчивал разговор.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































