Текст книги "Золотая симфония"
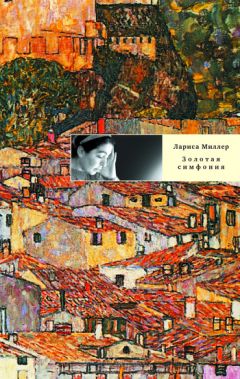
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Золотая симфония
На «целинные» деньги мы с мамой купили мне платье из парчи (на чёрном фоне красная искорка) и первые в моей жизни туфли на каблуках. Парча облепляла меня так, что я едва передвигала ноги, а каблуки не слушались и постоянно подворачивались. И всё же после телогрейки и сапог мой наряд казался мне верхом изящества.
Я была в нём и в тот вечер.
– К тебе пришли, – сказала мама, выразительно глядя на меня. Воюя с парчой и заваливаясь то вправо, то влево, я вышла в коридор и увидела его. «Боже правый, ты ли это? – старомодно изысканно приветствовала я своего друга. – Как ты нашёл меня?» Но, заметив выползающих в коридор соседей, не дожидаясь ответа, потащила его в комнату. Но и здесь мы попали под перекрёстный огонь взглядов моих домашних. Посидев для приличия за столом и выпив чаю, мы с облегчением выскочили на улицу и пошли куда глаза глядят. В те годы по Москве ещё можно было гулять в своё удовольствие и беседовать, не повышая голоса. Что мы и делали, если наш сумбурный разговор можно было назвать беседой. Мы вспоминали, как, проведя трое суток в тамбуре целинного поезда и болтая о чём угодно, забыли обменяться телефонами и адресами. Он рассказал, как разыскивал меня и наконец нашёл через справочное бюро. Темнело, летели листья, мы кружили по окрестным переулкам, возвращались к моему подъезду, заходили внутрь, грелись у батареи, снова оказывались на улице и наконец расстались возле моей двери, условившись встретиться завтра.
Началась «Золотая симфония» московской жизни, о чём мы так мечтали на целине.
«Филумена Мортурана» – первый спектакль, где мы вместе. Один из героев поёт под гитару: «Ах, как мне грустно, грустно, грустно, как я страдаю, как страдаю, страдаю я, страдаю я». «Знаешь, что такое любовь? – говорят на сцене. – Это когда двое совсем рядом и так близко, что дыхание смешивается». «Слышишь?» – шепчет мой друг, касаясь губами моего уха.
На следующий день идём на Софроницкого. Возле консерватории – толпа. Говорят, что маэстро болен и концерт не состоится. Жаль, но не беда. У нас впереди – целый вечер и целая жизнь.
Архангельское. Покрытые осенними листьями дорожки парка. Он греет мои руки своим дыханием. «Ох, чуть не забыл. Я же взял для тебя шерстяные носки». Он достаёт из кармана носки, которые мама пыталась всучить мне, когда мы уходили из дома. Теперь они очень кстати. Как и термос с горячим чаем, который мы разливаем по кружкам, усевшись на поваленное дерево в укромном уголке парка. «А помнишь, какой чифирь мы пили, когда дежурили ночью возле палатки?» Надо же, и я вспомнила то же самое: обжигающий чай, бесконечное степное небо в густых и ярких звёздах, которые постепенно бледнели, а потом и вовсе погасли, уступив место предрассветным краскам.
Постцелинные каникулы идут к концу. Скоро начнутся занятия. А это значит – долгий путь в битком набитом вагоне метро, поездка через Сокольники на трамвае мимо невысоких деревянных домиков, палисадников, голубятен, вдоль длиннющей ограды парка, мимо остановки с ласковым названием «Майский просек» до нашей прозаической «Институт».
Впрочем, в тогдашней жизни ничего прозаического не было. Даже запах пережаренных пирожков означал мимолётную встречу с моим другом в буфете. А нудная полуторачасовая лекция по языкознанию – это возможность ловить в ручное зеркальце его взгляд и улыбку. Надо только сесть в предыдущем ряду слева. Длиннющий хвост в раздевалку – ещё одна возможность постоять рядом в очереди, крутя номерок на пальце. А потом – дорога через парк Сокольники, которая будет петлять, извиваться, уходить в заросли, выбегать на поляну, снова прятаться в чащу, пока, наконец, не выйдет к воротам парка. И все листья, всё золото мира – у наших ног.
Но и разойтись по домам вовсе не означает расстаться. Едва переступаю порог дома – звонок: «Поела? Слушай, я сделал потрясающее открытие: на «Посвящение» Листа прекрасно ложится твоё имя». Он опускает трубку на крышку рояля и, наигрывая, поёт моё имя.
Шла жизнь, в которой, что ни случись, – всё к лучшему. И болеть – тоже, потому что тогда он придёт меня навещать и будет читать мне по-английски Эдгара По, копируя интонации актёра с магнитофонной плёнки из нашего лингафонного кабинета. А через несколько дней мы пойдём вместе в мою поликлинику и, сидя в длинной очереди к врачу, устроим конкурс на лучший перевод английского стихотворения. Не помню ни автора, ни текста, а лишь первые строчки в собственном неловком переводе: «Мы вместе, и пусть наш нелёгок путь, изменчив и неизвестен…» Услышав мой вариант, он разорвал свой, сказав, что я победила.
«Золотая симфония» продолжалась, и в ней постоянно участвовали листья, которые шелестели, шуршали, бились на ветру, летели навстречу, кружились в воздухе, ложились под ноги. «Ты чудная. Ты даже не понимаешь, какая ты чудная. Только не грусти глазами». А я и не грущу. Что мне грустить, когда всё так прекрасно. Вечером идём в Большой на «Лебединое». Танцует великая балерина, двоюродная сестра моего друга. У нас контрамарки без мест. Театр переполнен. Тесно прижавшись, стоим в одной из верхних лож. Он знает балет наизусть и время от времени тихонько объясняет мне, неискушённому зрителю, тонкости балетной техники.
После спектакля в густой толпе движемся к метро. Болтая, спускаемся по ступенькам, но я чувствую, что мой друг чем-то озабочен. «Знаешь, – говорит он, замедляя шаги. – Что, если мне вернуться? Майка живёт возле театра. Мне бы хотелось зайти к ней. Там будут все наши. Ты не обидишься?» Он виновато смотрит на меня. «Если обидишься, я не пойду, правда». «Конечно, иди», – как можно беспечнее отвечаю я. Он радостно чмокает меня в щёку и исчезает.
Именно в тот вечер первой – не то обиды, не то досады – я сочинила стишок, который так никогда ему и не показала:
Мальчишка милый, как люблю я
Твой голубой лучистый взгляд,
Твою улыбку озорную,
Когда ты в чём-то виноват.
Мне хочется бродить часами
С тобою рядом по Москве,
И губы почему-то сами
Всё улыбаются тебе…
Воскресное утро. Звонок: «Слушай, ты срочно должна мне помочь. У Майки день рождения, а я не знаю, что дарить. Придумай, пожалуйста». Через минуту снова звонок: «Придумала? Нет, это не пойдёт», – говорит он, отвергая мои банальности. «Думай дальше». Опять звонок: «Слушай, я в панике. Скоро идти, а подарка нет. Что же делать?» Беспомощно молчу, чувствуя себя виноватой и бездарной. Поздно вечером звонок: «Слушай, я сделал феноменальный подарок. Только ты не огорчайся. Я подарил ей нашего Микки Мауса. Пожалуйста, не расстраивайся. Она так обрадовалась, что даже решила взять его с собой на гастроли. Представляешь, он летит в Америку». Я не верила своим ушам. Он отдал нашего Микки Мауса, мышонка в красной шляпе и оранжевых штанах, ваньку-встаньку со свинцовым грузиком в животе, амулет, с которым я была неразлучна все долгие три с половиной целинных месяца, таская его в кармане телогрейки на работу, на прогулку, в кино, в столовую. В поезде Кокчетав – Москва я подарила его своему другу, сказав, что он станет нашим общим амулетом и будет кочевать от него ко мне и обратно. «Скажи, что ты не обиделась, ну пожалуйста». Я молча повесила трубку.
«Золотая симфония» стала немного менять тона и краски. Наступила глубокая осень. Шли дожди, прибивая к земле пожухлые листья. Заметно похолодало. Мы стали меньше гулять и больше бегать по кино и концертам.
В тот вечер мы ходили в кинотеатр, которого уже нет на свете. Было такое уютное заведение в центре Москвы, где показывали хронику и научно-документальное кино. Мы смотрели фильм о Первом конкурсе Чайковского. На сцену консерватории снова стремительно выбегал высокий, тонкий, романтичный Ван Клиберн. Его длинные нервные пальцы снова касались клавиатуры, утопали в ней, извлекая из неё слышанные-переслышанные и всё же неповторимые звуки. А вот и та музыкальная фраза, на которую так удачно ложится моё имя.
– Ты знаешь, мама наконец хочет с тобой познакомиться, – сказал мой друг, едва мы вышли на улицу. – Давай зайдём. Отсюда рукой подать.
Я этого ждала и боялась. Я знала, что он живёт в новом роскошном композиторском доме. Том самом, куда не так давно переехали наши с мамой давние друзья. Я бывала в их помпезной, богато обставленной квартире, которая, как небо от земли, отличалась от прежней – тесной в двухэтажной деревянной развалюхе на окраине города. Поселившись в новом доме, наши друзья изменились не меньше, чем их жилплощадь, и общаться с ними стало так же трудно, как ступать на их зеркальный паркет или сидеть за массивным столом с накрахмаленной скатертью. Я боялась этого дома и не доверяла ему. «Не надо отказываться, – горячился мой друг. – Мама обидится. Зачем тебе с самого начала портить с ней отношения?» «Потом, потом», – малодушно повторяла я.
Придя ко мне, он позвонил своей маме и сказал, что у меня страшно разболелась голова. В трубке раздался певучий громкий голос: «Пусть примет тройчатку. А ты езжай домой. Что тебе там делать, если у неё голова болит?»
Встреча состоялась через неделю. Я шла как на казнь. Знакомый переулок, знакомый дом, необъятный подъезд с важным лифтёром, просторный лифт. А вот и квартира. Господи, убежать бы куда глаза глядят. Дверь открыла невысокая ухоженная женщина с яркой помадой на губах и пучком тёмных волос на затылке. Следом за ней вышел пожилой солидный мужчина в белой сорочке – отчим моего друга. Приветствия, улыбки, и я – в гостиной, точно за таким столом, какого боялась – массивным с накрахмаленной скатертью. За чаем с пирожными идёт беседа, в которой мне надо, ох как надо принять участие. Я чувствую это по умоляющим и тревожным взглядам моего друга. Наконец выдавливаю из себя фразу, которая повисает в воздухе. Нет, лучше молчать. Пусть говорят другие. Мать моего друга – профессиональный лектор. Речь её льётся легко и плавно. Разговаривая, она то смотрится в стекло стоящего напротив серванта, то улыбается мужу, который бросает на неё восхищённые взгляды. Они молодожёны, и это видно.
«Пойдём в другую комнату. Я хочу тебе что-то показать», – предложил мой друг, и я с радостью за ним последовала, спиной чувствуя взгляды. Усадив меня на диван, он достал из шкафа груду альбомов с фотографиями, связки писем, папки и всё это свалил мне на колени.
Наступил долгожданный момент. Наконец он может показать мне то, о чём столько рассказывал. «Смотри, узнаёшь?» С многочисленных газетных вырезок на меня глядело ангелоподобное дитя в светлых кудряшках. Это кадры из фильма «Пятнадцатилетний капитан», в котором он снимался ребёнком в эпизодической роли. «Помнишь сценку, где я бросаю Джеку яблоко, и он с лёту насаживает его на нож? На самом деле на нож он насаживал запасное яблоко, а моё даже не пытался поймать. Я был потрясён, когда увидел, как это делается, и всем говорил, что кино – сплошное надувательство». Он развязал сверток, и на колени посыпались бумажки, испещренные детскими каракулями – письма благодарных и восхищенных юных зрителей. А вот семейные альбомы, где тот же ангелочек на коленях у собственной мамы, фотографии родственников – именитых и не очень. Мы сидим, склонившись над драгоценным архивом, а рядом стоит нарядный блестящий рояль – неизменный свидетель и участник наших бесконечных телефонных разговоров.
В комнату вошла мать. «Мы собираемся в гости, – растягивая слова, громко сообщила она. – Каковы ваши планы?» Я подняла голову и увидела, что она расстёгивает блузку. Оставшись в нарядной кружевной комбинации и распустив волосы, она неторопливо ходила по комнате, примеряя серьги, бусы, пудрясь, причесываясь. «Пойдём погуляем», – предложил мой друг.
Боже, как хорошо на улице, как легко дышится. Ко мне опять вернулся дар речи. Мы смеялись, болтали, дурачились. Расстались поздно. Он поцеловал меня на прощанье и ушёл своей летящей ванклиберновской походкой.
На следующий день встретились, как обычно, после занятий. Из-за дождя не пошли пешком, а поехали на трамвае. Сев на свободное место и положив себе на колени его папку, я принялась рассказывать что-то смешное о собрании нашей группы, но вдруг осеклась. На меня смотрели потухшие чужие глаза. «Что случилось?» – испуганно спросила я. «Ничего, просто не выспался». В метро на переходе мы расстались. Он сказал, что мама просила прийти пораньше. Дальше я поехала одна. Стоя в вагоне, смотрела в чёрные окна поезда, а когда очнулась, поняла, что проехала свою станцию.
В тот день телефон молчал. Мой друг позвонил только поздно вечером и сказал, что был страшно занят – бегал по маминым делам: забирал в библиотеке книжки, носил машинистке статью. Наступила пауза. «Всё-таки что случилось?» – сдавленным голосом спросила я. Он помолчал, как бы собираясь с силами. «Вчера, когда я вернулся, мама устроила скандал, сказала, что пора всё это кончать и надо заниматься. Я же говорил тебе, что не стоит с самого начала портить с ней отношения. Помнишь тот вечер, когда ты отказалась к нам пойти?» Я молчала. «Не расстраивайся, всё будет как прежде», – дрогнувшим голосом сказал он.
Но «как прежде» не получалось. Всё было так, да не так. Как в той игре, где просят найти десять отличий на двух почти идентичных картинках. На обеих – Большой зал консерватории, привычные места в бельэтаже слева, двое сидят рядом. Но на первой он смотрит на неё, а на второй – на сцену. На первой он перебирает её пальцы, на второй – теребит программку. На первой, едва она открывает рот, он ловит каждое её слово, на второй – не поворачивает головы.
Наступили зимние каникулы. Он пригласил меня на спектакль, в котором играла его тётя. Когда я сняла пальто, он ахнул: «Господи, что это на тебе? Что за дикий цвет?» На мне было новое платье, сшитое из бабушкиных запасов – из шерстяного отреза оранжевого цвета. Я мечтала его поразить и поразила. Во время антракта он умолял меня не выходить в фойе: «В этом платье нельзя появляться на людях, понимаешь? Я скоро вернусь». Он появился, когда уже погас свет. «Смотри, что я принёс», – шепнул он и высыпал мне на колени горсть конфет. В награду за послушание.
А потом наступило лето. Мы с мамой уехали в Кисловодск. Отдых наш был активным: прогулки в горы, библиотека, концерты. Но я ждала только одного – похода на почту за письмами. Он прислал два письма. В первом советовал сходить на место дуэли Печорина и подробно рассказывал, как его найти. А во втором, и последнем, сообщал, что случилось несчастье: скоропостижно скончался отчим. «Мы теперь будем с мамой большими друзьями», – писал он. А закончил так: «Помнишь песенку, которую ты пела на целине: «Que sera, sera, whatever will be, will be…» Я нашел хороший вольный перевод: «Как-то должно быть. Ведь не может быть, чтоб никак не было.»».
И снова осень. Метро «Сокольники». Трамвай, 10-й маршрут. Майский Просек. Институт. Лекция. Он сидит на своём обычном месте на один ряд выше, и я могу поймать в зеркальце его лицо. После занятий идём через парк. Знакомый пруд, знакомые дорожки. Он рассказывает, как жил всё это время. Задаёт вопросы. Разговор не клеится. «Что ж ты так редко писал?» Мы сели на скамейку. Помолчав, заговорил: «Знаешь, этот год был для меня очень трудным. Я не хотел тебе говорить всего, но мама каждый день выливала на тебя ушаты грязи». – «Какой грязи? Ведь она меня совсем не знает». – «Неважно. Она говорила чепуху: что-то про походку, криво зашитый чулок и стоптанные туфли. Но ведь это действует, когда каждый день одно и то же. В общем, ты прости, но всё изменилось».
Я запрокинула голову, чтоб сдержать слёзы. Не было сил подняться. Время шло. «Пойдём, – тихо сказал он и протянул мне руку». Мы медленно побрели к метро.
Переступив порог дома, я поняла, что отныне телефон будет молчать вечно. Кто бы ни позвонил. И вообще, больше ничего не будет. Никогда. Nevermore, как у Эдгара По, которого он мне читал.
Вечером пришла мама. Взглянув на меня, испуганно спросила: «Что случилось?» Я молчала. «Ну поди ко мне скорей. Что случилось? – Она посадила меня на колени и стала качать, как маленькую. – Ну скажи скорей, ну скажи».
И тут меня прорвало. Я затряслась, забилась, слёзы хлынули градом.
«Что с тобой, девочка? Неужели ты из-за него? Неужели? Ну разве так можно? Ты же маленькая. У тебя всё впереди. Ну, постой, постой. Объясни, что случилось. Что у вас было? Ну скажи, что у вас было? Так убиваться можно только, если у вас что-то было. Ну скажи, что у вас было?» «Ни-че-го не было, – выдавила я. – Ничего не было». И, сползши с маминых колен, уткнулась лицом в подушку.
Потекли чёрные дни и чёрные годы. Но и чёрные, они были в светлую искорку, как моё парчовое платье, которое я давно перестала носить. Такой искоркой был его мелькнувший на лестнице голубой костюм, случайно перехваченный на лекции сияющий взгляд, сверкнувшая в коридоре улыбка. Мы редко говорили. Он не знал, как ко мне обращаться: полным именем звать не привык, а ласковым, домашним не решался.
В ту осень, когда мы расстались, я однажды вышла из института с подружкой. Шёл дождь. Было слякотно и промозгло. Мы стояли на остановке. Наконец показался трамвай. «А что если я под него брошусь? – усмехнулась я. – Ну что ж. Все скажут: она бросилась под трамвай, потому, что он её бросил. Нет, только не это», – с ужасом подумала я.
Несколько лет спустя я прочла замечательный рассказ о погибшей любви (к стыду своему, не помню ни автора, ни названия). В нём была такая строчка (цитирую по памяти): «Кораблик по имени Катя стремительно от него уплывал». Прочтя эту фразу, я вспомнила Сокольники, конец занятий, толпу студентов у выхода и то, как мимо меня стремительно пронёсся мой уже бывший друг и вскочил в уходящий трамвай. Я ещё несколько секунд видела его светлые волосы и голубой костюм.
«Ах, как мне грустно, грустно, грустно, как я страдаю, как страдаю, страдаю я, страдаю я». Песенка, которая звучала в начале нашей Золотой симфонии, оказалась пророческой. Хотя, какое уж там пророчество. Наверное, только так и должна кончаться первая любовь. Обычная и неповторимая.
У всех свои Сокольники
И свой осенний лес.
Тропинки в нём окольные,
Верхушки до небес.
С любовью угловатой,
С её вихрами-косами
Бродили мы когда-то
В дождях и листьях осени.
Сокольники осенние,
Тропинки наугад,
Стал чьим-то откровением
И этот листопад.
Кофта с пупырышками
Летом 59-го года, сдав экзамены за второй курс, я должна была, как тогда полагалось, отработать месяц на стройке. Уезжала рано утром, возвращалась вечером. Лето было жарким, дорога длинной. Сперва я ехала в душных переполненных вагонах метро до Сокола, потом не то автобусом, не то трамваем, потом долго шла. Однажды утром с недосыпу попыталась подняться на эскалаторе, идущем вниз. Спасибо кто-то вовремя оттащил меня, ухватив за ворот. С собой я всегда возила книжку Луначарского о киносценариях и бутерброды. Книжку так и не прочла, а бутерброды раздавала однокурсникам, предпочитая деликатесы, которые приносила с собой Валька Боганова: тонкие ломтики поджаренного хлеба с икрой, красной рыбой или яичницей с помидорами.
Всё утро мы поглядывали на часы в ожидании обеда, а когда он оставался позади, скисали и считали минуты до отбоя. «Нервная работа, – приговаривала моя однокурсница Зойка, – целый день под движущимся краном». «Майна, вира», – эти крики мне уже снились по ночам.
Нам, студентам, поручали разное: что-то подмести, что– то поднести, что-то покрасить. Когда работы не было, я усаживалась в сторонке и открывала своего Луначарского.
И зачем я возила с собой эту нудную книгу? Сдаётся мне, причина была одна: я надеялась привлечь внимание однокурсника, который в ту пору занимал все мои мысли. Вдруг заметит, какую умную книгу я читаю.
С нами, студентами, любили поболтать работающие на стройке тётеньки и молодые девицы. Одна из них предложила погадать нам. Мы с радостью согласились. Я оказалась первой. «Прижми ладонь к стене», – скомандовала она. Я послушалась. «Замужем?» – спросила гадальщица. «Нет», – ответила я. «Вот на стенку и лезешь», – заключила она. Девчонки, ждущие своей очереди, разочарованно похихикали и разошлись.
Мы все с нетерпением ждали, когда кончится трудовой месяц или хотя бы рабочая неделя. «Суббота, суббота, хороший вечерок». По субботам нас отпускали пораньше. Когда я вернулась в ту злополучную субботу домой, мама и отчим накрывали на стол, собираясь обедать. Я едва держалась на ногах от усталости и страшно хотела есть. «Ну, что сегодня было?» – задала мама свой обычный вопрос. «Ничего особенного. Всё как всегда». «А почему ты не переоделась?» – спросил отчим, когда я села за стол. «Есть хочу». «Ну, деточка, так нельзя, – настаивал он, – на стройке грязь, пыль. Надо переодеться. Кстати, ты, кажется, уезжала в кофте. Где она?»
Я бросилась к сумке. В ней лежал Луначарский и остатки завтрака. Кофты не было. «Наверное, забыла в раздевалке», – упавшим голосом призналась я. «Придётся срочно ехать», – решительно заявил отчим. «Когда? Сейчас?» – ужаснулась я. «Конечно, сейчас, срочно. Немецкая кофта, прекрасная, дорогая. Я же просил, умолял не брать её с собой. Просил, умолял, – горячился отчим, – но ты ведь не желаешь слушать».
Мама пыталась уговорить его дать мне поесть, а уж потом решать, что делать. Но он был непреклонен: «Какой обед? Конец рабочего дня. Завтра воскресенье. В понедельник кофты не будет. Или ехать сейчас, или попрощаться с ней навсегда». «Я устала», – слабо сопротивлялась я. «Но, деточка, я же просил, умолял…»
Конца фразы я уже не услышала. Резко поднявшись, я направилась к двери. Из-за слёз я плохо различала дорогу, всё ту же постылую дорогу до метро, на метро, от метро… «Но там ведь никого уже нет, – подумала я, – и корпус, в котором раздевалка, наверняка уже заперт. Зачем я притащилась?» Когда я входила на стройку, мне навстречу шли рабочие. Кое-кто уже был навеселе. Один парень, чьё лицо мне было знакомо, шутливо спросил: «Решила сверхурочно поработать?» Но, приглядевшись, переменил тон: «Да ты никак плачешь. Что случилось-то?» – «Я кофту здесь забыла». «И что, из-за этого притащилась из дома? В понедельник взяла бы», – резонно заметил он. «Да нет. Мне велели сегодня». – «Что если не найдёшь, – заругают?» Я кивнула. «Ну и предки у тебя! А где кофта-то?» – «В пятом корпусе в раздевалке на четвёртом этаже». «Да корпус– то закрыт, – пробормотал он и, заметив проходившую мимо девицу, крикнул: – Ваську крановщика не видала?» Она покачала головой. «Жди меня здесь», – приказал парень и убежал.
Через некоторое время вернулся с тем, кого звали Васькой. «Ну, что, красавица, будем кофту доставать?» – спросил он. Я молча смотрела на них обоих, не представляя, что они собираются делать. «Повезло, окна открыты», – сказал Васька, взглянув наверх. Он полез в кабину крана, а Петька (так звали того, кто первым вызвался мне помочь) ухватился за крюк. «Вира!» – крикнул он. Не веря своим глазам, я смотрела, как Петька поднимается всё выше и выше. «Стоп! – он поравнялся с четвёртым этажом. – Давай ближе, ближе, стоп!» Отцепившись, Петька шагнул на подоконник и скрылся в раздевалке. Через некоторое время вновь появился в окне, держа в руках какую-то кофту. «Эта?» – крикнул он. «Нет!» – ответила я. – «Эта?» – «Нет!» – «Эта? Эта?» Я уже готова была согласиться на любую, лишь бы он прекратил поиски. «Моя – пёстрая с пупырышками, догадалась подсказать я. «С чем?» – не расслышал он. «С пупырышками!» – «С крылышками?» – «Да нет, с пупырышками!» Господи! Дались мне эти пупырышки. Зачем я про них сказала?! «Эта?» – крикнул он, размахивая моей кофтой. «Да-а-а-а!» – заорала я не своим голосом. Засунув за пазуху кофту, Петька снова прицепился к крану, скомандовал «майна» и поплыл вниз.
«Ну чего ты теперь-то ревёшь?» – спросил он, вручая мне кофту. «Спасибо вам, – всхлипывала я, – и вам спасибо… большое. Я вам так…» «Да ладно, чего там. Привет предкам», – сказал Петька, и они с Васькой направились к выходу. Я двинулась за ними.
Едва я вошла в комнату, мама и отчим рванулись мне навстречу. «Боже мой, девочка, – виновато причитала мама, – как тебе удалось её найти? Ну садись, ешь скорее. Ты ведь так устала!»
«Вот умница, вот умница, – повторял отчим, хлеб будешь? – Он отрезал кусок хлеба и густо намазал его маслом. – Ну ешь, ешь. Слава богу, нашла кофту. Больше никогда не бери её с собой. Такая кофта! Немецкая, чистая шерсть!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































