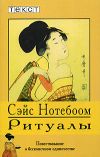Текст книги "Детка"

Автор книги: Зое Вальдес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Зое Вальдес
Детка
Мамочке
Если в конце я решусь написать,
что было главным в жизни моей,
если в конце я возьмусь вспоминать,
что было счастьем моих лучших дней,
я напишу о тебе, ибо все
связано было только с тобою:
ты моей радостью был и печалью,
страстью, надеждой, мечтою.[1]1
Здесь и далее – песни в переводе Л. Цывьяна.
[Закрыть]
(Авт. Хуан Арондо.Исп. Клара и Марио)
Моление о голове
Игба, баба, игба йейе, игба эчу алагбана
(Разреши, отец, разреши мать, разреши, эчу Алагбана);
игба иле акуокойери, игба ита мета бидигага
(разреши, дом, зчу акуокойери, разреши, угол Третьей улицы и дерево хагуэй);
кинкамаче ойубона, кинкамаче апетеви
(привет тебе, тетушка, сидящая рядом, привет тому, кто заботится об оруле);
кинкамаче ори ми кинкамаче гбогбо орича
(привет тебе, моя голова, привет всем ориша);
агбалагба кинкамаче кинкамаче комалебе
(и всем старикам – привет. Привет тебе, голова, осененная свыше);
агбаниче, оба ни омо
(ориша глубин океанских, Царь его сын);
она куни обани йе эми
(в пути я буду начеку, олень венценосный принадлежит Обатала);
качочо эни качочо
(послания Обаталы – по праву).
Часть первая
В тихой гавани гаванской миром правит суета…
Две мачехи у меня: город и ночь.
Вспоминать – значит снова и снова
открывать ящик Пандоры, откуда вырываются все
мои боли, надежды и эта музыка ночи…
Гильермо Кабрера Инфантеэ
Глава первая
Be careful, it's my heart[2]2
Будь осторожнее, милый (англ.).
[Закрыть]
Будь осторожнее,
милый:
сердце, а не часы
я тебе на ладонь положила.
(Авт. Ирвинг Берлин.Исп. Бола де Ньеве)
Эту книгу написала не я. Я – хладный труп. Впрочем, это ничуточки не важно. Главное сейчас рассказать все, пусть во рту у меня и кишат черви, – как мертвец стал бы пересказывать, слово в слово, мой любимый фильм «Sunset Boulevard»[3]3
«Бульвар закатов» (англ.).
[Закрыть] Билли Уайлдера. Немного погодя, в другой главе, я представлю свои мерительные грамоты официальной покойницы. А теперь навострите уши, а еще лучше – с головой окунитесь в эту историю, полную любви и боли, пережитую мной в самом сердце души.
Итак, в тридцать четвертом году в Санта-Кларе, ныне Вилья-Кларе, одном из городов старинной провинции Лас-Вильяс, родилась Кука Мартинес. Отец ее был китаец, хозяин гостиницы и Кантоне, откуда и перебрался в Мексику. Там он сменил фамилию и отправился на Кубу подзаработать. Мать Куки родилась в Дублине, где прожила, правда, только первые два года. Старики по материнской линии привезли на Кубу трех своих отпрысков, девочек, тоже в надежде разбогатеть на торговле кониной – дед Куки был мясником по прозвищу Король-Тесак. Крошки подросли и превратились в трех рыжекудрых барышень с голубыми глазами. Младшенькая, которая декламировала в местном театрике французские стихи, из тяги, скорее, к экзотике, чем к азиатчине, влюбилась в повара-китайца без роду без племени. От союза ирландки и узкоглазого на свет появилось пятеро детишек: один умер еще младенцем, с другим в пятнадцать лет приключился полиомиелит, третий был хронический католик и астматик, четвертая страдала нервным расстройством, пятая же – Кука Мартинес, самая крепкая из всех и, кстати сказать, в ту пору еще совсем не старая беззубая уродина. Да, и Куке Мартинес тоже было когда-то пятнадцать, что на гаванском наречии означает – она цвела, была в самом соку и ни одна машина на всех улочках и переулочках Гаваны не проезжала мимо нее, не притормозив.
Когда Детке – а именно так, запросто называли все Куку Мартинес – стукнуло десять, ей пришлось переехать жить к своей крестной, Марии Андрее, потому что ее родительница с пышной и непокорной рыжей шевелюрой и влажными глазами цвета морской волны, ни за что на свете не желавшая прощаться со своей актерско-декламаторской карьерой, в конце концов рассталась с китайским родителем Детки Куки. Едва покинув супруга – с глаз долой, из сердца вон, – она подцепила восемнадцатилетнего любовника. Азиат, которому бремя четырех детей оказалось не под силу, остался с двумя, а двоих препоручил чернокожей крестной, которая вечно мучилась зверской зубной болью. У нее в доме Детка Кука научилась жарить, парить, стирать, гладить – в общем выполнять все женские обязанности (ох, не по душе мне такие выраженьица!). В свободную минутку, а она выпадала не часто, Детка с разрешения крестной играла с пустой пивной бутылкой, наряжая ее, как куклу. Ведь что правда, то правда: голодать она никогда не голодала, но нельзя сказать, чтобы у нее было много игрушек, точнее – их не было вовсе.
Скучать Детке Куке не приходилось, работала она как вол, а на досуге либо играла со своей куклой-бутылкой, либо грела во рту спирт и затем, по булькам, сплевывала его в гнилую пасть Марии Андреи, чтобы хоть как-то облегчить боль, вызванную кариесом. В этом же доме жили еще братец Детки Куки, хронический католик и астматик, и сын крестной, которому исполнилось двадцать три.
Как-то вечером, в один их этих жарких и прескучнейших сельских вечерков, крестная отлучилась на спиритический сеанс. Детка Кука осталась одна, пребывая в страшной тоске. Посуду она уже перемыла и устроилась шить новое платьице своей кукле-бутылке. Прищурившись, она вдевала нитку в иголку, как вдруг откуда ни возьмись появился светленький мулат – сын Марии Андреи. Писька у него уже была на взводе, только что из штанов не торчала. Подойдя к Детке, он влепил ей такую оплеуху, что она без чувств повалилась на циновку из мелких ракушек. Одним движением он сорвал с нее трусики, раздвинул тощие, розовые от сыпи ляжки и уже приготовился поразить ее пересохшую голенькую щель своим увесистым тараном, как дверь распахнулась и Мария Андрея, сама не своя, в медиумическом трансе огрела доской, в которой торчал гвоздь, сына-насильника, и тот бросился бежать, как сумасшедший, а из спины у него ручьями хлестала кровь. По дороге он мимоходом облегчился, использовав подвернувшуюся телушку, после чего попытался повеситься. Но так как веревку он спер в лавке и хозяин его засек, то не успел он пройти и ста метров, как его задержал полицейский, прямо под деревом, которое он облюбовал.
Очнувшись, Детка Кука почувствовала на языке прилипший сгусток крови. С помощью повитухи Мария Андрея удостоверилась, что приемная дочка сохранила девственность, а узнав, что сын в тюрьме, не упустила случая пролить пару крокодильих слезок. Она никогда не питала к нему материнских чувств, равно как и он к ней сыновних. Жили они, как кошка с собакой. Мария Андрея даже вздохнула с облегчением, сказав, что уж в тюрьме-то сынка воспитают, впрочем, тут же прибавив как бы в утешение, что «горбатого могила исправит», и так, словно эта мудрость не имела к ней самой никакого отношения, принялась надраивать цементный пол.
Прошло шесть лет. Светленький не успевал выйти из тюряги, как снова там же и оказывался то из-за какой-нибудь уголовщины, то из-за разбойного нападения, попытки изнасилования или автомобильной кражи. Однако всякий раз он ухитрялся извлечь из прошлых ошибок полезный опыт, так что наконец был освобожден вчистую и, хотя не захотел больше жить с матерью, частенько заходил ее навестить. Он сидел минут двадцать, не больше, ровно столько, сколько нужно, чтобы выпить чашку кофе, молча, ни на кого не глядя, словно что-то обдумывая, дыша как удавленник и источая запах вонючего тюремного пота.
Брата Детки Куки, хронического католика и астматика, поместили в каморке сына Марии Андреи – тонкая дощатая перегородка отделяла ее от выдержанной в колониальном стиле комнаты сестры. Как-то ранним утром, когда на улице ливмя лил дождь, Детка, к тому времени уже подросток (прозвище сохранилось за ней даже тогда, когда она достигла зрелых лет), услышала за стеной звуки, похожие на лошадиный храп, треск разрываемых простыней и одежды. Детка, скорее со страхом, чем с любопытством, чувствуя тот холодный спазм в желудке, когда одновременно тянет облеваться и обгадиться от ужаса, взглянула в щель. Взглянула – и чуть не вскрикнула, но губы и язык словно одеревенели. Чья-то рука намертво вцепилась в волосы ее брата, голого, исцарапанного, мокрого, с размазанными по лицу слюнями, плачущего и невнятно причитающего: «Бог мой, о Боже!»: Ягодицы его сально блестели в падающем через бесчисленные щели лунном свете, а могучее орудие светленького мулата яростно вонзалось промеж них, как дамасский клинок в трепещущее сердце. Детка Кука уставилась на стертую чуть не до мяса задницу брата, на мелькающий, весь в крови и дерьме, член. Она уже было собралась закричать, позвать на помощь бедняге католику и астматику. Но в этот момент светленький достиг верха блаженства и, замычав, впился зубами в спину своего дружка. А тот, смеясь и плача, все причитал: «Ах ты, мой боженька, сладенький мой, пригоженький». Действо возобновилось, и вот уже он был на седьмом небе, дыша так, слово у него сейчас лопнет грудная клетка, хрипло булькая, как водолаз, как человек-амфибия. С пронзительной болью и ужасом Детка Кука поняла, в чем состоит сокровенная услада хронического католика, и с тех пор научилась страдать молча и к игрушкам больше никогда не прикасалась. Увиденное тем утром зрелище, пропитанное запахом спермы и кала, нанесло Детке Куке тяжелую травму на всю оставшуюся жизнь – поэтому секс, неизменно притягивая ее, одновременно всегда внушал отвращение.
Когда ей исполнилось шестнадцать, она отправилась к мачехе и попросила у нее благословения, которое и было предоставлено ввиду экономической необходимости, а у отца – немного деньжат с обещанием вернуть в будущем. Потом попрощалась с крестной, причем не обошлось без слезливых и сопливых поцелуев, уверенная, что никогда больше с ней не увидится. Брату она сухо, но с материнскими нотками в голосе посоветовала не запускать астму. Впрочем он-то и без того знал от нее средство – свой любимый спрей, свой излюбленный внутриутробный бальзам.
До Гаваны Детка добиралась товарняком, который вез цистерны с молоком и подолгу торчал в каждом благословенном уголке этого Богом проклятого острова. Первые впечатления от прекраснейшей из латиноамериканских столиц у Куки Мартинес не сохранились. Полуживая от голода и жары, засыпая на ходу, Детка Кука дотащилась наконец до убогой хибары – так в те времена называлось то, что ныне именуется жилой площадью, – расположенной в Старой Гаване, на улице Конде, где обитала приятельница Марии Андреи, астурийка по имени Конча. Толстая, с жирной лоснящейся кожей Конча первым делом спросила, сколько ей лет.
– Только-только двадцать исполнилось, просто я всегда была щупленькая, – ответила Кука, чему ее собеседница, разумеется, не поверила ни на грош.
Между первой попыткой изнасилования и тем, что приключилось с ее братом, прошло шесть лет, стало быть, теперь ей было шестнадцать.
– Всего-т? – Несмотря на то, что букву «эс» астурийка произносила, прижав язык зубами, концы слов она глотала, как все гаванцы. Достав из-за выреза платья мужской носовой платок с завязанными на концах узелками – в нем она хранила деньги, – Конча размазала густую испарину на шее и на лбу и снова сунула платок в лифчик. Мгновение – и в руках у Детки Куки уже была швабра.
– Ты вот что, давай-ка пошевеливайся, – добавила астурийка, – работы невпроворот. Выделю тебе койку, вместе с Мечунгитой и Пучунгитой. Немного погодя посмотрю, может пристрою в кафе к Пепе, а пока будешь жить и харчеваться у меня и следить за домом, чтобы везде чистота была и порядок: в комнатах, в туалетах, на кухне, на лестнице, да хоть на крыше, чтоб все блестело как стеклышко, а не то отведаешь моих сандалий – ты посмотри, посмотри на мою обувку! – И она указала на свои деревянные шлепанцы с черной резиновой перепонкой. – Кроме того будешь готовить, ходить по делам, гладить, стряпать – словом, все, что мне в голову взбредет, все, что моей душеньке и пиздушеньке будет угодно. И смотри, чтоб ты знала, никаких там шур-мур с Мечунгой и подружкой ее, Пучунгой. Ты тут, чтобы работать, а не дурочку валять!
Чтобы на сей счет не оставалось никаких сомнений, поясню в двух словах, что Кука Мартинес была одной из тех многих деревенских девчонок, которые приезжают в Гавану без гроша за душой, молоденькие, неопытные, и в будущем им светит, скорей всего, место служанки и никаких надежд стать знаменитостью, потому что голос у Детки был такой, что она не осмеливалась напевать даже в уединенных местах, лапищи – не приведи Господь, и хотя после она и научилась вихлять бедрами в ритме ча-ча-ча или чего помоднее, но стать блистательной исполнительницей румбы ей это не помогло. Она умела только услуживать, быть покладистой и любить. Потому что Детка любила всех, а ее никто не любил, и ей так не хватало ласки! Особенно – материнской.
В мгновение ока все было готово: Детка вытерла везде пыль, отскребла ржавчину, вымела и вымыла полы, приготовила обед, перемыла и перетерла посуду, накрахмалила и выгладила белье, скопившееся за неделю. Завершив свои труды, неумытая и голодная, она рухнула на отведенную ей койку, трясясь от озноба, с температурой под сорок. Она даже не обратила внимания на обстановку комнаты. Чувствуя резь в слезящихся от жары глазах, она огляделась вокруг. С потолка свисал плачевного вида абажур со стеклянными подвесками, отсветы лампы и тени образовывали фантастический узор. Мебель выглядела молчаливым укором колониальной эпохе. Широкая кровать ритмично потрескивала под женские задыхающиеся стоны. Снедаемой жаром Детке на мгновение даже показалось, что это она сама задыхается и жалобно стонет. Но нет: два женских тела сладострастно терлись друг о друга, одно из них белое, другое – шоколадно-коричневое, шелковистое, точеное, как у танцовщицы из Тропиканы. Детка протерла кулаками глаза, чтобы убедиться, что это не сон. Нет, должно быть, две эти ошалевшие самки и были ее соседками по комнате, Мечунгитой и Пучунгитой. Прильнув друг к дружке, они напоминали двойной омлет, так что казалось, даже пахнет жареным, и искры летят во все стороны, как при коротком замыкании. Сосок к соску. Лобок к лобку. Пальцы, в дешевых перстеньках и колечках, со сверхсветовой скоростью бороздили межклиторное пространство. Вспухшие губы алчно припадали к любой выпуклости, любой впадинке. Они сжимали и царапали друг другу ягодицы до крови, щипались, упоенно взвизгивая. Кукита чуть не умерла со стыда. Почему жизнь все время подбрасывала ей сценки, до которых она еще не доросла? Не зная, как потактичнее обнаружить свое присутствие, она несколько раз энергично прочистила горло, но Мечунгита и Пучунгита не обратили на это никакого внимания. Тогда она кашлянула, и анальное ее отверстие произвело оглушительный залп. Пучунгита развернулась, взметнув черной как смоль гривой, и застыла: груди ее еще мелко дрожали, соски торчали, как две готовые выпалить пушки.
– Кто это тут расперделся, ты? – обратилась она к подружке.
– Вот еще! Сама ты!.. – протестующе воскликнула Мечунгита. Курчавые от природы, но распрямленные волосы ее торчали во все стороны, вид был встревоженный.
Наконец подружки заметили Детку. Вся дрожа, прижавшись спиной к двери, она выжидающе застыла. Мечунга и Пучунга натянули нижние юбки, мягкими складками спадавшие до колен. Трусики они надевать не стали, и лобки темными треугольниками просвечивали сквозь тонкую ткань. Подружки накинулись на готовую разреветься Кукиту.
– А эта образина еще откуда?
– Я почем знаю! Ты пернула?
Вконец запуганная Кука кивнула, живо представив, как омлетчицы-бисексуалки будут сейчас насиловать ее. Похоже, подружки читали ее мысли, потому что тут же откликнулись:
– И не воображай, нам с такими прыщавками делать нечего, – сказала Мечунгита. – Нам подавай мужиков и баб, у которых все на месте… А, так ты, наверно, Кукита Мартинес, новенькая! Детка, для таких дел ты еще маловата… разве что на черный день сгодишься!
Увидев, что подружки расселись по краям кровати и дружно закурили по сигарете «Кэмел», Кукита поуспокоилась и объяснила, что она здесь только для того, чтобы мыть, стирать, готовить, короче, помогать по дому… и зарабатывать на жизнь честным трудом. В конце концов, она всего лишь новая служанка.
– Хозяйка обещала предупредить, что я буду спать вместе с вами, в одной комнате… Вообще, старших я уважаю, чтобы и меня уважали, ни к кому не пристаю…
На что Мечунгита не без сарказма заметила:
– Никто тебе ничего не сделает, если сама не захочешь. Верно, Пучунга?
– Точно.
Не успела она это сказать, как глаза у Кукиты закатились и она шмякнулась на пол, как цыпленок, которому свернули шею, лишившись чувств от их избытка и, наверно, от температуры. Подружки взяли ее хрупкое тельце на руки и перенесли на кровать. Лежа, Детка выглядела еще более тощей, болезненной и жалкой. Пучунга сбегала и принесла в умывальном тазике воды со льдом. Детку растерли холодной водой с помощью смоченной в спирту ваты. Жар удалось быстро сбить, и Кукита мирно проспала до десяти вечера. Ровно в десять она проснулась со свежими силами, готовая, если что, снова взяться за уборку. Мечунга протянула ей тарелку с куриным бульоном. Детка с жадностью набросилась на него, прихлебывая и урча, как урчит раковина, сглатывая остатки воды.
– Только не вздумай часто болеть, не забывай, что служанка – ты… И научись прилично есть суп…
– Простите, больше не буду, – с мольбой в голосе заверила Кукита, вспыхнув от стыда.
Пучунгита между тем облекла свои безукоризненные формы в пунцовое платье из «тюленьей кожи», надела красные лаковые туфли на высоком каблуке и подвела губы бордовой, как вино из Риохи, помадой. Мечунга тоже начала прихорашиваться: она выбрала золотистое платье в обтяжку, высокие позолоченные сандалии и размалевала свой пухлый рот ярко-алым. Потом подружки густо напудрили спину, плечи и грудь. Что верно, то верно: гаванки любят появляться на людях так, что пудра с них сыплется ошметками. Надушившись, они снова закурили по «кэмелу». Вертясь перед зеркалом, они массировали животы, подправляли сзади платья, подтягивали их на груди. Последним штрихом были нарисованные черным карандашом родинки. Мечунга поставила кружок над верхней губой, а Пучунга на левой груди, прямо над сердцем. Кукита взирала на них в тупом оцепенении.
– А почему бы тебе не съездить с нами проветриться? – Игриво спросила Мечунгита.
Детка категорически замотала головой, втайне, впрочем, отчаянно завидуя своим соседкам и глядя на них несытыми глазами.
– Да брось, поехали, погуляем в «Манматре»! – Имелся в виду, конечно, «Монмартр». – Давай, давай, можешь надеть мое платье, я его носила, пока не отрастила такую грудку и попку… – принялась уговаривать ее со смешками и ужимками Пучунгита.
Не успела Детка опомниться, как ее уже нарядили в черное бархатное платье с голубыми блестками. Маленькие груди ее чувствовали себя неуютно в чересчур просторном корсете. Зато на бедрах платье сидело в обтяжку. Пучунгита подложила в лифчик ваты, и проблема была решена. Мечунга одолжила новой подруге черные лаковые сандалии.
– Слушай, ну и лапища у тебя! Мой сороковой тебе как раз, это в твоем-то возрасте – ну прямо бегемот!
Кукита спала на ходу. Вид у нее и вправду был забавный, даже нелепый в этом неожиданном наряде, с торчащими из-под подола волосатыми икрами и такими огромными ступнями, словно она надела ласты и собирается нырнуть. Пучунга не пожалела фантазии и размалевала ее уже не по-детски обаятельное лицо самым неприличным образом. Взглянув на себя в зеркало, Детка показалась себе красавицей, ведь стоит девушке в первый раз накраситься, и весь ее мир совершенно меняется: отныне в ней разбужена болезненная женственность, отныне она готова попирать любые законы. Подруги чуть не силком оторвали ее от зеркала и, взяв под руки и выведя в прохладу гаванской ночи, направились в сторону Аламеда-де-Паула. Там уже поджидал в своем «шевроле» их дружок Иво, компания собиралась в кабаре «Монмартр». Увидев Кукиту, Иво с чисто креольской иронией спросил притворно жалобным тоном:
– А эту поблядушку малохольную в какую больницу везти?
Пучунгита двинула ему со всего маху своей лаковой сумочкой и отколола застежкой ползуба. Потом все битый час ждали, пока Иво, ползая в темноте, не найдет осколок, чтобы завтра у дантиста прилепить его на место. Когда осколок наконец нашелся, был выковырян из асфальта и бережно укутан в носовой платок, все залезли в машину и покатили в сторону кабаре. Куките было очень не по себе от замечания Иво в ее адрес и от плюхи, которую отвесила ему Пучунгита – подбородок у нее дрожал, она скрипела зубами, чтобы унять дрожь, но наконец не выдержала.
– Дамы и господа… – произнесла она неожиданно глубоким голосом.
– Ты что, вообразила, что ты дикторша с телевидения? – прервала ее Мечунга, на что компания отреагировала истерически-историческим взрывом смеха, но юная Кука отважно продолжала:
– Сеньоры и сеньориты… заявляю перед всеми, что я никакая не блядь и вообще девушка… Я уже умею читать и писать, меня крестная научила, и, как только появится возможность, хочу продолжить учебу…
В ответ раздался такой гомерический хохот, что ехавшие в соседних машинах поневоле стали оглядываться – что же это такое происходит в «шевроле»? Кукита надула губы, собираясь заплакать, ей хотелось открыть дверцу и на полном ходу выброситься из машины. Именно это она и попыталась сделать, и, если бы не Пучунга, со всей силы дернувшая ее за рукав, так что бархат с треском порвался, лежать бы Куките, как бабочке, распластанной в куске ископаемой смолы, на асфальте Малекона.
– Эй, детка, не дури! Моча что ли в голову ударила? Блядей здесь никаких нет, на нас тоже можешь не думать. Мы с Мечунгой работаем продавщицами в «Шике» – знаменитый магазин… Ясное дело, тебе, деревне, не понять… Ну и вечерком тоже любим шикануть… только и всего. А что ты – девушка, никто и не сомневается. И чтоб ты знала, мы тоже ученые… тут все можно, было б желание.
Подруги попросили у Детки прощения, и в машине воцарилась гробовая тишина, прерываемая только оглушительными всплесками огромных волн, перехлестывавших через парапет набережной, заливая ее до самой середины, а иногда и до близстоящих домов. Ночь клубилась соленой туманной изморосью, в которой величественными желтыми маяками горели фонари, протянувшиеся цепочкой посередине дороги. Сквозняк, влетавший в приоткрытое ветровое стекло, быстро высушил слезы на лице Куки, которой вдруг необычайно ярко припомнились ее семья и безлюдье темных полей, и она не могла внутренне не сравнить их со светозарной Гаваной, такой прекрасной, такой незнакомой и такой ослепительной. Иво включил приемник, из которого сразу раздался хрипловатый, ни на что и ни на кого не похожий голос Игнасио Вильи, или Снежка. Он пел по-английски какую-то грустную мелодию. Кукита мгновенно, словно молния пронизала ее, ощутила связь между своим настроением и настроем этой песни, и хотя она ни звука не понимала по-английски, но что-то внутри нее говорило, что это ее песня и она наилучшим образом определяет ее состояние в эту минуту: «Remember, it's my heart, the heart with the wishes olds… Be careful, it's my heart…»
– А о чем эта песня? – спросила она, волнуясь и чувствуя между ног жаркую испарину, наплыв вагинального томления.
– Да так, про сердце, глупости всякие… – И Мечунга визгливым голосом и, прямо скажем, не в лучшем переводе начала напевать мелодию по-испански: – Помни, это мое сердце, где полно старых желаний… Поосторожней, это сердце мое, ля-ляля… Все, дальше слова забыла.
Кукита глубоко и звучно вздохнула, уже влюбленная в обладателя этого дьявольского, этого мелодичного голоса. Пучунга мгновенно угадала ее чувства и парой убийственных фраз разрушила хрупкий воздушный замок:
– Да, голос у этого чернявого Снежка не слабый, прямо мурашки бегают, жаль только, что он пидор черножопый! – и, взглянув на удивленное лицо Куки, воскликнула: – Только не спрашивай, что такое пидор, придет время – сама узнаешь! А если хочешь их живьем увидеть, можешь сходить в ресторан «Монсеньор» или… – в голосе ее зазвучали иронические нотки, – садись на самолет и езжай в Париж, там, говорят, с этим полный ажур…
Ночь пропиталась запахом моря, зелени и дешевого парфюма, услышанная мелодия продолжала колдовски звучать в сердце Кукиты. В сердце, которое ей, еще девочкой, так хотелось вручить кому-нибудь, чтобы о нем позаботились, как о самой бесценной безделушке. Ей срочно нужен был человек с доброй, широкой душой – и с деньгами, не нищий, – который бы холил ее и лелеял. Иво опустил складной верх автомобиля. В образе этого «шевроле» я хочу воспеть все машины из романов Кабреры Инфанте. Соленый ветер растрепал прически дам и ощутимо подпортил им макияж, въедаясь в наложенный густым слоем «Пондс». Кукита подумала, что мужчина, настоящий мужчина с волосатой грудью, вечный любовник типа «highlander»[4]4
Горец (англ.)
[Закрыть] мог бы подарить ей ласку, которой она никогда не знала за все свое тревожное детство.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?