Текст книги "Детка"
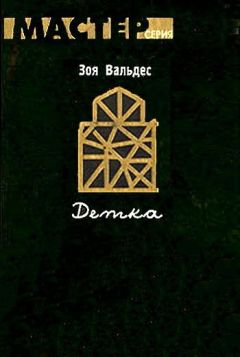
Автор книги: Зое Вальдес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Уан пересел, вплотную придвинувшись к красноречиво трепещущей Детке. Она подняла бокал двумя руками и, не отрываясь, выпила коктейль до дна. Потом пальцами стала вытаскивать кусочки льда, обсасывать и шумно жевать их. Как назло музыка опять стихла, и на весь зал разнесся хруст льдинок, крушимых зубами Кукиты. Уан глядел на нее не отрываясь; когда в бокале остался последний кубик, он попросил, чтобы она дала ему его изо рта в рот. Она подчинилась, и густой холодный аперитив мгновенно превратился на языках у обоих в непристойно горячую слюну.
Поцелуй начинался скромно, льдинка соскальзывала с языка на язык, но, когда она наконец растаяла, языки мгновенно сплелись, как змеи, и невинная забава превратилась в порнографию. Уан все сильнее покусывал губы Куки, она отвечала тем же, однако все еще слишком робко и скованно. Поцелуй продлился три болерона – первый на четыре минуты, второй на три минуты двадцать секунд и третий на четыре минуты тридцать три секунды. В общей сложности это составило одиннадцать минут и пятьдесят три секунды напряженной работы языков и губ. Хронометристкой была Мечу, задыхающаяся, вне себя от зависти и возбуждения.
Звуки тромбонов доносились до Кукиты Мартинес словно из другого измерения, в одном ритме с биением крови, приливавшей к голове, сердцу и, разумеется, к вполне оживленному пенису Уана. Куките казалось, что огни «Монмартра» гаснут один за другим и мало-помалу включаются внутри нее, высвечивая каждую часть ее тела, каждый кубический метр ее желания. Она закрыла глаза, но, когда все остальное в ней открылось, вспомнила, что под венец идти надо девственницей. Изо всех сил отпихнув от себя Уана, она истерически возопила «не-е-е-т!!!», как кричат в мистических триллерах, которые на развес продаются в разнокалиберных лавчонках всего мира, кроме, разумеется, Кубы. Эхо ее леденящего вопля разнеслось по всем углам, и она пулей выскочила из кабаре, этого пышного гнезда соблазнительного порока.
Она бежала, босая, с такой скоростью, что даже ступней было не разглядеть, а это, учитывая их неординарные размеры, что-то да значит. Словно по воздуху, пролетела она мимо подъездов, выходящих на Малекон. Подобно Ане Фиделии Киро, знаменитой бегунье будущего, одолела она бульвар Прадо. Не останавливаясь, чувствуя, что сердце бьется где-то в горле, ощущая непереносимую резь в селезенке, она оставляла позади квартал за кварталом, километр за километром. Быстрее ветра оказалась она на железнодорожной станции, в двух шагах от улицы Конде. Не успев и глазом моргнуть – уже стояла перед дверью жилища астурийки. С выпученными глазами, с пеной у рта, вся в поту, она взбежала по лестнице. Сейчас это была вылитая сумасшедшая, сбежавшая из Массоры после полусотни электрошоков подряд. Войдя к себе в комнату, она заперла дверь и бросилась на койку, оплакивая свою проклятую, а может быть, кто знает, благословенную судьбу. Она была по уши влюблена.
Примерно через полчаса вернулись и соседки Кукиты, пребывавшие под сильным впечатлением от ее необычного поведения. Ни минуты не медля, они подвергли ее безжалостному допросу. Детка на все отрицательно мотала головой, рвала на себе волосы и не могла издать ни единого связного звука, в точности копируя те, запомнившиеся ей с детства, радиомонологи, где актрисы изображали подобные ситуации. Подружки принесли кувшин холодной воды, приложили смоченный платок к вискам Кукиты и заставили ее выпить полтора графина ледяного лимонада. Мечунга обтерла всю ее полотенцем, раздела и отвела в общий душ. Струя холодной воды – властным напоминанием о реальности – обрушилась на бедную голову Куки. Стоя под душем, Детка рыдала с подкупающей, неистовой искренностью.
– Я люблю его, люблю, Мечунгита! Я его люблю, и мне его до смерти не хватает! – Она чуть не захлебнулась пеной, закашлялась, и огромный мыльный пузырь вырос у нее на губах.
– Детка, ты просто ненормальная – зачем же ты его тогда нажгла? – резонно заметила Пучунга, стоявшая у косяка, и искоса, не без зависти разглядывавшая розовые соски нетронутых девичьих грудей Карукиты.
– Потому что… потому что…
Детка вдруг поняла, что не знает, как ответить, ибо даже ей самой была непонятна причина столь дикого поведения – быть может, то было влияние «танца апачей», быть может, нервы…
– Просто разволновалась, послушай, ведь я первый раз так целуюсь, прямо в губы… черт!
– Для первого раза – неплохо, – не удержалась Мечунга.
– Не смейся!.. Я убежала, потому что… не знаю… Потому что он никогда на мне не женится… – и она снова закрыла лицо руками.
Подруги недоверчиво переглянулись, уверенные, что какой-то неведомый вирус бродит по темным закоулкам этой юной души, и им даже расхотелось смеяться над нею. И почему он должен был жениться? Наконец Мечунга досуха вытерла ее – так, словно осторожно ее ощупывала – и, ласково приобняв, снова отвела в комнату. Лежа под прохладными простынями, освеженная и напудренная Детка попыталась уснуть. Его лицо было так близко… Казалось, она может коснуться его. Оно неподвижно застыло у нее перед глазами, как фотография вечности. Пучунга принесла стакан горячего молока, в котором предусмотрительно растворила четыре таблетки мепробамата. Кукита выпила все до конца, при каждом глотке производя звук, похожий на тиканье невидимых часов. Вернув стакан, она вытерла губы тыльной стороной ладони, натянула простыню до подбородка и закрыла глаза, уверенная, что сейчас ей приснится ее Хосе Анхель Буэса, поэт уличных страстей, ее Уан.
Глава третья
Французская роза
Эта роза из Франции, белоснежная, нежная,
майской ночью мне дарит благоуханье…
(Авт. Родриго Праттс.Исп. Барбарито Диес)
Восемь лет прошли как во сне. И дело вовсе не в четырех таблетках мепробамата, ей самой так захотелось. Как могла она вновь увидеть его, если ничего для этого не делала? Просто вбила себе в голову, что это он, как мужчина, должен искать, добиваться ее. Она больше ни разу не покидала пределов Старой Гаваны, а на все приглашения неразлучных Мечунги и Пучунги вместе сходить в кабаре отвечала отказом. Подруги тоже, в свою очередь, ни разу его больше не видели. Исчезновение Уана лишь обострило желание в Детке Куке. Любовь с первого взгляда очень скоро превратилась в навязчивую страстность, пылкое, потаенное обожание. И каждую ночь, пав на колени перед своим воспоминанием, она выла, как сучка, или шептала молитвы, как монашка перед распятием в храме. Все время ее уходило на непосильную работу и ожидание. Она ждала его. Мужчину своей судьбы. Хотя сама не оставила ему ни адреса, ни малейшего следа, по которому ее можно было бы отыскать. Работала она как вол, так что через три года астурийка даже предоставила ей право на отдельную комнату, свою комнату; если бы она читала Вирджинию Вулф, то в знак благодарности непременно поставила бы своей хозяйке свечку. А пока ей по-прежнему приходилось мириться с сексуальными игрищами своих подружек. Когда же к ним присоединялся третий, мужчина или женщина, ей приходилось проводить ночи до самого рассвета на лестничной площадке – в отчаянии она плакала, тараканы ползали по ней, обследуя с ног до головы (кто бы мог тогда подумать, что на старости лет она заведет себе одного, к которому будет относиться как к постоянному жильцу, дорогому гостю, почти как к члену семьи), и крысы только что не хватали ее за пятки. Так продолжалось до тех пор, пока астурийка однажды не нашла ее спящей в общем душе – капля из вечно текущего крана долбила ей макушку – и, сжалившись, велела перебираться в комнату на крыше. Солнце здесь пекло нещадно, однако теперь у нее был, по крайней мере, собственный угол. Мечунга и Пучунга продолжали трогательно заботиться о ней, она же научилась любить их как двух безнадежно пропащих тетушек. Хотя днем они и в самом деле работали продавщицами в «Шике», зарабатывая на жизнь вполне приличным путем. О своей настоящей семье она ничего не знала, но считала святой обязанностью посылать все деньги крестной Марии Андрее – та сама взялась делить их между отцом, братьями, сестрой и матерью, так как родительнице Куки не хватало жалких театральных заработков, и раз за разом она спускала все на то, чтобы ублажать очередного прохиндеистого юнца.
Как-то под вечер в доме появилась еще одна щупленькая девочка: ей только-только исполнилось пятнадцать, она искала работу и жилье. Конча приняла ее по своему обыкновению, с деревянным шлепанцем в руке, точно так же, как и Кукиту, так что теперь работу по дому можно было делить на двоих. Таким образом у Кукиты неожиданно оказалось свободное время, свой досуг. Тогда астурийка определила ее в государственный кафетерий «Хуанито» на углу. Там вечерами она торговала кофе по три сентаво за чашку. К тому же ей хотелось учиться. А поскольку теперь она получала больше, то постаралась откладывать хотя бы крохи, не забывая, впрочем, отсылать прежнюю сумму своему многолюдному семейству. Сэкономленного едва хватало на покупку книг – ведь теперь ей приходилось платить астурийке за жилье. Однако случай свел ее в китайской прачечной на Хесус Мария с учительницей, жившей на улице Мерсед, и та при условии, что Кукита будет сидеть с ее престарелой матерью по субботам и воскресеньям, когда сама она отлучалась в Матансас, чтобы встречаться с мужем-колдуном, согласилась давать ей уроки бесплатно. Так Куките Мартинес удалось получить школьное образование, а потом и степень бакалавра – пускай поздно, но все лучше, чем никогда.
А вообще это история о любви и боли, как та, из песни Марии Тересы Веры. Это как роза, о шипы которой человек неопытный обязательно уколется, но про то и поется в песне: «О любовная рана, эта сладкая боль». Я еще поговорю об этом подробнее в одной из глав, несмотря на то, что думает по этому поводу Пепита Грильете, моя революционная совесть, то есть я хотела сказать, моя крестная, впрочем, так ее называть не следует, это может ей повредить – пусть некоторые слова и по сю пору разрешены к употреблению, но кто знает, сколь долго это разрешение продлится… Как я уже говорила, это короткая история одной бедной крестьянской девчонки – из тех, что приезжают в Гавану без гроша и становятся лиценциатами.[6]6
Ученая степень в некоторых университетах, средняя между степенью бакалавра и доктора.
[Закрыть] Вопреки официальной статистике я не понимаю, почему все они должны были стать проститутками, а не получили образования еще до победы революции. С годами я убедилась в том, что любую историю можно рассказать на любой манер, смотря по тому, как больше нравится рассказчику. Многим, из последних сил, удалось выучиться, я знаю таких, и не за счет проституции, а потом и кровью добиваясь своего. А это самое трудное. И это здорово стимулирует. «Трудности – вот истинный стимул», – как писал Хосе Лесама Лима. Хосе Ламама Мима, Хосе Маменькин Сынок. Так вот, чтобы не разводить канитель: Кукита была одной из них, хотя ей и не удалось стать лиценциатом – помешал сущий пустяк. Она не смогла поступить в университет из-за одного типа, своей единственной любви, и из-за долларовой бумажки. История человечества полна Любовей, болей и долларов. Не следует забывать о том, что в 1626 году голландец Петер Минойт, протестант-гугенот, приобрел Нью-Йорк, в те времена Новый Амстердам, за двадцать четыре доллара, выплатив сумму стеклянными бусами.
Но никакая математика не могла разрешить в душе Кукиты загадку того «икса», каким был для нее Уан. Какая-то еще не исследованная точка ее влагалища продолжала пульсировать с той самой ночи, когда он мял, кусал ее губы и язык своим пахучим, очень пахучим ртом, благоухавшим и вонявшим одновременно мятой, луком, гнилым зубом и гнойными пробками. Все в ней взывало к нему. С той ночи ее внешность стала более чувственной; конечно, речь идет не о сногсшибательной красоте, но при взгляде на нее невольно перехватывало дыхание. Она носила тридцать шестой номер лифчика, а это значит, что груди у нее могли прийтись по вкусу самым разным потребителям – ни слишком большие, ни слишком маленькие, одним словом, достойные. Весила она сто пятнадцать фунтов, ростом была метр шестьдесят семь. Талия – осиная, бедра в меру широкие, задок торчком, как у негритянки, ляжки крепкие и продолговатые, икры точеные, щиколотки тонкие. Ступни, правда, большие, тут уж ничего не попишешь, лапища она и есть лапища, что здесь, что в каком-нибудь Свинокитайске, и хотя известно, что в Париже в двадцатые годы считалось особым шиком иметь внушительных размеров лапу, – в Гаване это считалось непростительным, и женщина с обувью сорокового размера была здесь, как говорится, преступлением против человечности. Тогда Кукита решила скрыть этот недостаток. Она надевала туфли на два размера меньше и к концу дня готова была отрубить себе пальцы топором – такую невыносимую боль причиняла работа в тесной обуви. Короче говоря, каждая вторая машина останавливалась при виде ее, правда, уже не в пятнадцать, ну пусть в двадцать – это почти одно и то же. Добавляла перцу и ее своеобычная походка, сдержанно китайская и одновременно по-ирландски скрыто страстная – справа налево, слева направо, – так что даже самый законченный импотент чувствовал в том самом месте приятное напряжение.
Заперевшись на ключ в своей комнате-парилке, обливаясь потом, она, благо никто не видел, сбрасывала платье и подолгу завороженно разглядывала себя в продолговатом зеркале на дверце шкафа, сработанного в том же стиле немого упрека колониальной эпохе. Ей нравилось гладить себя между ног и воображать, что это Уан ворошит ее черную густую поросль – Кукита была волосатенькая, и лобок у нее тоже пышно кучерявился. Вся эта ладная комбинация плоти, волос, костей и мозгов была она. И она принадлежала своему мужчине – Уану. Дивный феномен – тело двадцатитрехлетней девственницы, и где? – в полусумасшедшей, без царя в голове Гаване, весьма неодобрительно относившейся к девственницам. Детка – ни в чем другом она не была такой деткой – не без тщеславия думала о том, что ни разу не позволила прикоснуться к себе какому-нибудь, там Пипо, Папи или Папиррики. Увы, так все гаванки называют своих возлюбленных. И зовись ты хоть Гийом, хоть Фредерик, хоть Андрее, хоть Джон, хоть Ричард, хоть Франсиско, – все равно рано или поздно станешь Пипо, Папи или Папиррики.
Терпеливо, как зверь, она выжидала в клетке Старой Гаваны, куда сама себя засадила, переносила все тяготы наказания, которому сама себя подвергла, ни шагу не делая, чтобы найти его, потому что это он должен был явиться к ней, или, на худой конец, случай мог сотворить чудо и свести их вновь. Так думала она, пока однажды субботним днем, пользуясь свободной минуткой, не вышла на свою крышу в купальнике, не облилась ведром соленой воды, не намазалась кремом для загара и не легла на солнышке. В одном из домов неподалеку кто-то включил радио, в эфире раздался мужской голос, полный непередаваемого изящества. Куките вдруг стало трудно дышать, в груди разлился жар, сердце забилось, как сумасшедшее. Диктор объявил, что песня называется «Французская роза» и Барбарито Диес исполняет ее в знак почтительного приветствия примадонны chanson française,[7]7
французский шансон (фр.).
[Закрыть] он так и произнес это по-французски, божественной Эдит Пиаф, которая возвращается на Монмартр, чтобы:
– Обаять нас всех дьявольскими чарами своих песен. Эдит Пиаф щедро дарит нам свое искусство. Около трех часов ночи в гаванском аэропорту певицу встречали Рамон Сабат, президент компании «Панарт», распространяющей ее пластинки, и Марио Гарсия, менеджер «Монмартра». Артистку сопровождал представитель управления по связям с общественностью Хуан Перес, тоже долгое время находившийся за границей, это именно ему удалось привезти к нам парижскую знаменитость, а также фотограф Эдуард, ну вот, наконец-то нам удалось разобрать его фамилию, Матюсьер. Первое, что сделала Эдит Пиаф – спросила у карт и у ракушек, будет ли успех сопутствовать ей в Гаване, после чего, вооружившись французско-испанским словарем, принялась учить слова, чтобы самой объявлять публике свои новые песни. Ее успехи в испанском были просто потрясающими. Но, конечно же, главное, что нам нравится, это ее песни, ее прекрасный парижский акцент – в кабаре состоялось уже два представления при полном аншлаге, и публика просит еще. Ей хочется слушать и слушать это божественное пение, смотреть на это черное скромное платье, кстати, выступает артистка в туфлях без каблуков. Единственное украшение, с которым она выходит на сцену, это ее голос. Тот самый голос, который двадцать лет тому назад растроганные парижане слушали на углу улицы Труайон и в других сентиментальных уголках Парижа. Когда она выходит к вам, особенно если вы видите ее впервые, могу почти наверняка сказать – вы будете удивлены. Неужели возможно, подумают те, кто ничего о ней не знает, чтобы у знаменитой певицы была такая крошечная головка, плоское лицо без всякого грима, эти чуть длинноватые руки и скрюченные пальцы? Для заурядного зрителя главное украшение артистки – это ее драгоценности. Где же драгоценности этой звезды, которая получает самые высокие гонорары в мире? Ответы на все эти вопросы – в ней самой. Когда оркестр начинает играть вступление к песне, Эдит Пиаф, эта великая môme[8]8
малыш (фр. арго).
[Закрыть] (насколько припоминаю, это значит «мумия») Парижа, изо всех сил напрягая свою память, дает красочный испанский перевод слов. Зритель, который видит ее впервые, все еще не может понять смысл этого скромного, почти бедного наряда. Какая-нибудь госпожа, знающая толк в роскоши, может даже посочувствовать ей, ведь на ней нет ни драгоценных колец, ни серег. Но… Эдит Пиаф начинает петь. Первые фразы, такие же скромные и сдержанные, как и весь облик певицы, уже поразили слух этой толпы бедняков, разряженных в разноцветные сверкающие одежды. В зале воцарилась напряженная тишина. Один из пунктов договора, который обычно подписывает Эдит Пиаф, требует, чтобы во время выступления обслуживание посетителей было полностью прекращено, даже если кто-нибудь попросит всего лишь стакан воды. Но публика не знает об этом условии и выжидательно молчит, глядя на хрупкую, бедно одетую фигурку на сцене. В чем причина этого молчания? В голосе Эдит Пиаф. В этом пронизанном болью голосе, поющем грустные грубоватые песни, в интонациях, подобранных певицей на парижских улицах. Конечно, слушатели не могут понять все до конца. Вот сидят несколько американских туристов. Остальные – кубинцы, никогда не выезжавшие дальше Майами. Но, когда поет Эдит Пиаф, все понимают, что она выражает чувства неизмеримой глубины. Это угадывается по надрывному звуку ее голоса. По смертельной тоске устремленного вдаль взгляда. По вялым движениям рук, которые, кажется, живут своей самостоятельной жизнью. Дочь циркового акробата и прачки, она убегала из своего дома в парижском предместье куда-нибудь на перекресток тихих улочек в центре Парижа, где прохожие могли слышать ее слабый детский голосок. Одевалась она точно так же, как сегодня, и ходила босая. Когда она, раскинув руки, обращала взгляд своих сумрачных глаз к небу, ее хрупкая фигурка в черном траурном наряде напоминала висящее в каждом доме распятие. Кто-то попросил ее спеть что-нибудь повеселее. Потому что якобы атмосфера кабаре не располагает к тоскливым песням. Если она и услышала эти слова, продолжая улыбаться улыбкой печальной девочки, то, скорее всего, простила их. Потому что однажды она уже слышала подобное, и, поскольку речь шла о публике, по большей части состоявшей из миллионеров и записных красавиц, Эдит подумала, что, может быть, ей и не стоит выступать в том же виде, в каком она привыкла появляться на парижских улицах. Одна модельерша, используя советы Арлетти и Mapлен Дитрих, разработала для нее уникальную модель роскошного платья. Знаменитый салон красоты загримировал ее по последнему крику моды. С помощью аксессуаров и украшений из нее попытались сделать что-то вроде дорогого манекена. И она вышла и пела, сияя роскошью и изяществом. Но с того вечера овации становились все более скупыми и неискренними. Публика хлопала из вежливости. После концерта следивший за ней импресарио поспешил в гримерную. И, не говоря ни слова, сорвал с шеи Эдит изумрудный крест. Потом приказал снять роскошное эксклюзивное платье и снова надеть те старые нищенские лохмотья, которые напоминали времена, когда она без крова над головой бродила по улицам своего родного города, сентиментального Парижа.
– А теперь, Эдит, – сказал он ей, – теперь иди и спой им.
И она снова стала Эдит Пиаф, всеобщей любимицей. Французская роза, как из песни, которую исполняет в ее честь Барбарито Диес:
Эта роза, изысканная, как молчанье,
колдовская, чудесная и прелестная,
эта роза из Франции, белоснежная, нежная,
майской ночью мне дарит благоуханье.
И вот голос негра, самого элегантного и сдержанного (когда он пел, лицо его обращалось в маску, тело застывало), самого прекрасного, скромного и простого на всем острове и за его пределами, смолк. Песня кончилась, и сосед выключил радио. Детка вдруг поняла, что плачет. Но наворачивающиеся на глаза крупные слезы мгновенно высыхали в лучах палящего солнца. Почему она плакала? По многим причинам. Она плакала из-за песни – дансона из тех, которые уже не сочиняют, написанного специально для аристократического голоса Барбарито Диеса. Она плакала от жалости, растроганная историей французской певицы – ее бедным платьем, ее печалью, ее некрасивой и вместе с тем прекрасной внешностью, ее пламенным желанием петь несмотря на полную горьких разочарований жизнь. Но главное, она готова была рыдать навзрыд, потому что из головы у нее не шло имя господина из управления по связям с общественностью – Хуан Перес. Диктор утверждал, что его долгое время не было на Кубе. Может быть, поэтому он и не искал ее, из-за работы? Но как его угораздило столь неожиданно сменить род занятий? Когда они познакомились, он торговал всем на свете, всем, что попадется под руку – готов был продать даже собственную мать, будь у нее побольше лошадиных сил. Как он достиг таких высот? А еще ведущий сказал, что именно Хуан Перес добился согласия француженки на выступление. Может, он влюбился в певицу? Забыл ее, Куку, ради другой? Конечно, какое может быть сравнение. К тому же француженка! Кукита заскрипела зубами от ревности. А если все ее иллюзии – только иллюзии? Она вовсе не хотела жить ложными иллюзиями, надуманными страстями, как героини радиопостановок, хотя уже знала от учительницы, да и в словаре было написано, что неправильно говорить ложные иллюзии, что это тавтология, потому что всякая иллюзия по сути своей – ложная. К тому же есть знаменитая пословица: кто живет иллюзиями, умирает от разочарований. Но разве до сих пор она жила не иллюзиями? А если этот Хуан Перес вовсе не Уан? Уж кого-кого, а Хуанов Пересов в Гаване и окрестностях хоть пруд пруди. Так он это или не он? Если он, то наверняка станет ее искать. Но как? Ведь у него даже нет ни одной ее фотографии! А сколько таких Кукит Мартинес на всем острове! Столько же, сколько дочерей Ушасы, а это девяносто девять процентов женского населения.
И снова, восемь лет спустя, она почувствовала непреодолимое желание напомадиться поярче, навести лоск, как подобает истинно светской женщине, надеть роскошное вечернее платье, лаковые туфли на высоких каблуках, нейлоновые чулки (жарко в них обалденно, но зато красиво!), припудрить спину и грудь и прямиком отправиться в «Монмартр». Пока эти сумасшедшие мысли проносились в ее голове, она рыдала взахлеб. Чем больше думала она о своем возлюбленном, тем больше текло у нее из обеих ноздрей. В конце концов она порывисто поднялась, утерла полотенцем слезы и сопли и в один миг решилась на то, что запрещала себе долгие годы: отправиться на поиски Уана.
Пока она мылась в большом тазу у себя в комнате, на улице успело стемнеть. Кукита вышла на крышу – здесь было прохладнее – в домашнем халате, обмотав голову полотенцем. Огромное, ярко-красное солнце, как в замедленной съемке, как в дурацком кино, опускалось за дома– казалось, оно навсегда скрывается в неведомой морской глуби. С любого места крыши Куките был виден океан – ей нравилось жить высоко, близко к свету, и чувствовать себя повелительницей всего, что лежит вокруг. Где-то снова включили радио, послышался поющий женский голос, похожий на чириканье городских воробьев. Несомненно, это была та самая француженка. Вечерний ветер разносил над крышами трепетную, жалобную и страстную мелодию, родившуюся на другом краю земли. Кукита не понимала ни слова, но была абсолютно уверена, что певица поет о любимом человеке, которого судьба вырвала из ее жизни. Ей захотелось побежать вслед, за этим голосом, голосом самой любви, захотелось стать такой же, как эта женщина и так же как она восхитить весь мир! Она забыла даже о Хуане Пересе. Больше всего сейчас ей хотелось оказаться рядом с обладательницей этого пронзительного голоса – хотя бы увидеть ее поближе.
Кукита подбежала к черному зияющему люку, спустилась по лестнице, прыгая через две ступеньки, и вихрем ворвалась в комнату Мечунги и Пучунги.
– А вот и наша голубка из своей голубятни. Она, видно, думает, что живет в солярии – только что видела, как она там жарится, точно банан или отбивная… эй, ты, не забывай, что живешь на чердаке… нечего делать вид, будто у тебя там отель «Ритц»… – Пучу была явно в брюзгливом настроении.
– Что это ты к нам в таком наряде, такая сексуальная, соблазнительная, этот халатик, эти влажные волосы?… – с издевкой спросила Мечунга.
Кукита заколебалась, прежде чем ответить, ей было не до шуток, но… Просто она хотела узнать, не собираются ли они куда этим вечером, тогда, может быть, они согласятся проводить ее в одно место… Она была так взволнована, что попросила сигарету – она, которая за всю жизнь не сделала ни одной затяжки, и вот, представьте себе, теперь ей захотелось курить. Нет, она ни в коем случае не собирается никого беспокоить, но ей так скучно, хочется встряхнуться, увидеть новые лица, снова почувствовать себя женщиной, то есть существом желающим и желанным, хочется, наконец, перестать быть тем, чем она была до сего дня: хозяйственным орудием, ломовой лошадью, половой тряпкой, корзиной, полной грязного, вонючего белья. Ей осточертело ждать, изводить себя – чего ради? Если ей не удастся изменить свою жизнь, она сойдет с ума. Она уже готова грызть ногти и выть от тоски. Стоит ей только услышать песню о любви, какое-нибудь болеро, вообще любую музыку, как у нее тут же наворачиваются слезы и она рыдает, словно героиня какой-нибудь радиопостановки или мыльной оперы. Каждая песня оставляет шрам на ее тусклой, бесцветной жизни. Ей не хватает ласки, не хватает жизни, не хватает…
– Петушка, дорогая, петушка тебе не хватает. Нельзя так жить, как ты живешь, без всякого сексуального стимула, – прервала ее Мечунга.
– Детоньке не хватает петушка, а может, курочки? Не-ет, если бы так – за чем дело стало, курочек тут хватает, – насмешливо заметила Пучунга.
Ей нужна только одна вещь – пойдемте туда, отгадайте куда – всего одна небольшая услуга, чтобы… чтобы они сегодня вечером сводили ее в… кабаре. В кабаре?! – воскликнули в унисон подруги. Ну тебя и бросает – вчера еще ходила как монашка, а сегодня на блядки потянуло! Кукита рассказала все: и о передаче по радио, и о предполагаемом имени своего предполагаемого возлюбленного, но главное – об удивительной истории Эдит Пиаф, почти такой же трагической, как и ее собственная. Сочетание стольких исключительных качеств в одной женщине, весьма невзрачной на вид, если верить диктору, пробудило в Куке желание расшевелить свой угаснувший было чувственный аппетит к окружающему миру. Подружки все поняли и сразу же согласились. В конце концов сами они за все эти восемь лет не пропустили ни одного вечера. Не было бара, ресторана, кафе или кабаре, завсегдатайшами которых они бы не считались, при этом их неизменным шофером оставался Иво, самый услужливый и самый незаменимый мужчина на всем нашем островке. С тех пор как Иво стал их любовником, он уже тысячу раз получал расчет и столько же – милостивое разрешение вернуться. И вот в тот самый момент, когда окончательно стемнело и на город спустилась ночь, ясная, во всем своем звездном великолепии (о эти звезды, я пишу о них во всех своих романах – ни на что не похожие, потрясающие, возвышенные, дивные, непревзойденные… ладно, ладно, перестаю занудствовать), так вот именно в этот самый момент, осиянный огнями первых светляков, трое дамочек вышли на улицу, расфуфыренные, как королевы карнавала. Иво уже поджидал на Аламеда-де-Паула в ослепительном новом «шевроле» последней модели. Он предпочитал хранить верность «шевроле», потому что однажды, решив попробовать «студебекер», пять раз подряд угодил в аварию, после чего дружки долго подкалывали его насчет «студебекеров», «студебакеров» и проч. В тот вечер Малекон показался Детке еще более обворожительным, чем восемь лет назад. Да, такая уж она, Гавана: чем больше по ней колесишь, тем больше любишь. Она никогда не надоедает и всякий раз кажется только прекраснее, потому что всякий раз тебя ждет новое приключение, новый обольстительный соблазн, от которого сердце тает, как сливочное мороженое. Даже обратившись в развалины, даже расставаясь с последней из своих иллюзий, Гавана всегда останется Гаваной. И если ты будешь бродить по ней, вчитываясь в книги, написанные в ее честь, где этот город появляется как некая кудесница, если вместо того, чтобы изучать Гавану, как то делал историк Эусебио Леаль, ты приласкаешь ее как усталую полуночницу, запутавшись в собственных сомнениях и долгах изгнанничества, с мукой невозможности, которая, согласно Лесаме Лиме, Маменькиному Сынку, и есть единственный стимул, – ты поймешь, что Гавана – это город, полный не только боли, но и ожидания любви.
В кабаре яблоку негде было упасть. Пришлось выждать какое-то время, пока чувства, жадно впитывающие все подряд, как пересохшая губка, не привыкнут к запаху рома и табачного дыма, дорогих духов и вульгарных дешевых одеколонов, не научатся различать переливы настоящих драгоценностей и смиряться с наглыми подделками, не смогут хорошенько разобраться, чем одна женщина лучше или хуже другой и почему при равных вырезах у одной грудь смотрится жалко, а у другой так и выпирает наружу. Следовало вникнуть в тонкую природу различий между капроновыми и шелковыми чулками, оценить мужские стрижки, ухоженность усов и подбородков, пахнущих «Олд Спайс» или «Роже Галле», обозреть галстуки, чтобы наконец подметить: человек двадцать из присутствующих носят в узле жемчужную заколку, кое у кого поблескивают крошечные, едва заметные бриллиантики, большинство же ходит с самым банальным зажимом, а то и вовсе ни с чем. Помимо этого нужно было самой какое-то время постоять на месте под встревоженными взглядами, чтобы приучить их к себе и успешно вписаться в пространство. Только так можно раствориться в этой смачной жизни, насыщенной музыкальным ритмом и желанием, которые единственно и составляют подлинное оправдание нашего бытия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































