Текст книги "Детка"
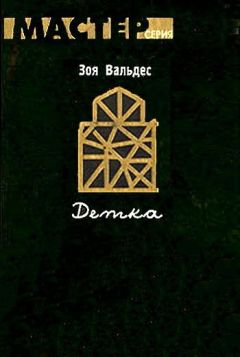
Автор книги: Зое Вальдес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Я уже и не знала, как благодарить подружек за поддержку моей идеи и за то, с каким пылом они взялись воплощать ее в жизнь. Они были правы: лучше Иво никого не найти. Идеальный вариант. Не без тревоги я подумала: что сказал бы Уан, узнай он, что у него есть красавица дочь, которая готовится отметить свое пятнадцатилетие по высшему классу. Потом представила, что подумают все остальные. И только о самом главном подумать забыла – что скажет на все на это виновница торжества.
– Никогда! Что еще за буржуазность! Не хочу никаких праздников, никакого твоего мещанства. Тебе нравится – ты и валяйся в этом дерьме. А я буду в школе. И нечего так убиваться, мамочка. Придумали тоже – «Свеча девственницы»! У тети Мечу, видать, климакс начался. А как быть, если я уже не девственница?
Я как складывала новые полотенца, которые годами копила Детке в приданое, так и застыла. Взгляды наши встретились. У меня вмиг слезы навернулись на глаза. Всеми силами души я хотела, чтобы она, когда будет выходить замуж, выглядела настоящей барышней, раз уж у меня это не получилось, раз уж я упустила свою возможность. Я заперлась в ванной и разрыдалась, как Джоан Кроуфорд в «Мольбе матери». Реглита несколько раз прошла мимо, потом остановилась за дверью.
– Ладно, не такая уж я дурочка, принимаю медрон, так что ничего не случится.
Ужинали в молчании. Мне хотелось спросить, как это произошло, кто этот молодой человек, любят ли они друг друга?… Но я не решилась. В свое время я тоже не могла ни на кого рассчитывать, не могла никому ничего объяснить. Но у меня-то никого не было, а у нее была я. Мне хотелось отыскать на ее лице признаки влюбленности, приметы того, что она счастлива или, может быть, страдает. Но ничего подобного. Реглита как обычно жадно уминала пищу – в такой манере они всегда едят в этих школах, торопясь, опасаясь, что не успеют попросить добавки, страшась умереть со стыда, если хоть на минутку опоздают в класс пли на поле. Я так никогда и не узнала, как это случилось. Не знаю, как это случилось, прости, не умею сказать… Но самое печальное – она не была влюблена. Все произошло потому, что не могло не произойти. Я даже представила себе звездную ночь, сырую землю на грядке табака, оглушительный стрекот цикад, слабые огни светлячков и голос диктора программы «Ночное радио». Я представила его хорошим парнем, Который любит ее и однажды придет ко мне просить ее руки. Боже, но ведь ей всего четырнадцать!
Праздник отметили так, как этого хотели все, за исключением самой именинницы – в «Испанском казино», с танцами, как из «Свечи Девственницы». Реглита была просто загляденье: в платье из голубого тюля, в белых туфельках от «Примор» (право приобрести такие туфли предоставлялось девочкам, которым исполнялось пятнадцать, покупали их по карточке в специальном обувном магазине, и стоили они дорого, поэтому я смогла перекупить право на их приобретение у других девочек, родители которых не располагали достаточными средствами). Итак, у моей дочки было четыре пары туфель от «Примор», макси-юбка с вырезом сбоку, нейлоновые чулки и еще десяток нарядов, а помимо этого – три детские куклы. Гримировали Реглиту в «Коу Йам», гримировка тоже была регламентированной, так что сначала требовалось предъявить карточку и удостоверение личности. Девочка выглядела просто красавицей, но впрок ей это не пошло. В девять, станцевав с Иво «Вальс за миллион», она уснула прямо за столом. А вот ее приятели повеселились на славу. В общем, праздник получился замечательный, просто чудо. Одних гостей было триста пятьдесят два человека. Я угрохала все деньги до последнего сентаво, но не зря. Я чувствовала такое удовлетворение, будто пятнадцать лет исполняется мне самой. Да, такие вещи надо делать по-настоящему, иначе вообще не стоит браться. Вспомнить только, как праздновали пятнадцатилетие одной соученицы Реглиты с улицы Лампарилья: во время вальса «Голубой Дунай» пол провалился, и все пятнадцать нар вместе с тортом и дароносицей приземлились на первом этаже. Здание было признано негодным для проживания, но мать девочки во что бы то ни стало хотела отметить такое торжественное событие, а снять зал у нее не хватило денег. Как водится, на праздничный вечер народу собралось больше, чем ожидалось, и старый дом не выдержал топота танцующих. Перепугались все насмерть, были тяжелораненые, а одна беременная девица повисла, зацепившись за перекрытие. Просто чудо, что она не родила в воздухе. Понаехали пожарные – зрелище было не для слабонервных. Такое запомнится надолго не только имениннице.
На третий день после праздника Мария Регла ушла из дома очень рано и вернулась уже под вечер в сопровождении подружки. Лицо у нее было бледное, под глазами круги, а на сгибе руки начал разрастаться синяк. Тут-то я и поняла причину ее сонливости. Реглита была беременна. Значит, сегодня ее выскоблили.
– Ах, мама, мамочка! – Почти без чувств она повисла у меня на шее и плакала до тех пор, пока я не усадила ее рядом с собой и не позволила уткнуться лицом в мои колени. Я чувствовала себя последним говном (и куда подевалось мое воспитание?). Почему она не поговорила со мной, почему так упорно отдалялась, отстранялась от меня? Ведь так было с самого детства – она все дальше и дальше уходила от меня. Кого же, как не себя, винить в том, что ее не удалось удержать.
Мария Регла пошла учиться на журналистку. Я никогда не интересовалась результатами ее экзаменов, ее неудачами, хотя знаю, что они были. Заниматься журналистикой здесь – примерно то же самое, как Фаусту подписать договор с Мефистофелем, впрочем, под какой только ересью не подпишешься при тридцати восьми градусах в тени. А девочка моя была языкастая, несговорчивая, ну и понятно, ее пытались заткнуть: то обещали назначить ведущей культурной телепрограммы, то – ведущей «звездного эфира» на НТВ (то есть никто тебя не видит, как называют в народе новости по национальному телевидению).
Словом, вылитый отец. Люди, которых я любила больше всего на свете, бросили меня, как паршивую сучку. Хорошо еще, что я могу рассчитывать на Пучунгу и Мечунгу, эти-то уж не подведут. Удача, что со мной живет Катринка, моя любимая тараканиха, а Ратон[14]14
Ratón – мышь (исп.).
[Закрыть] Перес занимает для меня очередь в лавку. Просто счастье, что Факс и Иокандрита заботятся обо мне и откуда-то достают аспирин и диазепам, и даже Фотокопировщица переживает за мое здоровье (большая сплетница, но в глубине души хороший человек). По крайней мере, у меня есть они, а что до Реглиты, то она теперь даже не звонит, чтобы узнать, как я поживаю, не поднялся ли у меня сахар, прекратились ли мигрени, как с давлением и ходила ли я сдавать цитологический анализ. Нет, никогда не признаюсь я ей, что у меня на душе. Пусть отдохнет!
Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда Катринка Три Метелки гладила «сафари» своего мужа, Ратона Переса. Я уже собиралась подойти, но она оказалась ближе и ловко перехватила трубку. По ласковому, любвеобильному тону сразу же понимаю, что это дочь. Катринка передает мне тяжелый черный «келлог», и не успеваю я произнести «слушаю, дорогая», как дочка начинает тараторить:
– Столько работы, столько работы, мама, ну, как ты поживаешь? Пожалуй, на днях преподнесу тебе небольшой сюрприз… Да, все нормально, так что смотри меня по телевизору, на шестом канале. Нет, старушка, второй это спортивный и для речей. Да, да, я все тебе объясню, нет, ни с кем не спала! Не делай глупостей, целую, чао!
Не устаю напрягать извилины, чтобы ответить на элементарный вопрос: к чему вся эта суета? За что бороться? Моя мать умерла, поперхнувшись успокоительным, которое прислала ей бывшая невестка-проститутка из Манилы. Нет, спасибо, хватит с меня, хватит страданий, какие бы они ни были – горькие или сладкие. Единственное, что мне нужно для счастья, это хлеб, любовь и ча-ча-ча. Но… Я не могу быть счастливой. Хотя кажется, что это так просто.
Глава пятая
Кубинец в Нью-Йорке
Так я ее больше ни разу и не видел и даже ни разу не написал. Слышал, что дочка у нее – загляденье, но комуняка. А я, выходит, отец этого красного отродья, которое стыдится меня, потому что ему вбили в башку, что я изменник родины. Небось, мать ее так воспитала – чья же еще вина? Ясное дело, решила отомстить. Да за что же мстить-то, дурочка? Мы ведь и знакомы почти не были. Я не успел ее даже представить будущей свекрови, моей матушке, да будет ей земля пухом. Бедная старушка, уж как она умоляла меня в письме подтвердить слух, что я, мол, якобы бросил девушку в положении. Но я всегда отвечал одинаково: «Мол, нет, мамуся, все это треп, просто быдло это, ваши соседи, хотят еще больше меня утопить и нервы вам лишний раз попортить «. Но старуха стала копать и нарыла столько, что Холмсу с Ватсоном, Лестрейду, Пуаро, Джессике, Деррику, Коломбо, Старику и Наварро вместе взятым и не снилось, но, слава Богу, так никогда и не раздобыла гаванского адреса, потому что пришлось ей переехать в Матансас. Ясное дело, после моего отъезда ей не только дом и район, но и провинцию пришлось сменить. Веселенькую ей жизнь устроили, все уши прожужжали, что ее сын предатель и т. д. и т. п.
Мать моя, святая женщина, земля ей пухом, преставилась точнехонько в тот самый день, когда по моим расчетам дочке должно было исполниться пять. Иначе говоря, недолго она протянула, угасла, как свечка. Не могла пережить разлуки. Кой-какие знакомые, что приезжают сюда – мало их, правда, ведь все они политические, а политических за здорово живешь не выпускают, – рассказывают, что страдала она страшно, настоящая пытка была для нее расстаться со мной. Конечно, подумать только, единственный сын, воспитывался в частных школах, хотя, признаться, всегда был порядочным шалопаем. Когда отца положили в больницу, я прямо как сердцем чувствовал, прямо как горечь какую, что одна у него оттуда дорога – на кладбище. Так оно и вышло. После похорон я про себя решил так: все, у каждого своя дорога, можете на меня больше не рассчитывать. И даже не притронулся к тому, что отец скопил в поте лица, дабы обеспечить мое будущее (собственно, там и было-то немного), и ударился в другую степь, занялся тем, что было по душе: сначала сколотил шайку – учил босоту воровать, потом разные грязные делишки, ну и под конец угодил в мафию. В общем, выжил, пожаловаться не могу. Я собой доволен. Приехал, увидел и победил. И где? Здесь, в этой Мекке победителей. Хлеб, конечно, нелегкий, работать приходилось как зверю, но кубинцы любят работать, если им за это платят, что, между прочим, логично. А насчет того, что все кубинцы, мол, лентяи и работать не хотят, так это только сейчас и там, потому что кубинец ничего не любит делать из-под палки. И не забывайте, что Майами сделали мы, то есть я хочу сказать, кубинцы, отказывавшие себе во всем, потому что кроме травы здесь ничегошеньки не было, и это мы, надрываясь, соорудили всю это шикоту, этот Майами – столицу сплетен, где тебя и в глаза и за глаза обосрут.
Едва приехав в эту страну, я тут же наладил связи. Удивляться тут нечему: старинные дружки из «Капри» дали отличные рекомендации. Да еще мой прежний шеф перебрался сюда раньше меня. Забавный старикашка, все еще жив, лет ему за тыщу перевалило, но здоровье железное. Старика с таким вздорным характером я знавал еще только одного. Но тот, слава Богу, от меня далеко, за девяносто миль. Уверяет, что не умрет, пока я не верну ему счастливую банкноту. И почему я только оставил эту чертову банкноту ей на сохранность, почему не взял с собой? Признаться, я тогда слегка пересрал, ведь поймай они меня с одной бумажкой, вышло бы еще хуже, чем если бы у меня нашли целый чемодан. Ну, и как все, конечно, думал, что долго это не продлится и что я вскоре вернусь и за Деткой, и за банкнотой. А теперь этот выживший из ума Старик вот уже тридцать шесть лет клянет меня на чем свет стоит, жизни мне не дает из-за этой проклятой банкноты, шантажирует как только может. Из-за этой-то мутоты я и не смог по-настоящему подняться, закрепиться в деле, преуспеть – из-за придури какого-то вонючего Старика, сукина сына, который ни разу не упускал случая выставить меня дураком перед остальными членами клуба, заявляя, что на меня нельзя положиться, потому что, мол, тридцать шесть лет назад я потерял его доллар. Вот козлище – из-за какого-то доллара разводить такую вонь! Правда, когда он мне его давал, то предупредил, обсасывая конец сигары:
– Береги как зеницу ока. В нем наше будущее.
Примерно то же и я ей сказал: и про зеницу ока, и про будущее. А отдал я его, потому что помирал со страху – сцапай они меня с этой долларовой банкнотой, наверняка бы решили, что это какая-нибудь шифровка, содержащая военную тайну. Поэтому я банкноту ей и отдал – думал, что долго это не продлится. А стоило мне оказаться в этой стране, без гроша за душой, как первым, кто меня разыскал – потом-то я узнал, что многие меня искали из-за этой бумажки, – так вот первым, кто ко мне заявился, был Старик. Этим он всегда и отличался – был пунктуальным и обязательным, как восточный экспресс. Понятное дело, он не стал интересоваться, как там мое здоровье, не укачало ли меня в дороге, не хочу ли я чего-нибудь скушать, а сразу выпалил:
– Где доллар?
Знай я, что с ним будет после моего ответа, я бы лучше молчал как партизан или выдумал какую-нибудь байку, вроде того, что у меня его конфисковали на таможне, словом, сочинил ответ из тех, какие гарантируют, что ближайшие десять секунд вам не будут бить морду.
– Какой доллар?
По правде сказать, я действительно почти о нем позабыл за время своих кругосветных странствий.
Увы мне! Подручный его мигом влепил мне две такие плюхи, что в тот момент я, наверное, был похож на кота Сильвестра, которого близорукая старушонка прихлопнула дверцей холодильника: глаза у меня съехались к переносице, а вокруг замелькали ангелочки. Допрос по всей форме был еще впереди – продлился он несколько недель кряду, пока наконец они не сдались. Сдаться-то сдались, но так, конечно же, и не поверили, что банкнота по-прежнему там, в Ведадо, у моей не то невесты, не то любовницы, не то жены. Да, пожалуй что и жены, ведь у меня от нее дочка. Да, жены, потому что ни с кем я еще никогда не чувствовал себя так спокойно, ни с кем не мог бы, запершись на неделю, трахаться, как павиан. Хотя нет, трахались мы вполне гуманно, то есть по-человечески, трахались, как кубинцы. Наверное, я ее любил. Да не наверно, а точно. Точно – был влюблен, как кобель. И до сих пор не могу понять почему. Так и умру, не поняв, почему любил эту женщину. Красивая она была, сочная, смачная. Когда мы второй раз встретились, я ее прямо съесть был готов. Правда, прошло восемь лет, и это уже был не гот шестнадцатилетний цветочек, но все равно она оставалась девушкой, никто ее еще не попробовал. Никто не попользовался – я первый. Она никогда не объясняла, почему никому не отдала свою девственность, почему ждала меня. Так никогда и не сказала, хотя, впрочем, я и не спрашивал.
Я тысячу и один раз объяснял этому тупому Старику, у кого и где хранится банкнота, но он ни за что не хотел верить. До сих пор подозревает, что кто-то его опередил, раскрутил меня хорошенько и завладел долларом, а мне заплатил бешеные деньги, чтобы я держал язык за зубами. Уж точно – бешеные, разве бы иначе я вынес столько побоев, столько угроз и прочих подлянок.
Короче, сегодня Старик назначил мне встречу для обмена впечатлениями. Наверняка он снова начнет копаться в этой навозной куче – такая уж у него идея фикс. Голову даю на отсечение – вот вам «жиллет», можете проделать это сами, – что разговор наш сведется к судьбе его дерьмового доллара.
Обычно мы назначаем свидания в Центральном парке, возле статуи Хосе Марти. Статуя конная, почему-то она мне нравится – когда я сажусь на холодный как лед парапет и свешиваю ноги, то невольно глаза мои переполняются слезами, которые текут по щекам и капают на мои заносчивые английские ботинки. Я сижу и, широко раздувая ноздри, вдыхаю холодный зимний воздух вместе с бодрящей вонью мочи и дерьма. Помню один случай, когда какие-то американские моряки оросили своими кощунственными струями статую Марти в Центральном парке, там, в Гаване, и какой поднялся шум, и какие были дипломатические ноты, и какой скандал, национальный и международный, и все из-за парочки обкурившихся моряков, которые к тому же были пьяны в дребадан, да наверняка и не имели ни малейшего представления, что это за херов мистер, на которого они слегка помочились. Здесь же пятна на мраморе, а главное, зловонный запах мочевины, указывают на то, что всякий почитает своим долгом остановиться перед монументом не для того, чтобы отрясти дорожный прах, а чтобы отлить, и далеко не одни собаки поднимают здесь лапу, извергая святотатственные струйки и колбаски. Причем происходит это вовсе не потому, что кто-то хочет намеренно осквернить это место, а просто здесь и в помине нет общественных туалетов. А у швейцара из «Плазы» не допросишься справить в его роскошном сортире свою естественную нужду. Итак, я сижу здесь, с мочевым пузырем, раздувшимся, как глобус, и жду старого маньяка, грустно поглядывая на Марти – гордого всадника, загаженного воробьями, обоссанного по уши, но донельзя серьезного, поэтичного, героического, исполненного достоинства, с таким выражением на широколобом лице, будто он тут ни при чем, он паинька и это вовсе не он разбил тарелку, хотя при жизни случалось ему бивать и сервизы, когда он, бывало, зверел от джина, потому что был он бабник каких мало и даже гашишем баловался, и уж, конечно, строки: «Гашиш пьянящей боли, где твой дым?» – он написал явно не под впечатлением от рубки тростника в недолгие минуты обеденного перерыва. Вот так, а внук Марти и вовсе был голливудским актером. В старом «Бэтмене» он играл Джокера, и я ничуть не сомневаюсь, что апостол, знай он об этом, лопнул бы от гордости за внучка. А чего стоит его сын, Исмаэлильо, который там, в Гаване, распевал в душе: «Ах, папочка, зачем, зачем ты умер рано!» Готов поспорить с кем угодно, что наш национальный герой помер бы со смеху, если бы ему об этом рассказали. Потому что герои, черт возьми, тоже перво-наперво люди.
Холодно, как в иглу, но Старик каждый раз упрямо забивает стрелку в этом сраном месте, в самую непогоду, оправдываясь тем, что тут надежно, безопасно. Ему все кажется, что он по-прежнему живет во времена мафии сороковых. Вместо того, чтобы пригласить меня в кафе «Виктор», хотя сам ходит, вы бы посмотрели, точно утка, небось мозоли, как у воротилы с Уолл-стрит! Держит меня за последнее дерьмо. Вот не придет он, и замерзну я, стану как бедный Марти – такой же несгибаемый, только без лошади. И все будут на меня писать. Пи-пи. Старик упрямый, требует, чтобы я всегда ему перезванивал – возвращал звонок, если дословно перевести с английского. Набираю номер, он уже выехал, будет минут через десять – пятнадцать: только что познакомился с одной девахой – конфетка, пальчики оближешь. Еще одна засранка с бешеной маткой, это точно. Девочки с бешенством матки – его слабое место, из-за них он когда-нибудь и сгорит. Моя жена и дочка, впрочем, тоже бешеные. Модная женская болезнь, последний писк, как в былые времена – чахотка. Представляете Маргариту Готье с бешенством матки, забавно, верно? Если ты женщина и у тебя нет бешенства матки – ты не женщина. Общество отворачивается от тебя. Так уж повелось с тех пор как Джейн Фонда взбрендило признаться, что она страдает бешенством матки. Хорошая реклама по Си-Эн-Эн. Короче, живу я теперь с двумя монстрами, двумя доходягами, которые только и знают, что жрать да блевать. Пришлось соорудить отдельный туалет с кабинками и специальной раковиной, где сделана такая дырка, чтобы блевотина свободно в нее проходила. Только так удается избегать засоров; на дверце я повесил табличку: «Блевательная». Иначе говоря, исключительно, чтобы блевать. Если бы блевотину по замкнутому циклу можно было снова переделывать в жратву, я смог бы открыть ресторан на двести посадочных мест. Подружки жены и дочери побагровели от зависти и все как одна соорудили свои блевательные рядом с бассейнами. Мы живем в эпоху блевантина. Если кто-то не блюет, то это всегда какой-нибудь омерзительный толстяк, которому нечего и мечтать о триумфе, а уж тем более о Голливуде, по крайней мере, до тех пор, пока в моду не войдут набожные фильмы и Оскаров не начнут давать за ширину боков. Хотя в этой стране полно тучных людей с расползающимися формами, никто из них не борется за свои права и не жалуется на притеснения. Впрочем, в конечном счете, вряд ли эта тема достойна пристального внимания. А вот что меня действительно заботит, так это психозы и степень их распространенности. Жена и дочка то и дело переживают периоды тяжелой депрессии, у них серьезные проблемы с самоидентификацией, их обследовал психоаналитик, начав с меня, разумеется: они не хотят быть самими собой. Всем кем угодно – только не собой. Памелой Андерсон, Шерон Стоун, Мадонной и, Бог весть, кем еще… Они с ума сходят по всяким разным сектам, по мормонам, сиентологии, запоем читают назидательные брошюры, которые якобы должны открыть перед ними новые пути к самопознанию и успеху. Моя жена тоже кубинка, но об этом никто не знает. Ей везде хочется сходить за американку, урожденную гражданку Соединенных Штатов. О том, что происходит там, она не хочет и слышать. Впрочем, дело, как говорится, темное. Я никогда ее раньше не видел, я имею в виду – на Кубе. Хотя это вполне могло бы случиться, потому что я знал ее брата.
Там, на Кубе, в последнее время брат ее был одним из самых закадычных моих друзей. Бравый был парнишка – кремень, все у него выходило просто и прямо. Познакомили нас как-то вечером в «Монмартре»; он тогда с ума сходил, места себе не мог найти, потому что кузена его упрятали в кутузку за какое-то политиканство. Встретиться со мной ему посоветовал один мой приятель, перед которым у меня был должок. Парень молил о помощи, просил, чтобы я вытащил его родственничка из тюрьмы, пока того не объявили пропавшим без вести, с тем, чтобы наутро найти в какой-нибудь канаве, подавившегося собственными яйцами. Он знал, что, благодаря моей работе по связям с общественностью, а, точнее говоря, в кабаре, у меня есть связи в полиции. Вызволил я паренька. На допросах ему всю физиономию расколошматили, а ногти с ног и с рук вернули в отдельном пакетике. Вытащил я его и не жалею: человек он оказался искренний, честный, словом, понравился мне. Но я всегда старался глядеть вперед: братишка ведь был одним из тех революционеров, которые корчили из себя чистюль, но на самом деле были порядочным дерьмом, хотя со стороны выглядели людьми с идеалами и благородными намерениями.
Брат жены, Луис – тогда я еще не знал, что у него есть сестра, – зачастил ко мне, и мы стали друзьями не разлить водой. Закадычные приятели. О том случае с полицией он больше не говорил. Как-то вечером он пришел и заявил, что, мол, такая история, надо спрятать на пару дней кое-какие лекарства, пока не найдется человек, который переправит их в Сьерру, и я спрятал их у Каруки. В другой раз он принес нарукавные повязки, и я тоже согласился. И так помаленьку продолжал помогать делу, от которого лично мне было ни жарко, ни холодно. Впрочем, нет, пожалуй, наоборот: и жарко, и холодно, потому что дело это вредило таким как я, которые жили себе припеваючи, срубая дивиденды с денег и любви, но я все помогал им, сам не знаю почему. Да нет, знаю – по дружбе, потому что если и есть во мне что хорошее, так это то, что за друзей я всегда стою горой. Да и чутье меня не подвело: сразу почуял, что главное для них – «бабки», money.[16]16
Деньги (англ.).
[Закрыть]
Как-то утречком прогуливались мы с Луисом по площади Гомеса, только-только выйдя от Техадильо, где дрючили до опупения двух сказочных блядей, работавших под тибеток, – просто волчий аппетит напал. Благоухающие пачулями и ванилью, с азиатскими прическами, они жгли ароматические палочки, расхаживали в шелковых китайских кимоно, делали массаж «райские кущи» и являли невероятные образцы сексуального плюрализма. Они просили называть их гейшами, говорили, что бросили театр в Шанхае, чтобы открыть свое дело, в котором, надо признать, и достигли непревзойденного мастерства. Проходя мимо аптеки, где в одной из витрин красовался огромный аквариум, мы услышали визг шин: какая-то машина на полной скорости вывернула из-за угла. Все произошло в доли секунды – машина остановилась рядом с нами, из окошка высунулась рука с автоматом, и раздались две очереди. Я сразу же бросился на землю, притворившись, что убит или тяжело ранен. Так что первая очередь целиком досталась Луису, который шел по краю тротуара. Мозги его разлетелись во все стороны, забрызгав мне губы и глаза. Вторая очередь вдребезги разбила витрину с аквариумом, вода смыла с меня кровь, и рыбки заскакали по мне, хватая воздух ртами. Всего меня словно обожгло – осколки стекла вонзились в лицо, руки, ноги, спину…
Работа моя и без того была хлопотная, а тут пришлось все бросить и мигом испариться. Но это не помешало мне провести собственное небольшое расследование. Ясно было, что убийство не подстроено полицией, и ничто не указывало на след мафии, стало быть, ко мне это не имело никакого отношения. Чьих рук это дело – так никогда узнать и не удалось. Сестра Луиса – моя жена – подозревала его же дружков, которые, увидев, что он так сдружился со мной, потеряли к нему доверие из-за его отношений с мафией, понимай – со мной… Не знаю, лично я в это не верю, но аргумент достаточный, чтобы человек до конца дней ходил с камнем на душе. Должно быть, именно этого она и добивалась, потому что убитый брат не слишком-то ее интересовал. Тем не менее, когда у меня остался один единственный выход – бежать, форму ополченца помог мне раздобыть тот самый кузен, которого я в свое время уберег от заплечных дел мастеров. Такая вот жизнь, почти как у Рокамболя. Похоже, кузен тоже понятия не имел, кто убил Луиса, или попросту не хотел это выяснять, чтобы не скомпрометировать себя дважды.
Сотни страшных смертей пришлось мне перевидать воочию, но все они имели свою причину. Виной всему были деньги, такие сумасшедшие деньги, что я и выговорить-то такие цифры не могу. Для меня, при моей жизни, в этих преступлениях виделась своя логика. Но в убийстве Луиса все до сих пор – сплошные потемки. Кто знает, может быть поэтому я превратился в террориста и начал подкладывать бомбы? В конце концов поджечь киношку – почти детская игра. Дурацкая и опасная. Но мне всегда казалось, что это именно комуняки изрешетили тогда Луиса. Именно они.
С женой своей я познакомился вскоре после того, как перебрался в Нью-Йорк. Она прогуливалась по Пятой авеню так, словно родилась и выросла на ней. Но стоило взглянуть, как она виляет задом и трясет грудями – настоящий спектакль для уличных любителей клубнички, – и каждому становилось ясно, что все это было нездешнее, не из тутошних краев. Завидев ее, я перестал быть самим собой и вместе с сотней других мужиков превратился в стадо, зачарованное и тупое. Я подчинился этому родному, домашнему ритму ни мне, ни тебе, никому и нигде, который зарождался в воздухе, когда подрагивающие ягодицы и парочка грудей, как во время румбы, умело бередит никогда не заживающую в мужчине эдипову рану. Мне даже на мгновение представилось, отчего я чуть было не рехнулся, как моя благословенная мамочка отплясывает мамбу и кокетливо вертится перед зеркалом. Но мама – это мама! А кубинская жопа – это кубинская жопа, где бы она ни появлялась и как бы ни пряталась в толпе на перекрестках, где без конца мигают светофоры и зажигаются световые надписи: walk и don't walk.[17]17
Идите, стойте (англ.).
[Закрыть] По-английски я тогда еще только лепетал, поэтому бросился напролом по-испански:
– Эй, послушай, ты ведь кубинка, я ведь вижу, что кубинка! – выпалил я перед самым входом в Эмпайр.
– I don't know speak to you, кубинец.
Она ошпарила меня ненавидящим взглядом. Почувствовав, что запутались, мы рассмеялись. Мы часто встречались на улице вечерами, и я всегда приглашал ее в мороженицу Вилледж. Это было время, когда мы часто веселились, скажем, когда она рассказывала со множеством красочных подробностей, как парикмахерша из заведения на углу Восьмой и Двадцать третьей улиц в Ведадо сделала ей метровый шиньон, чтобы она могла вывезти все фамильные драгоценности. Она еще говорила о брате как о живом и рассказывала об одном своем кузене, который, оставшись в Гаване, стал какой-то крупной шишкой в правительстве.
Потом до нее – с большим опозданием – дошли слухи о трагической смерти брата. Тогда и выяснилось, что ее брат и мой приятель Луис – одно и то же лицо. Я тут же решился жениться на ней, потому что считал себя в долгу перед другом и полагал, что жениться на его сестре – доброе дело. Ведь была же у Бога какая-то причина свести меня именно с этой девушкой. Кроме того я был от нее без ума. Эта ее походочка на мотив «Мне работать нет охоты, у меня свои заботы. Я трудиться не желаю – лучше с Лолой погуляю» была для меня все равно что сеанс омолаживающей терапии. Только не подумайте, что я забыл Кукиту, ничего подобного. Между тем прошло уже не три месяца, а три года, и процесс построения нового коммунистического общества шел полным ходом. Видя, как паршиво идут дела, я все же решился послать письмо. Маме я всегда посылал письма, подписанные разными именами и с разными адресами на конвертах, к тому же через большие и нерегулярные промежутки времени. Не уверен, что и Карукита смогла бы отыскать единство в этом множестве. Кроме того я всегда был немногословен, а уж тем более на бумаге. И потом – не люблю поддерживать в человеке несбыточные мечты. Какой я есть – такой уж и есть, и пошли вы все на хер! Не хочу бередить старые раны. Однако Кука Мартинес так и осталась занозой в моем сердце, впрочем, так же как и эта приблудная овечка. Не думаю, что удастся когда-нибудь выдернуть их оттуда. Да и не особо стремлюсь к этому.
А Старика по-прежнему нет как нет. Да и зачем он мне, спрашивается? Совсем даже ни за чем. Глоток виски не согрел бы меня больше, чем его имя в разделе некрологов завтрашних газет. Из-за него я не успеваю справляться с ангиной, как подхватываю грипп. Так ведь можно и концы отдать. Как только я иду на поправку после очередной простуды, Старик звонит и назначает мне свидание в обычном месте. Иногда там прогуливается Мадонна в окружении своих «горилл». Говорят, она с ними трахается. Что ж, у нас тоже была своя Мадонна, Марта Санчес Абреу, которая отдавалась шимпанзе в «Обезьяньей усадьбе». Так она называлась, и даже здание сохранилось до сих пор. Мне рассказывал об этом один сицилиец, который хочет организовать свой бизнес на Кубе – он ездил смотреть огромный домище, хотел узнать, нельзя ли устроить там офис или использовать помещение под один из тех кинопавильонов, которые арендуют сейчас за доллары испанские и французские кинокомпании, чтобы ставить в них исторические – псевдоисторические – фильмы, наподобие «Terra indigo», который как раз сейчас снимается полным ходом: там в разгар двадцатых годов нашего века на Кубе появляются индейцы, говорящие по-африкански, с убором из разноцветных пластиковых перьев, которые торчат у них изо всех мест. Эти фильмы, так называемые экологические, показывают на международных авиалиниях, чтобы во время взлета или посадки публика зевала как можно активнее – тогда меньше закладывает уши. Так вот, возвращаясь к Марте Санчес Абреу, она действительно коллекционировала обезьян, и злые языки трепались, что порой была не прочь с ними перепихнуться. Как бы там ни было, она являлась тетушкой Росалии, прославленной в поэме Сен-Жона Перса под именем Лолиты. Я человек не культурный – просто информированный. Между тем, Мадонна, полуобнаженная, делает свою гимнастику и уже в десятый раз совершает какие-то невообразимые прыжки, а кругом такой холод, что у меня скоро яйца отвалятся. Если я расскажу своей дочке, что видел Мадонну, она меня отравит за то, что не добыл у нее автограф.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































