Текст книги "Детка"
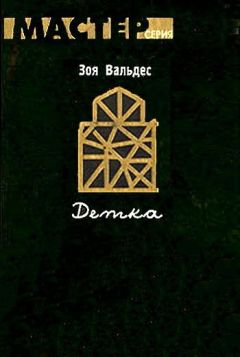
Автор книги: Зое Вальдес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Это точно. Товарищу активисту, в его молодые денечки, вытатуировали во всю длину его члена следующую надпись: Нанополе. Работа была филигранная, потому что целиком фразу можно было прочесть, только когда член вставал: На память о Константинополе. Помнится, вскоре сначала шутники из соседних домов, потом со всего квартала, а потом и со всего острова – ведь слухи у нас быстрее телеграфа – распевали:
На цветущем дереве девушка
имя вырезала ножом,
и влюбленное дерево девушку
цветами осыпало, точно дождем…
Собрание растянулось на несколько дней и потребовало напряжения от всех членов в прямом и переносном смысле. Для обследования детородного органа активиста была назначена комиссия из специалистов по татуировкам, древним рукописям и эрекциям. Пригласили даже советского ученого из КГБ, эксперта по вживлению микрофонов в члены. Когда указанный Пучунгой факт подтвердился, у бедняги отобрали партийный билет, а моих подруг назначили ответственными наблюдателями за состоянием здравоохранения среди членов женской федерации и КоЗеРогов – членов комитета защиты революции. Некоторые остряки называют нашу федерацию пиздократической, в связи с чем в подстрочном примечании для иностранного читателя хочу пояснить, что поскольку один из кубинских эвфемизмов этого неприличного слова – папайя, а папайя – это также еще и фрукт, то когда какую-нибудь женщину называют папайей, вовсе не хотят этим сказать, что она – поблядушка, а только, что она отличается приятной соразмерностью членов и природной храбростью, то есть, как у нас говорят, баба с яйцами. Происхождение этого эвфемизма связано с бесчисленными женскими страданиями – однажды я прочитала, что в колониальную эпоху негритянки, дабы избавиться от частых беременностей, вызванных их рабским положением, готовили отвар из сока и листьев папайи, которые обладают несомненными абортивными свойствами. Средство это было столь распространенным на плантациях, что постепенно и влагалище стали называть папайей. Пиздократическая кубинская федерация до сих пор сохраняет определенное абортивное свойство, с маниакальным упорством стараясь подвергнуть скоблежке всех кубинок, чтобы вытравить из них будущее. Но это уже совсем другая история. Мои подруги тем временем включились в процесс общественной деятельности в полном согласии с политическими федеративными требованиями. И хотя их продолжали называть по-прежнему, но теперь это звучало уважительно: товарищ Фала и товарищ Фана, так что Реглита уже больше не стыдилась своих тетушек. В результате вместо того, чтобы отпускать шуточки насчет триппера, стали толковать о том, что прозвища эти по своему звучанию вполне могут происходить откуда-нибудь из Рио-де-Жанейро или Лиссабона. Словом, жизнь опять потекла своим чередом, вернулась в нормальное русло, которое, увы, не для нас, потому что мы, в конечном счете, завзятые идеалистки, устремленные к невозможному, то есть попросту ненормальные.
Я не переставала думать об Уане. Не забывала о нем ни на секунду. После него, конечно, были и другие, много других, которым было до лампочки, что я беззубая, но я никогда не подавала кому-либо серьезных надежд. Я знала, что он где-то существует, а последнее, с чем расстается человек – это надежда еще раз увидеть любимых живыми. Даже Иво предлагал мне руку и сердце. Клялся всем святым, что будет хорошим супругом и замечательным отцом для Реглиты. Насчет него я даже строила кое-какие планы – не потому, что он мне нравился, нет, ничуточки, а потому, что с транспортом стало уже тяжело, а он берег свой шевроле» как зеницу ока – машина была как новенькая, как изумрудное колье Лиз Тейлор, и я подумала, что с помощью Иво перестану наконец опаздывать на работу. Он сделал мне предложение в автокинотеатре «Полуденная невеста», на последнем сеансе. Вскоре после этого кинотеатр снесли. Теперь это место заброшено и так заросло травой, что огромного экрана, на котором показывали столь памятные фильмы, почти не видно. Так вот, дамы и господа, как я только что говорила, он признался, что влюблен в меня по уши и готов припарковать меня – что я ему, машина в самом деле или у меня баранка между ног? – у дворца бракосочетаний или общественного буфета, это уж мне решать. В церковь идти он не хотел, потому что на это косо смотрели и вообще религиозность едва ли не преследовалась по закону. Он даже ухитрился было меня поцеловать, но тут же выпустил: сидевшая сзади Реглита постучала костяшками пальцев ему по затылку и спросила: «Кто там?» Меня разобрал такой смех – а надо сказать, описаться я могу из-за любой чепухи, – что я даже пустила струйку. Но, как бы там ни было, идея выйти за Иво и обзавестись автомобилем вдохновила меня. Потом я хорошенько призадумалась, и мне пришло в голову: а что если вернется он? Тогда мне не удастся доказать ему, что я терпела, как лошадь, как бычиха, что я сдержала свое слово и осталась ему верна. Не могла я вот так запросто пренебречь чувством собственного достоинства. И я отказала Иво. Не подумайте только, что я такая дуреха и раз-другой не спала с ним: тело есть тело, а мое было еще хоть куда. Ведь тело нуждается в любви и ласке. Так что для меня это было вроде физиологического отправления. К чему скрывать – я свое получила. По крайней мере, меню у меня было разнообразным – таким, что даже Шарль де Голль со своими сырами помер бы от зависти. Помнится, он с такой гордостью говорил, что во Франции существует триста шестьдесят пять сортов сыра – по одному на каждый день в году. В общем застаиваться я себе не давала и оттягивалась, как человек, который гадит после недельного запора. Представьте себе, какое это наслаждение!
Однако призрак Уана преследовал меня повсюду. Случалось, вися на задней подножке автобуса, я вдруг срывалась и падала, потому что мне казалось, будто я видела, как он сворачивает за угол. На меня напала страсть бродить по Гаване и выискивать его в толпе. Это был точно какой-то внезапный зуд: мне захотелось проникнуться городом за себя и за него, в память о нем. Время бежало быстро, многие здания успели обрушиться, другие претерпели значительные изменения в архитектуре, так как обитатели их по мере роста семьи вынуждены были пристраивать то тут, то там разные клетушки. Деревья постоянно подстригали, а под конец решили и вовсе срубить. Но люди все равно продолжали радоваться. По традиции. Нам нечего было есть, но у нас было чувство собственного достоинства, а главное, будущее. Хотя многие из нас (у кого подрастали дети) прекрасно знали, что будущее имеет свои пределы. Я продолжала бродить по Гаване и всегда останавливалась на Малеконе, лицом к моему родному синему морю. Лицом к бескрайнему простору, к индиговой толще воды – то соленой, то терпко-сладкой, то ярящейся, то ласковой, то такой доброй, то такой суровой. Как мать.
Я старалась хоть раз в неделю водить Марию Реглу в какой-нибудь из ресторанов, чтобы она познакомилась с ними, прежде чем те окончательно исчезнут. Ей больше всего нравился «Монсеньор», к тому же она пару раз видела там Снежка, который всегда исполнял для нас все ту же песню на английском: «Be careful, it's my heart…» И мы обе плакали, как дети. Что ж, она-то хоть действительно была ребенком.
«Монмартр» из «Монмартра» стал «Москвой». Вместо шампанского теперь подавали водку, вместо foie gras – солянку. По радио передавали уже не Эдит Пиаф, а Эдиту Пьеху – певичку-подражательницу, родом откуда-то из дружественных стран Востока, вместе с Карелом Готтом, Клари Катона и одной сумасшедшей итальянкой, которую всегда включали в обеденный перерыв, Лючией Альтиери – она была вся в блестках и слоях макияжа, и вообще непонятно откуда взялась на Кубе. Чтобы пообедать в ресторане, надо было стать передовиком производства и заказать столик за неделю. Но, хотя я уже была человеком заслуженным и могла позволить себе такое, я все же решила больше туда не возвращаться. Как-никак там я узнала сладость первого любовного поцелуя.
Но однажды вечером, дежуря в комитете, я почувствовала такую ностальгию по прошлому, такой отчаянный зуд, что наутро позвонила в ресторан, все уладила и пригласила компанию в полном составе: Мечу, Пучу и, само собой, Марию Реглу. Когда мы входили, нервы у всех были на пределе. В дверях мне пришлось предъявить свой билет национального профсоюза трудящихся, добрую сотню грамот передовика производства и медицинскую справку. Мы едва видели друг друга, и не потому, что в зале царила привычная полутьма, а потому, что горели всего две уцелевшие лампочки. Примерно через час к нам, едва волоча ноги, добрела товарищ официантка с огрызком карандаша за ухом, пахло от нее так, будто она только вышла из свинарника. Прежде чем зачитать меню, она тяжко вздохнула и наконец возгласила загробным голосом, доверительно обращаясь к нам сначала в единственном, потом во множественном числе:
– Эх, детонька, как мозоли-то сегодня разболелись, просто страх! Это к дождю, можете мне поверить, да еще к какому – так зарядит… Ладно, а пока не спешите пускать слюнки, чтобы, как говорится, слюной не захлебнуться. На сегодня у нас суп-солянка с луком, суп-солянка с пюре «вита нуова», суп-солянка с картофельным сыром, вода и маниоки. Да, еще хлеб и кофе. Но, сами знаете, часть отпущенных продуктов мы посылаем нашим чилийским братьям. А посему могу предложить чай… лечебный. Вообще-то он ничего, но лечебный.
В воздухе продолжал стоять смрад, словно возле клетки с носорогом. Официантка достала ветхую, склизкую тряпицу бурого цвета и сделала вид, что убирает с покрытого клеенкой стола объедки, но только еще больше размазала грязь.
Аппетит у нас разыгрался не на шутку, хотя от пищи и воротило. Тарелки заросли месячной коростой – моющих порошков тоже не хватало. Суп, впрочем, мы так и не доели – это вам не конгри из риса с фасолью. Наконец мне удалось сделать то, о чем я так страстно мечтала уже много лет. Сняв под столом туфли, я опустила босые ноги на пол. Но вместо мягкого ворсистого ковра почувствовала жесткий холодный цемент, шершавый, как собачий язык.
– А где тот красный ковер? – растерянно спросила я.
– Эх, душа моя, ты на какой планете живешь? Отстала от жизни, отстала. Ковер-то давно в мудацкое посольство отвезли, в эсэсэсэрошное. Говорят, будут из него шубы шить для покорителей Сибири. Но я, скажу тебе, только обрадовалась, – ковер-то уже был, что твоя половая тряпка, так и вонял ссаньем. Уборщица наша заболела, ну медкомиссия ее и уволила, а у новенькой – руки-крюки, ровно обезьяна. В нашей стране с рабством и капитализмом покончено. Мы – первая свободная территория Америки, мы – со-циа-ли-сты, поняла? Социалисты – вперед, а кому не нравится, пусть хлебало заткнет!
И официантка удалилась, вихляя задницей, будто танцевала конгу. Подружки мои пригорюнились, их крупные слезы капали в жирные лужицы на донцах тарелок. В горле у меня пересохло и словно ком подкатил. Мария Регла как ни в чем не бывало вылизывала тарелку.
– Эй, а вы чего не едите? Кому не нравится, давай мне, помираю с голоду.
Мы с подружками переглянулись и стали наблюдать, как официантка прячет бутылку растительного, масла под юбкой, засовывая ее за подвязку. Регла голодными глазами пожирала наши тарелки с недоеденной солянкой. Я подвинула ей свою. Она принялась хлебать с оглушительным хлюпом, как собака.
– Реглита, научись есть суп.
И мы трое снова переглянулись. Хочешь не хочешь, а на память неизбежно приходил тот день, когда мы познакомились, и я точно так же набросилась на суп, а подружки помирали со смеху. Реглита не обращала на нас никакого внимания. Мы расплатились и поскорее вышли. Я уже почти забыла о том, что такое деньги – крупные купюры нам приходилось видеть редко, да и закон стоимости, спроса и предложения повыветрился из мозгов.
Влажный ветерок дул от моря по улице. Гавана, как всегда, пахла гниющей зеленью, молодым кукурузным початком, газом и подштанниками нищего. Автобусы, проезжая, оставляли в воздухе облака горячего черного дыма. Из-под мышек текло, подошвы тоже были мокрые и скользкие. В свете редких фонарей лица и фигуры прохожих оставались едва различимы, но зато мы могли вволю наслаждаться зрелищем огромной круглой луны и созвездий, дружно высыпавших на небе, чтобы приветствовать зарю. По Рампе от Малекона в сторону «Коппелии» поднималась компания молодых людей с пустыми консервными банками, на которых они, как на барабанах, отбивали ритм и при этом беззаботно, со смешками напевали:
Мы коммунистами стали,
у нас обездоленных нет,
Никита берет наш сахар,
а нам присылает нефть.
Под Никитой, разумеется, имелся в виду Хрущев. Какое-то время спустя «Москва» стала жертвой саботажа. Иначе говоря, контрики привели в исполнение свои давние замыслы, начало которым положила сама Революция ничего не противопоставив медленному и неумолимому разрушению. В конце концов с рестораном решили разделаться поскорее и закрыли его на ремонт без какой-либо надежды на оный, как говорится, «по поводу переучета шницелей столовая закрыта навсегда», к чему все мы давно привыкли. Ходят слухи о том, что его снова собираются открыть, якобы французы вошли в долю и теперь двери его снова распахнутся – для тех, у кого есть доллары, of course.[13]13
Конечно (англ.)
[Закрыть] Возможно, ресторану даже вернут его исконное название, впрочем, это будет зависеть уже от покупателей-французов, а вообще, скорей всего, там устроят кафешку быстрого обслуживания.
Я шла, отупев, как сомнамбула, мои единственные пластиковые туфли – обувь века – разваливались на ходу. У меня была самая плохая модель, так называемые «скороварки», в которых нога прела и мозоли разбухали. Поначалу туфли были белыми, но поскольку я носила их бессменно, то они мало-помалу приобрели желтоватый оттенок, словно их слегка поджарили или выварили в воде с лимоном, и хотя на фабрике в них наделали уйму дырочек, нога совсем не дышала, и пот вперемешку с грязью налипал между задником и пяткой. В результате ноги благоухали, мягко выражаясь, рокфором, а грибковые заболевания, облюбовавшие ступни, можно было изучать в университете. Мои грибки уже напоминали шампиньоны. Ногти заросли ими, а вонь было не отбить даже микоциленом – тальком, для приобретения которого надо было пять ночей простоять в очереди. Это были туфли на все случаи жизни, на будни и на праздники. Стоило свистнуть – и они тут же, вышколенные, как цирковые собачки, сами спешили ко мне и ловко вскакивали на ноги. Когда они сносились, я отрезала каблук бритвенным лезвием «Астра» (советского производства) и выкрасила их черной китайской тушью. К тому времени пропал гуталин. Потом гуталин появился, но пропала китайская тушь и лента для пишущих машинок, так что нам приходилось красить старые, изношенные ленты гуталином, отчего они блестели, как сапоги у водопроводчика. Кроме того гуталин помог разрешить проблему с косметикой – тушь для ресниц была в большом дефиците, и мы мазались гуталином из баночки. Наверное, поэтому я теперь так плохо вижу, почти совсем слепая. Да, то, что мы еще живы, просто чудо. Это была, эпоха, когда почти все считалось контррево, как говорила Факс (можно добавить люционным или поллюционным, какая, собственно, разница?) – людям даже запретили держать дома кусты маланги. Дело было так. Однажды, когда я слушала утром по радио «Синко Латинос», после которых должна была начаться программа Висентико Вальдеса, откуда ни возьмись появился работник санэпидемнадзора, выключил приемник и пропел, покачивая у меня под носом пальцем: «Малангита, малангита, ни-ко-гда». Начиналась кампания против москитов, и у меня чуть было не отобрали мой любимый кустик маланги. К счастью, я в свое время получила удостоверение и диплом как лучший боец на фронте охраны природы, предоставляемые пиздократической кубинской федерацией, что свидетельствовало о высочайшем уровне моей активности, как члена федерации. Словом, кустик мой уцелел, а вот мне пришлось потесниться – я разместила его под потолочными перекрытиями, ведь маланга растет на высоте, да и ветки у нее уже порядком вытянулись и расползлись, гак что я смогла прикрыть ими самодельные подпорки, которые поддерживали наше жилище, – в отсутствие ремонта, из-за перенаселенности, а следовательно и из-за понастроенных клетушек, потолок уже начал трещать, и мы жили в постоянном страхе, ожидая, что он вот-вот рухнет. Запрет на малангу можно было на худой конец отнести к оздоровительным мероприятиям, но «Битлз» – это уже было настоящее преступление! Нашу молодость изо всех сил стремились забить, замордовать, но мы все равно слушали «Битлз», запершись в туалетах или в комнатах с наглухо закрытыми окнами. Часами настраивали мы наши приемники на американскую волну, по которой уж точно можно было слушать что угодно. Или шли с русскими транзисторами на Малекон и, сидя там, глядя в беспросветную ночную тьму, слушали от начала до конца «Вечернюю программу», где нам рассказывали об автомобильных гонках разных формул, о «мустангах» и обо всем, что проскользнуло сквозь цензуру. Когда сегодня я слушаю такие песни, как «Андуринья», «Красные шары», «Письмо» и «Учительница английского», у меня мурашки бегают по всему телу. Еще нас хотели приучить к разным заунывным индейским флейтам, и любой бродячий музыкант, надев пончо, мгновенно становился звездой телеэкрана. Да, и во мне они вызывали жалостливое чувство, но я тут же вставала на дыбы: что общего у этой смертной индейской тоски с нашим прихотливым и красочным разнообразием? Что общего у нашей музыкальной культуры с горестными и жалобными боливийскими или чилийскими мелодиями? К чему так упрямо насаждать тоску и печаль вместо природной жизнерадостности? Нездоровое желание заставить нас поверить, что мы ближе к «Килапаюн», чем к «Битлз», не принесло желанного результата, возможно, в ущерб индейцам, представлявшим такую древнюю и почтенную культуру. Боже мой, какая величайшая истина в банальных словах, что молодость скоротечна и надо пользоваться ею, пока молод! Моя молодость стремительно и неумолимо заканчивалась, а я по-прежнему была с собачьей верностью влюблена в грезу. Мертвой хваткой уцепившись за свои фантазии, я из кожи вон лезла ради заведомо невозможного.
Однажды приехала мать, истосковавшаяся по дочерней ласке. Я познакомила ее с внучкой, и обе моментально влюбились друг в друга. Но мать решила перестроить мою уже вполне устоявшуюся жизнь, переиначить мой хаос на свой лад, внушить мне свои ценности, залезть в каждый тайник моей души. Ей показалось ужасным, что я держу заначку рома в шкафу и каждые пять минут к ней прикладываюсь. С рома, собственно, все и началось. Не в силах противиться пагубной привычке я, когда ром пропал, начала пить гуафарину – спирт, которым торговали в лавочке, – с сахаром и лимоном. Однако после того, как некоторые знакомые стали называть меня Гуафа, я решила взять себя под контроль, впрочем, не слишком жесткий. Таблетки и спиртное позволяли расслабиться, но забыться я все равно не могла. На службе стали насаждать производственную гимнастику, во время которой работа приостанавливалась минут на пятнадцать; в течение этих пятнадцати минут мы делали упражнения. Сразу же после окончания гимнастики нам советовали принимать валиум или диазепам. От них вкупе с алкоголем мне начинали мерещиться разные чудеса, и я пребывала на седьмом небе, расслабленная и освеженная. Курить я так и не приучилась, чему очень рада – вон какие дорогие сейчас сигареты. В черные дни одна моя знакомая, Фотокопировщица, понемногу скурила почти всю Библию, уж больно, хороша для самокруток оказалась в ней бумага. Как-то вечером я зашла к Фотокопировщице и увидела, что дом полон дыма, но она меня успокоила, сказав, что ничего страшного, просто она курит сейчас «Песнь песней». Матушке моей казалось, что все кругом бесконечно плохо. Я возражала, что, мол, конечно, у нее богатый опыт и никто в этом не сомневается, но что ей надо сначала самой организовать свою жизнь, а уж потом требовать этого от меня. Раньше мне приходилось терпеть ее неряшливость, невнимательность, ее безусых жуликоватых любовников, а теперь, она, видите ли, не могла вынести моих подруг – Мечунгу и Пучунгу. Она считала их коммунистическими подстилками, а мне как-то раз крикнула, что я профсоюзная подстилка и дочка у меня неизвестно от кого. К счастью, Реглита не поняла этого слова, потому что к тому времени уже появились школьные портфели, которые в народе называли «подстилками» или «пидорасками». Мы с матерью принялись скандалить, хотя на самом деле орала больше она, я никогда не повышала голоса на мать, никогда. Выложив мне все свои сорок заповедей, она благополучно убыла туда, откуда прибыла, чтобы ухаживать за моей больной сестрой. Я слышала, как она кричала на лестнице, что отрекается от меня и что отныне я могу позабыть, что у меня есть мать.
Я продолжала помогать им деньгами, мне не хотелось, чтобы между нами оставалась хоть какая-то неопределенность, так что я с олимпийской невозмутимостью готова была насрать на все наши ссоры и споры, и по-прежнему регулярно навещала их, всегда в одно и то же время. В конце концов она была моя мать, а мать у человека одна. Больной полиомиелитом брат женился, и жена нарожала ему очаровательных дочек, рыжих, но смуглых и с голубыми глазами, как у бабушки. Второй брат, хронический католик, окончательно заделался церковным служкой и главным помощником деревенского священника. Я видела карточку с его удостоверения личности – чистый китаец, вылитый отец, такой же грустный, со впалыми щеками и такой же несчастный, прибитый своей азиатской кармой, которая срабатывает, как часы, по крайней мере, – на этом островке, где царит смешение кровей. Метисация – наше спасение. По крайней мере, если не пытаться ею манипулировать как национальным девизом в речах какого-нибудь министра-фольклориста.
Дочка моя совсем отбилась от рук. Она буквально срослась со своей накрахмаленной и выутюженной формой, которую снимала за четыре часа до того, как лечь в постель, и с повязанным на шее тугим безупречным узлом галстуком. Мы готовы были выражать солидарность по отношению к кому угодно, но только не друг к другу. Вместе со всем народом мы отправляли сахар и кофе в Чили, одежду и игрушки – жертвам землетрясения в Перу, обувь – вьетнамцам, учителей и врачей – в Никарагуа и, наконец, мужей и братьев – солдатами в Африку. Кофе, сахар, одежда, обувь, игрушки распределялись крайне скудно. Отчасти поэтому наши мужчины с такой готовностью срывались с места и записывались добровольцами куда и на что угодно. Дочка получала хорошие оценки исключительно потому, что готова была выполнять любое, самое бессмысленное задание. Временем перемирия у нас была ночь. Спали мы вместе на полуторной кровати, и не потому, что нам этого хотелось, а потому, что кровати тоже мало-помалу исчезали, разлетаясь в разные концы света, как ковры-самолеты из арабских сказок. (Какая уж тут постельная лирика!) В конце концов кровати просто перевелись. Одеяла, похоже, также превратились в империалистическое изобретение, с которым надлежало бороться и изничтожать его всеми доступными способами. Устав от напрасной вражды и пользуясь тем, что дочка рядом, я нежно целовала ее в лоб и прижимала к себе, словно желала от кого-то защитить.
Мария Регла активно участвовала во всех школьных мероприятиях, будь то работа в мастерских по трудовому воспитанию, или физкультурные соревнования в Понтоне, или прочие акты солидарности, гимны, знамена, целевое обучение, кружки юных пожарников… Теперь я почти не видела ее дома. Ей было одиннадцать, когда однажды она вышла из ванной, держа в руке трусики, на которых красовалось до боли знакомое пятно, землистая клякса – первые месячные.
– Вот я и девушка! – лаконично прокомментировала она.
Я объяснила ей, как пользоваться прокладками, но она и без меня была в курсе. Грудей у нее еще практически не было, и этот факт сводил ее с ума. Однако набухшие соски уже заметно торчали из-под футболки, когда она шла на занятия по физкультуре. Я купила ей на черном рынке симпатичный лифчик, но она сказала, что ни за что в жизни не наденет эту глупость.
– Чего бы мне хотелось, мамочка, так это миленькие шортики или Ли.
Речь шла, разумеется, не о вьетнамчонке из патриотической песни, а о джинсах.
Я почти в буквальном смысле превратилась в свинью-копилку: шортики на черном рынке никогда не стоили дешевле ста пятидесяти песо, а зарабатывала я сто тридцать восемь. Ну а джинсы еще недавно стоили целую тысячу. Короче, отказывая себе во всем и затянув ремень так, что едва можно было дышать, я купила ей шорты, после чего какое-то время она была как никогда ласковой и все время лезла с поцелуями.
Но пришло время, и нам в первый раз пришлось расстаться, расстаться по-серьезному. Она уезжала в загородную трудовую школу на сорок пять дней. Я заказала деревянный чемодан, потому что картонные никуда не годились: их легко протыкали ножами и – фюить! Чудом удалось раздобыть замок. Я штопала ношеную одежду, пока на руках у меня не вздулись волдыри. Чтобы ей было в чем ходить на работу – ведь сменной одежды не хватало. Потом проводила ее до того места, где был назначен сбор в Парке влюбленных. В горле у меня стоял комок, я едва не падала в обморок от страха: а вдруг что-нибудь случится с моим сокровищем? Я много слышала о несчастных случаях, о жизнях, трагически оборвавшихся в расцвете лет. Дочка, со своей стороны, была страшно недовольна, ей было стыдно, что я ее провожаю, ей казалось, что на нее все будут смотреть. Когда мы оказались на месте, выяснилось, что все дети пришли в сопровождении родителей, но она все равно умоляла, чтобы я исчезла как можно быстрее, ей не хотелось, чтобы меня заметили. И это при том, что, когда она встречала кого-нибудь из подруг, лицо ее буквально светилось от радости. Наскоро меня поцеловав, она бросилась к девчонкам, которые с шумом и смехом забирались в автобус. Когда они наконец отъехали, я осталась на месте, не в силах пошевелиться. Стояла, словно зомби, и глядела, как моя кроха исчезает вдали, распевая вместе с другими одну и ту же бесконечно повторявшуюся строчку:
Вот по полю побегу и не обернусь ни разу…
Вот по полю побегу и не обернусь ни разу…
Каждое воскресенье я навещала ее в общежитии. Первый раз в лагере были только девочки, на второй раз состав был смешанный. В пять утра я уже торчала как штык на своем месте с двумя мешками еды в руках. Кормили их, как свиней. Всю неделю я бегала за покупками, чтобы привезти дочке и ее подружкам лакомства, которые нравятся больше всего их молодому поколению – поколению пирожочников. Я везла самое лучшее, самое изысканное, что удавалось достать: пирожки, галеты, пиццу, булочки, лимонад, сгущенку (вот уж чем можно было хорошенько перемазаться!), плитки шоколада – словом, все, что только удавалось выудить на черном рынке. Пару раз я даже привозила бифштекс из морской черепахи в сухарях.
Как невыносимо больно было мне смотреть на мою обгоревшую под солнцем девочку с мозолями на руках, с разбитыми ногами, потому что в лагере не нашлось рабочей обуви ее размера, с сальными, спутанными волосами и главное – худющую как скелет. Сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы уговорить аптекаршу отпустить мне пять пачек сипроектадина для восстановления веса и три пузырька бикомплекса для улучшении аппетита! Аппетит, впрочем, у нее и без того был, мягко говоря, неплохой, а вот что действительно следовало бы улучшить, так иго систему продовольственного снабжения. Но дочка все равно не хотела оттуда уезжать; при этом она уверяла меня, что тот, кто не участвует в сельскохозяйственных работах, считается безразличным к судьбе революции и стоящих перед ней задач, а следовательно лишается права поступать в университет, даже имея отличные оценки и блестящие рекомендации. Мальчиков, которые были не в состоянии выносить такую жизнь, осыпали самыми грязными ругательствами, не щадя при этом членов их семей, кое-кого даже побивали камнями, причем творилось это не только с попустительства учителей, но по прямому их указанию. Таких мальчиков презрительно называли «слабаками». Слабаки могли быть семи пядей во лбу, но позорное пятно навечно марало их характеристику. Мария Регла ни разу не позволила себе дать слабину. Слабину она допускала только по отношению к дому. Ей, как и отцу, хотелось, пораньше стать самостоятельной. В четырнадцать лет она записалась в Турибакоа-2, причем это была уже не «школа в поле», а «полевая школа. Таковы уж нюансы современной кубинской речи: несогласованное определение с предлогом может направить судьбу совсем по иному руслу.
Второй ее отъезд я пережила еще тяжелее, чем первый. Конечно, если Реглита вела себя хорошо и не получала замечаний, она могла приезжать домой на выходной, но остальные дни я проводила в состоянии полнейшего отупения, переливая свои опостылевшие мысли из пустого в порожнее. В конце концов я придумала гениальный способ занять время, свободное от работы, разумеется. Я стала собирать материал, нитки, старые туфли, копила, продавая то одно, то другое, чтобы осуществить свою мечту. Великую мечту. Сделать то, чего сама я в свое время не получила: отметить пятнадцатилетие моей дочери.
Разумеется, в первую очередь я поделилась своими планами с Мечунгой и Пучунгой. Они тоже загорелись этой идеей, словно речь шла об их собственном ребенке, и начали лихорадочно перетряхивать закрома со старыми платьями, туфлями, отрезами ткани, приобретенными еще в пору службы продавщицами «Шика». Они листали пыльные телефонные книжки, выискивая имена давних приятелей – администраторов роскошных– ресторанов, которые могли помочь разрешить проблему с пивом, пирожными, прохладительными напитками и кучу прочих проблем. Припомнили, что как-то провели неделю в Гуанабо с начальником отдела снабжения культурного комплекса и пляжей в Санта-Фе. Я тоже его знавала – в те времена, когда обслуживала пляжные кабинки в Наутико.
– «Испанское казино» – как изысканно! А не погулять ли нам в «Испанском казино»?! – воскликнули мы все трое разом.
Закрыв глаза, я представила, как Реглита, в длинном платье из голубого тюля, танцует вальс в большом зале с полом из розового мрамора – и чуть не умерла от сердечной судороги. Да, но кто же будет ее партнером? Обычно девочки, которым исполняется пятнадцать, танцуют вальс со своими папами. Теперь надо было во что бы то ни стало раздобыть недостающего родителя!
– Я знаю учителя танцев, который работает на таких торжествах. Знаменитость! И, надо же какое совпадение, зовут его Кукито! Учителя зовут Кукито! Берет он недорого, не разоришься, но зато ставит танцы точь-в-точь как в «Свече девственницы», а это, скажу тебе, лучший фильм с Кармен Севильей. Я его сорок пять раз смотрела, голуба моя, в «Хигуэ», со стереофоническим звуком, и еще столько же могу посмотреть, потому что, знаешь, дали б мне возможность попутешествовать, я бы съездила в Испанию, правда, говорят они там немного странно, все шепелявят, но зато чего там только нет: сидр, маслины, колбаски, нуга, омлеты шириной в два метра… Да, насчет учителя Кукито – у него бывают свои причуды, любит слишком часто переодеваться, но на то он и профессионал, сама понимаешь… Эй, голуба, что ты на меня вылупилась как удавленница? Отцом может быть хоть Иво, ему страх как нравятся все эти сантименты! – казалось, Мечунга бредит. – Надо будет отщелкать пленку. Представляешь, Кука, сколько у тебя будет фотографий, такое ведь раз в жизни бывает… Вот что – я беру на себя все фотографии, это и будет мой подарок!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































