Текст книги "Петр III"
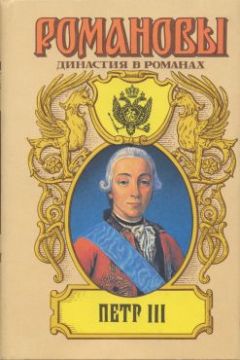
Автор книги: А. Сахаров (редактор)
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 53 страниц)
Так, забежал снова я вперёд, извлекая рассуждения последнего времени и искажая облик прошлого, видевшегося невежественному в разумности, – кто полагается на Бога, тому нестерпимо вдруг не узреть никакого порядка в его чертогах.
Было уже преступлено в новый, 1762 год, когда последовали известия, повергшие всех в новые тревоги, но сопряжённые, как водится, и с некоторыми надеждами самоутешения. Изволил прийти к нам комендант лагеря полковник Кноблаух и, собрав пленных офицеров в большой зале, где по углам лежал лёд, торжественно объявил, что императрица Елисавета Петровна переселилась в иной мир ещё в день Рождества 25 декабря и во владение Российской империей вступил великий князь Пётр Фёдорович, назвавшийся Петром Третьим. Полковник с ухмылкою оглядел нас, невзрачных, обтрёпанных заточением и скудостью осуществимых желаний, и поздравил с новым самодержцем.
По уходе полковника мы растолковали между собою причину его ухмылки: великий князь, внук Петра Великого, отпрыск дщери его Анны и голштинского герцога, открыто питал любезные чувства к прусскому королю, а православную веру принял только по приезде в Россию в возрасте 14 лет, когда уже вполне складываются основные наклонности характера…
Таковой поворот событий породил слух, что государыню, известную прежде крепким телесным здоровьем, уморили умышленно. Что на самом деле приключилось, об том я не смею судить и поныне с достоверностию, зная лишь, что государыня простудилась и её лихорадило, а потом вдруг открылась рвота с кровию. Лейб-медики Моисей Шилинг и Круз, всё сплошь иноземцы, в один голос уверяли царицу, что мучается она от геморроя, и делали ей кровопускание, безмерно ослаблявшее и без того измученный организм…
Сизоносый Кноблаух словно потревожил дремавший улей. С той поры все томились крайним уже нетерпением возвратиться в родное отечество, тем паче что переговоры об обмене пленными офицерами, как нам было ведомо, велись уже давно, да всё слишком неловко и с проволочками; теперь же уповали на ускорение дела.
И верно – через неделю пленных поделили на четыре команды и велели собираться, сказав, что повезут через Померанию для передачи русским на польской границе. Я попал в четвёртую команду из сорока трёх человек, которой, однако, по счастливому стечению обстоятельств, выпало первой отправиться домой.
Нам внушали, что освобождение – добрая воля Фридриха, никаких подробностей о том, как решается наша участь, мы не ведали вплоть до прибытия в Кенигсберг.
Морозы держались преизрядные, одеты мы были весьма скверно, пропитание наше было и того хуже, но мы уж и тому несказанно радовались, что настаёт конец мукам в неметчине.
Повезли нас мимо городков и местечек на открытых пароконных фурах в сопровождении прусского офицера. Понеже было холодно, неудобно и тряско, мы чаще хаживали пешком вслед за своими повозками. Даже при сильных снегопадах можно было видеть грустное сие движение, обыкновенно молчаливое.
После я узнал, что отнюдь не таковым бессердечным образом отправлялись из России пленные прусские офицеры: им были предоставлены крытые коляски, всех снабдили тёплым бельём и епанчами[68]68
Епанча – широкий плащ-накидка.
[Закрыть] и не только обильно питали, беспокоясь, какое мнение они станут иметь о России, но и потчевали винами.
Мы же, сплошь все дворянского звания, будучи никак не хуже пруссаков по ревности служения отечеству на поле брани, принуждены были терпеть немалые лишения. Двое из наших сотоварищей по дороге скончались: поручик Тимофеев умер от простудной лихорадки, а князь капитан Мещерский, коего пленили израненного при первом штурме Кольберга, замёрз на утреннем перегоне в провиантском возке, хотя и был укрыт единственною у нас тёплою шубой. Испытывая на каждом шагу поругание достоинства и унижения, мы, русские, часто уже бессознательно превозносим над собой всякого худого иноземца, но что сие не только следствие нашего невежества и печально вкоренившегося повсюду небрежения о людях, а непосредственная цель закулисной шайки, про то я сведал позднее.
Со слезами на глазах бросились мы всею толпой к первому же русскому офицеру, которого увидели в Мариенбурге, но были остановлены грубой холодностию его и возмутительным равнодушием тона – то был секунд-майор Тоффлер, уполномоченный генерал-поручика Панина, прибывший с комиссией по размену пленных.
Оный майор весьма дотошно опросил и исследовал каждого из нас, прежде нежели выправил дозволение на въезд в пределы Российского государства.
Обременённые муками судьбы, с тяжким сердцем вступили мы под сень отечества, чувствуя, что нам нисколько не рады, будто мы сделались отверженными, и всякая негодь власно как получала право измываться над нами, двусмысленно рассуждая о наших воинских доблестях.
Мне ещё повезло; едва ли не тотчас встретил я в Кенигсберге старого знакомца – Ивана Демидовича Рогожина, губернаторского адъютанта. Сей бескорыстный благодетель ссудил меня деньгами и, сколько я ни отбивался, заставил поселиться у себя на квартире. Мне была отведена лучшая комната с чудесным видом на канал. После всех мытарств жилище показалось мне сущим раем. Обедать со мной Иван Демидович не остался, так как обедывал обыкновенно у губернатора, с его секретарями, однако послал человека в трактир, и тот принёс превосходный обед. Впервые за много дней я насладился пищею отменной, и тишина свободы явилась мне лучшим собеседником.
Насытясь, я почёл себя в высшей степени нелюбезным в отношении своих сотоварищей. Приведясь в надлежащий вид, я помчался в судейскую губернской палаты, где отыскал вновь Ивана Демидовича и озаботил его судьбою остальных офицеров, прибывших из прусского плена. Я просил похлопотать у губернатора о попечении, и господин Рогожин немедля сам учинил кое-какие распоряжения.
За беседами, продлившимися едва ли не до заутрия, узнал я от Ивана Демидовича о нововведениях, предпринятых новым императором, и был восхищён его первыми реформами. Закулисная сторона великих перемен была мне о те поры неведома, а сторона, обращённая к обывателю, вселяла бесконечные надежды. Я почёл себя особенно облагодетельствованным Манифестом о вольности дворянства. Лично меня не беспокоила пока мысль, служить в армии далее или не служить, но сама открывшаяся вдруг передо мною возможность при первой нужде просить абшиду[69]69
Абшид – отпуск; отставка.
[Закрыть] весьма радовала. Ни я, ни мои сотоварищи о последствиях упразднения обязательной и, конечно, крайне обременительной службы, до сорока шести лет вынуждавшей здоровых мужчин живать вне родного дома и семьи, скитаясь где придётся, тогда и не задумывались. Иные, натерпевшись лишений и познав все тяготы армейского быта, не похотели долее испытывать судьбу, гадая, будут они убиты или изувечены, и возмечтали приискать себе должности при дворе, иные замыслили вернуться в родовые имения, заняться хозяйством или предаться праздности. Отныне всем желаниям суждено было исполниться. Как же было не ликовать? Как же было не благословлять государя? Всем подлинно казалось, что над Российской империей наконец восходит солнце свободы и его тепло принесёт общее процветание.
Господин Рогожин пояснил мне, о многом недоумевавшему, что отпуски со службы будут производиться не сразу и не для всех пожелавших, но постепенно, чтобы не разрушить армии и управления, и что одновременно с отставками предполагается введение повсюду в полках и учреждениях более строгой дисциплины.
– Наконец-то, дорогой друг! – воскликнул я. – Вот и дождались мы, узрел государь, сколь пагубны наши волокитства повсюду, сколь отвратительна необязательность всякого дела и всякого зачина, сколь унизительно трактование человеческого достоинства как мушиного или блошиного!
Отрадные перемены в судьбах отечества оживили в сердце любовь. Всего день пробыл я в Кенигсберге, а уже изнывал и рвался поскорее увидеть Лизу, узнать, что с ней, и решить наконец о женитьбе. О, ещё самая пылкая надежда двигала мною!
Думал я, разумеется, и о сестре, и о маменьке, зная, сколько горючих слёз пролито ими в захолустной нашей смоленской обители. Да живы ли они вообще? Доведётся ли мне поцеловать их, радуясь встрече? Хлопоты по начальству об отпуске оказались напрасными. Никто не пожелал даже и войти в рассмотрение моей нужды, отговариваясь, что в Военной коллегии в Петербурге учреждена особная комиссия, коей вменено исследование дел бывших пленных офицеров.
Итак, несчастие судьбы оборачивалось неким клеймом, от которого было нелегко избавиться таковому счастливцу, как я, – без больших знакомств и влиятельных родственников.
Однако я не унывал. «Что ж, каждый должен достойно пройти круг, очерченный Богом, – говорил я себе. – Что ни выпадет, должно осилить, и в том наш долг. Иначе – в чём же ещё?»
Не желая упустить тогдашнего зимнего пути, напросился я ехать в Петербург сотоварищем к капитану Изотову, получившему очередной чин и назначение в столицу. Сей офицер, сам того не ведая, сыграл в моей судьбе немалую роль, как о том я ещё расскажу. Добрый приятель господина Рогожина, он взял меня с собой совершенно бесплатно, хотя следом за его возком должны были следовать сани, битком набитые разными пожитками, так что затруднялся он даже рассадить своих слуг.
Узнав от новоприбывших извозчиков, что кратчайший путь до Мемеля по песчаной косе тяжёл по причине неожиданной оттепели, мы направились на Тильзит. И уже благополучно миновав сей город и перебравшись через Неман, едва не потонули, переезжая по льду крохотную речку, на четверть залитую водою. Лёд под тяжёлыми санями впереди неожиданно лопнул и разошёлся, одна из лошадей угодила по грудь в разводье. Мы соскочили с возка в воду, но люди, сопровождавшие нас, сумели обрезать постромки, снять сбрую с провалившейся лошади и вытащить возок. И хотя все мы изрядно вымокли и намёрзлись, пока достигли ближайшего жилья, где можно было обогреться, приключение послужило к укреплению моей дружбы с господином Изотовым. Я почти тотчас вошёл к нему в доверие, и он стал рассказывать о себе самое сокровенное. А прежде без умолку трещал всё об одном: что изрядно поиздержался при экипировании себя в новом чине, во что обошёлся ему выходной синий мундир и во что кавалерийский, как он покупал серебряные шпоры и золотой шарф, и всё беспокоился, что его новая шляпа ему великовата и при ветре слабо держится на голове.
Со всею пустой болтовнёй было власно как отрезано, когда он увидел, что я спасал вначале его, а потом себя. Разговоры обрели иное направление. Именно от господина Изотова я впервые подробно услыхал о придворных интригах и был весьма удивлён тем, что рвение могущественных вельмож употребляется не на служение престолу, а на получение всё новых царских милостей для себя путём оговоров соперников, на любовные интриги и составление разных партий.
За любопытными разговорами миновали Мемель, затем Митаву и, наконец, достигли Лифляндии, поражаясь, как всё пустынно вокруг, нет нам ни встречных, ни попутных обозов, и как печально горят вдали последние зимние зори.
Установление дружества с капитаном Изотовым имело для меня немаловажные последствия. По приезде в Петербург я остановился на первых порах в доме его покойного отца на Мойке, как раз насупроть дворца графа Петра Ивановича Шувалова, к тому времени тоже покойника. В доме Изотова я познакомился с его дядей по матери – князем Васильем Васильевичем Матвеевым, занимавшим весьма важную должность при Елисавете Петровне и оставленным в ней новым государем.
Его сиятельство был хотя уже и сед, но всё ещё весьма крепок, черты лица являли внушительность и грозность, как и подобало вельможе. И хотя он держался доверчиво и даже шутливо в отношении меня, великолепно отрекомендованного капитаном, всё же я успел заметить, как ловко он умел исследовать собеседника немногими вопросами. Князь отнёсся ко мне с участием и обещал покровительство. «Дозволяю вам вперёд обратиться ко мне за помощию, – прямо сказал он. – Но только при крайней нужде. Я сержусь от излишних обременений, как тяжко навьюченная лошадь, и кроме прочего не люблю, когда молодые люди, не предприняв и десяти усердных атак для овладения жизненною крепостию, умоляют о заступничестве. От сего проистекает в России порода гнусных прислуживателей, и в дальнейшем никак не рассчитывающих на собственные силы!»
После таковых его безутайных слов, рассудив за благо полагаться лишь на самого себя, отправился я за Красный мост в Военную коллегию. Там мне было сказано, что государь повсюду пророчит сокращения ради экономии и хотя иные подают в отставку, воспользовавшись Манифестом, с новыми назначениями предписано повременить. «И, сударь, – сделали мне вывод, – ежели вы не приищете никакого места сами, подавать вам прошение на отпуск нет резону: получают его только состоящие при должности, вы же с оной соскочили!»
Изо дня в день я обивал пороги разных учреждений, но повсюду слышал одно и то же, так что упорство моё значительно поубавилось, а растерянность приросла. Лишь в Сенатском полку посулили мне должность, правда, весьма худую, малоденежную, чину моему не соответствующую. Я с возмущением отступился, хотя после пожалел, ибо надобней всего мне был самый отпуск, а не должность.
Настроение моё, однако, более всего падало из-за удручающих слухов и известий, каковые окружили меня по приезде в Петербург. Я узнал, что государь открыто говорит о ненависти к русским обычаям и установлениям и ведёт себя как чистый лютеранин и доброхот немцев. Якобы в первые же дни после восшествия на престол он сговорился о перемирии с прусским королём и обещал возвратить ему Пруссию, присягнувшую уже на подданство Елисавете Петровне, а также и Померанию с Кольбергом, отнятым великой кровию.
Конечно, сие не высказывалось прямо перед незнакомыми из опасений доносов и расправ: хотя уже упразднили ненавистную повсюду Тайную канцелярию, люди попривыкли бояться и без нужды никому не доверялись. И всё же меня возмущало, что вслух о поруганной правде говорят одни увечные и калеки, а прочие если и говорят, то шёпотом. В присутствии же хотя бы самых незначительных вельмож, особливо иностранцев, не только не оспоривают решений государя, но превозносят до небес его миролюбие и заботы о благе империи.
Я спрашивал, отчего кругом таковое двоедушие и подобострастие, если новый государь от всех требует правды. Мне не отвечали и, улыбаясь, пожимали плечами. Когда же я громогласно начинал роптать против общего молчания, меня спешили покинуть, яко прокажённого. От стыда, обиды и невозможности говорить о сокровенном в родном отечестве, как говаривалось даже и в немецком плену, я занемог и потерял интерес к продолжению службы.
Узнав о причинах моего недуга, господин Изотов отчитал меня со всей строгостию, так что я почувствовал себя кругом полным невеждою.
– Эх ты, Аника-воин, – сказал господин Изотов. – Да ведаешь ли ты, что призывами к чести уже неможно поднять бесчестных? И бесчестие само происходит от полного бессилия. Вот и после опричнины честь ещё сберегалась, да Тайная канцелярия за сорок лет оказалась пострашнее и опричнины. Самые негодные и неведомые люди, возымевши при дворе влияние, почти и не карали врагов трона – по совершеннейшему произволу мучили и пытали неповинных, но неугодных людей. Лучших людей отечества. При гробовой тишине и общем молчании Тайная канцелярия сломила в боярстве и дворянах первоприродный их дух, побуждающий к защите державы даже ценою несогласия с государем. Все, кто имел смелость не одобрять или порицать, лишились влияния, власти и самой жизни, имения их розданы проходимцам, обесчестившим их, а жёны и дети несчастных впали в нужду и бедность и, неузнанные, почитают ныне за благо породниться с купцами – столь они застращены и столь в отчаянии. Бессчётно благородных фамилий исчезло со времён Петра, и об том в свете предпочитают умалчивать и поныне!
Я был поражён точно громом среди ясного неба.
– Откуда ты всё знаешь?
Господин Изотов усмехнулся.
– Двух секретов за раз не выбалтывают. Ты спрашивал, отчего в людях мало благородства, и я указал на ответ, о котором ты подумай дальше, не привлекая вспомощников… Страх побуждает ко лжи, а ложь, умножая повсюду беспорядки, увеличивает беззащитность. Ты хвалишь тех, кто уезжает из Петербурга в родовое имение? Но ведь тем самым ещё более умножаются силы негодников, со всех сторон обступающих трон.
– Кто сии люди? – вскричал я.
– Ты хвалишь Указ о вольности дворянства, – продолжал Изотов, не отвечая прямо на мой вопрос, – но знаешь ли, что, пользуясь Указом, за границу во множестве потянулись иноземцы, бывшие у нас в службе, и увозят с собой столько богатств, что Россию можно считать обокраденною дочиста?.. И всё-то мы слабы и ничтожны, доколе каждый только за себя!..
Не вообразить теперь тогдашнего моего отчаяния: вдруг почувствовал себя кругом обобранным до последней нитки и в безразличии ко мне чиновных людей в присутственных местах и генеральских передних подозревал уже нечто большее, нежели случайность. А тут ещё прошёл слух, будто государь, отправившись прогуляться в свой любимый Ораниенбаум, приметил у верстового столба офицера-калеку, просившего милостыню, и порядком оттрепал его. Прийдя в крайнее негодование, государь якобы потребовал от полицейского генерала, случившегося рядом, чтобы из столицы немедленно прогнали всех немощных и калек. «После позорной войны я не признаю калек! Я не хочу нести ответственность за чью-то безответственность! Пусть платит за их увечья кто угодно, только не я!..»
Так ли оно было или не так, но в крайнем осерчании замутнённый разум мой несколько даже прояснился: я понял что Божеская воля вершится не иначе как людскими руками и всякий человек – ничтожная пушинка не токмо пред Господом, но и пред кучкою злодеев, составивших заговор.
Я уже горько сожалел о том, что в первый же день приезда, ободрённый надеждами, воспользовался оказией и отправил к матери письмо, в коем в самых радужных красках разрисовывал своё будущее, чтобы справиться под конец о Лизе. Теперь я понимал, что излишне поспешил и мои прошпективы на женитьбу без отыскания хлебного места весьма безрадостны.
Не привыкнув к праздности, в дни, когда неможно было ходить с прошениями, я отправлялся бродить по городу, всюду с грустью примечая перемены, происшедшие за моё отсутствие. Там был разобран крепкий ещё дом, поражавший своей затейливостью, там исчезла целая улица и появился сад с нелепо остриженными деревами. «Вот, прежде всё было веселей и уютней, но никто даже и не догадывается. Не тако ли и с людскими судьбами? – рассуждал я в тревоге. – Мы обыкаем лицезреть одних людей, не ведая, что были прежде них люди не менее достойные, и никто и не потщится упомнить тех, ушедших, и точно так же будет и с нами в свой час, и с теми, кто приидет после…»
Стоя на холмистом берегу Невы, я тешил взор зеленеющими просторами. Тамо и сямо вспыхивали золотом шпили башен и купола церквей. Тамо и сямо кипели лихорадочные работы по укреплению берега каменными глыбами. Сотни мастеров, подмастерьев и чёрных рабочих сновали подле бессчётных телег с дроблёным камнем и песком, дюжие мужики чугунною бабою с копров[70]70
Чугунная баба – ударная часть (поднимающаяся и опускающаяся) копра – устройства в виде козел для вбивания свай.
[Закрыть] вбивали сваи, крик и шум доносился, бегали собаки, толпился праздный люд всякого сословия, а по Неве скользили галиоты,[71]71
Галиот – небольшое судно.
[Закрыть] барки гребные суда и расписанные красками гондолы с застеклёнными каютами, откуда выглядывали вельможные дамы. Несмотря на студёную воду, прачки в белых платках и подоткнутых юбках стирали на мостках бельё, и корзины их стерегли мальчики, то ссорившиеся между собою, то игравшие в непонятные мне игры, – подбрасывали на ладонях чёрные и белые камешки.
Напротив Васильевского острова тянулись дровяные склады, подлежавшие скорому сносу. Тут разгружали и складывали брёвна, пилили их и кололи на дрова, и вязанки проданных дров увозились на телегах. За складами, по берегам, заросшим кустарником, простолюдины, как и прежде, ловили рыбу.
По булыжной мостовой Большой Морской с громким перестуком катились коляски, экипажи, кареты, проезжали с растерянными лицами конные курьеры, сновали понурые пешие и при звуках музыки иногда маршировала какая-нибудь гренадёрская рота из расквартированных в столице полков, но ни удали, ни усердия не находил я в солдатах и офицерах.
При каждом мосту поставлена была будка, и важные будочники с алебардами то и дело задирали обывателей.
Как отличался нынешний Петербург от того, каким я знавал его прежде! Будто пропало ощущение юности и не стало уже простёртой некогда над градом десницы Великого Зиждителя, молча стыли под небом синие пространства. Предписанные Петром Первым правила застройки, видимо, совсем уже были позабыты, и я находил самый дерзостный вызов завета и в казённых зданиях, и в жилых домах вельмож, и в постройках, назначенных для торговых и работных людей.
Без радости уже созерцал я любимые мною прежде Никольскую и Успенскую церкви, а также церковь Смольного монастыря, всё ещё не достроенную, даже почти и не продвинувшуюся в постройке с тех пор, как я бывал подле неё с приятелями из Шляхетного кадетского корпуса.[72]72
Сухопутный шляхетский корпус был основан в 1732 г. X. А. Минихом, сыграл заметную роль не только в подготовке военных кадров. Значительна его роль и в истории русской культуры XVIII века: среди его воспитанников были такие видные писатели, как А. П. Сумароков, В. А. Озеров, М М. Херасков. В Сухопутном корпусе учился Ф. Г. Волков. В 1759 г. Пётр III был назначен главным директором Шляхетского корпуса.
[Закрыть] Таковую же незавершённую картину представлял Большой гостиный двор, о коем трезвонили, что это наипросторнейшее в целом мире сооружение.
Мрачный вид являли собою строения на Заячьем острову. Я вдруг открыл, что Петропавловский собор не только не выражает русских устремлений к свободе и празднику духа, но и враждебен им, как враждебны все самые знаменитые в столице дома: ансамбль Двенадцати коллегий, дворцы Меншикова, Строганова, палаты Смирнова и Кикина: дразнили они сердце чужою красотой и чужою силою. Более всего смущал меня отныне Зимний царский дворец, возведённый на месте бывших бивуачных лагерей. Здание превосходило всё окружение своею надменностью, поражая обескураживающей бестолковщиной в обилии украшавших его фигур и всяческой лепнины. Иностранцы не скрывали, что это дурной вкус и в Европе никто и никогда не стал бы строить такового здания. Их спрашивали, зачем же осмеливается иностранец строить его в России, коли б не стал строить нигде в Европе? «Сие ж в России, – отвечали они с усмешкою. – Оттого мы и любим Россию, что в ней можно делать то, что неможно делать у себя на родине!» Зловещее сквозило в двусмысленной шутке. Узрел я и то, чего прежде не примечали очи мои: мёртвую линию, разделявшую роскошь и власть от нищеты и бесправия. Сразу за Сенным рынком ходили заморённые дети и куры, на шестах сушилось драное бельё, а на крыльцах сидели кое-как одетые старушки – отогревали на весеннем солнышке замёрзшие кости. Тут во всякое время можно было встретить похоронное шествие – и с попом, и без оного…
Гонимый неизъяснимой тоскою, иногда отправлялся я к казармам Белозёрского полка, наблюдал экзерциция на плацу или торчал на верфи, где строились малые грузовые суда.
Вскоре по приезде в Петербург я стал свидетелем зрелища, о коем упоминаю единственно для того, чтобы показать, как коварно действовали повсюду злоумышленники и как ловко они пользовались слабостями государя.
За пять дней до Пасхи, выпавшей тогда на 7 апреля, вдруг стали объявлять по городу, что каждый волен прийти на луг перед нововозведённым Зимним дворцом и взять себе бесплатно и беспошлинно любые остатки, будь то гранитный камень, кирпичья или что иное. Толпы народу устремились на луг перед дворцом, и хотя оный простирался от Адмиралтейства до Мойки и Исаакиевской церкви, в несколько часов там возникло столпотворение. Тысячи людей растаскивали всё подряд, отнимая добычу друг у друга, ломали хибарки и сарайчики, поделанные казёнными мастерами в продолжение долгого строительства. Каждый стремился завладеть царскою дармовщиною, и оттого на лугу происходили столкновения и отвратительные драки при громкой ругани. Несмотря на присутствие полицейских чинов, два обывателя и малый ребёнок были затоптаны смерти толпою, а сколь было побито в кровь, тех и не пересчитать. Я сам видел окровавленных и перепачканных грязью людей в Миллионной улице, со стенаниями бежавших от луга, но тащивших под мышкою какую-либо безделицу. Улица же сделалась вовсе непроезжа – отовсюду несли и катили на тачках брёвна и доски, повреждённые бочки, рогожи и мётлы…
Дикие нравы при таковых обстоятельствах проявила бы толпа, несомненно, в любой стране, будь то Саксония или Швеция, но злопыхатели нарочно устроили позорное зрелище, дабы укрепить государя в его отвращении к столичному подлому[73]73
Подлый – т. е. принадлежащий к низшему, податному сословию.
[Закрыть] люду.
Зрелище придумал генерал-полицеймейстер барон Корф, и Пётр Третий, глядя из окон старого своего дворца, битый час забавлялся созерцанием несчастных подданных, насмехаясь над ними, как пианый купец насмехается над калекою у паперти.
Впоследствии я узнал, как было замыслено зрелище. Государю непременно хотелось к Пасхе перебраться в новый дворец, и хотя внутренняя отделка его была ещё не завершена и сотни работных людей трудились не только от света до света, но и при свечах, последовало распоряжение спешно приуготовить для переезда главные помещения. Однако же переезд и празднество новоселья могли не состояться, понеже пространство вокруг дворца было завалено горами мусора и остатками строительных материалов. Для убирания оных потребны были не дни, а недели, – в таковых обстоятельствах и был предложен царю план народного разбора. Весь луг подле дворца был очищен в короткое время – стало возможным подъезжать ко дворцу. Но какая безмерная нравственная цена была уплачена!
Удручающее впечатление усиливал ропот в знакомых мне офицерах. Недовольные наступившим в политике поворотом, они не признавали за государем добрых намерений, говоря повсюду, что поспешное замирение с прусским королём, исполненное князем Волконским, уничтожило плоды долгой, многокровавой и многокоштной[74]74
Кошт – содержание, пропитание.
[Закрыть] войны. С языков не сходило известие, будто корпус графа Чернышёва, позорно отделившись от соузных аустрийцев, направился в Пруссию – то ли на помощь Фридриху, то ли для какой новой роковой затеи.
Нововведения в армии трактовались как преклонение перед пруссаками и растоптание традиций. Носились слухи, что тотчас же по смерти Елисаветы Петровны новый государь облачился в прусский мундир, украсив его прусским орденом Чёрного орла, полученным за неведомые услуги, и что сей знак государь будто поднял выше всех своих российских наград.
Вместе с роптавшими и я осуждал государя за желание переодеть армию в тесное и забавно пёстрое прусское платье. И меня возмущало, что вместо обыкновенных зелёных и синих мундиров было приказано ввести в полках свои собственные. Но более всего вызывало досаду, что у полков были отобраны гордые их наименования, происходившие от городов, – они стали называться по именам командиров и шефов.
Разве я мог задуматься тогда, что следую не только своему чувству справедливости, но гораздо более – подсказкам злопыхателей? Беспечно поносил я уставленное ежедневно экзерцирование, с неохотою встреченное особливо гвардейцами, привыкшими ко льготам и вольностям. И, конечно, смеялся над переменой в наказании нарушителей воинского порядка. «Вот, – говорил я, повторяя чужие слова, – хрен торжественно заменили редькою: вместо батожья, кошек и кнутов станем употреблять отныне палки и фухтели»![75]75
Фухтель – плоская сторона клинка холодного оружия.
[Закрыть]
В один из самых обыденных дней произошла преудивительная встреча, вскоре круто повернувшая прямо-таки нищенскую мою судьбу.
Шедши по Казарменной линии около полудня, пустынной, понеже повдоль дороги с одной стороны тянулись глухие заборы конного полка и амуниционных складов, а с другой – гнилая протока, соединявшаяся с Невою, у самой протоки среди чахлых сосновых дерев и кустарника приметил я белку и, желая поближе рассмотреть её, углубился в заросли. Почти тотчас до слуха моего донёсся грохот: с разных концов усыпанной щебнем линии приближались друг к другу две богатые кареты – чёрная с золотыми разводами и то ли гербом, то ли вензелем, и вишнёвая, блестевшая лаком. Съехавшись, они остановились. Оконца в каретах отворились, из одной высунулась рука с пакетом, другая этот пакет приняла. Кареты тронулись, разъезжаясь, и тут я неосторожно вышел на дорогу. Приметив меня, кучер чёрной кареты придержал лошадей. Почувствовав, что меня пристально рассматривают, я поднял глаза и увидел в карете будто бы знакомого мне прежде человека. Впрочем, я совершенно не узнал его. Но он отворил дверцу кареты и сошёл на дорогу. Одет он был в статскую одежду, употребляемую состоятельными людьми обыкновенно для прогулок.
– Сударь, – сказал он, – позвольте полюбопытствовать – что вы здесь делаете один на пустынной дороге?
В сей момент грызла меня досада: вот, думал я, есть молодцы сытые и весёлые, пользующиеся всеми щедротами Божьего мира, а я, проливавший за отечество кровь, с трудом уцелевший, претерпевший позор и страдания плена, до сих пор не могу найти препоганого местечка и вынужден по полдня месить грязь, чтобы не думать об унизительных стеснениях судьбы, о слуге, о сапогах, об обеде, о жалком своём мундире.
– Уж не заблудились ли вы?
– Пожалуй, – отвечал я сердито. – В России легко заблудиться офицеру, потерявшему свой полк!
– Хотите сказать, что в России полно пороков? Так я с вами согласен, сударь, только ведь есть почтенные люди, которые служат отечеству тем, что исправляют его недостатки!
– Не встречал пока таковых, – сказал я.
– Так вы припоминаете меня или уже вовсе забыли?
И тут меня осенило: ба, так ведь сей нарочитый муж – прусский полковник, сказавшийся лекарем, которого я некогда отпустил!
Встреча сделалась мне весьма любопытна.
– Конечно, я узнал вас, – отвечал я, – однако обстоятельства нашего знакомства таковы, что мне не стоило бы признавать вас, если бы даже мы встретились в чистилище.
– О! – воскликнул вельможа. – Вы всё ещё тревожитесь, что совершили бесчестный поступок?
– Ничуть. Просто я не хотел бы доставить вам сколько-нибудь огорчений необходимостью объясняться. В свой час вы честно предупредили меня об опасности, и хотя я не сумел воспользоваться любезностию, я помню о ней.
– Благодарность – преудивительное для людей качество, – заметил вельможа. – Впрочем, вы и тогда произвели на меня впечатление благородного человека. Мне доставило бы радость похлопотать за вас, если в том есть нужда. Я имею честь почти ежедневно видеть императора.
Я был поражён. «Вот человек, который приблизит фортуну!» Захотелось понравиться вельможе. Но как всякому униженному – не слишком явно унижаясь.
– Разве сие имеет существенное значение? – улыбнулся он, потрогав свой парик с толстой прусской косою.
– Совсем нет, – ответствовал я, нисколько не лукавя. – Вовсе нет надобности родиться русским, чтобы исправно служить России.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































