Текст книги "Петр III"
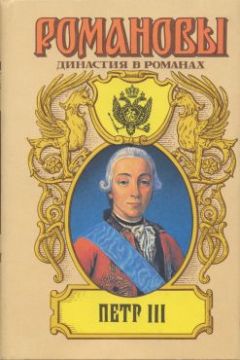
Автор книги: А. Сахаров (редактор)
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 53 страниц)
– Пустое! – пренебрежительно махнул рукою Гудович, адъютант царя и новоиспечённый тайный советник. – В России не привыкли к произведению вещей деликатных и тонких, а пиво – верх искусства. У нас, если станут варить кашу, из котла вытащат непременно дёготь… На днях, ваше величество, велел я своему новому повару Петрушке подать чаю с лимоном. Насыпал он в самовар чаю и туда же дюжину лимонов. Варил-варил, а потом докладывает: «Не попробуете ли, ваше превосходительство? Чай вроде готов, а вот лимоны готовы ли, по вкусу не пойму!»
Государь хохотал, дрыгая ногами, – умел смешить Гудович, ловкий прохвост то ли из немцев, то ли из венгров, то ли из поляков, неведомо как прилепившийся к государю. Путались люди, о том дознаваясь, даже подлинное имя его по-разному называли: то Альбрехт Вильгельм, то Абрахам Вильям; тогда как известен он был повсюду за Андрея Васильевича.
Гудович был, несомненно, крупным масонским князем. Недаром государь посылал его курьером к королю Фридриху с известием о своём вступлении на престол и о желании вечного с Пруссией мира. Рассказывали, что принимаем был Гудович великим мастером Ордена власно как высочайший государственный муж…
Вечером следующего дня, едва явился сменный офицер, генерал Гудович подозвал меня к себе.
– Просили похлопотать о вашей встрече с арестантом капитаном Изотовым. Вот пропуск. Сопроводит вас в камеру полицейский офицер, а других провожатых не нужно. Спрашивать дозволено всё что вздумается. И более о том молчок!
Взяв пропуск, я отправился в Петропавловскую крепость Мрачные её и неприступные стены навевали на меня тоскливое волнение. «Не так ли и мы живём, обнесённые со всех сторон неприступной стеною своей слабости и беззащитности перед злодеями в мире сём?» – подумалось мне.
Поскольку в Петропавловской крепости я давно не бывал, то зело поразился тамошним строгостям: сопровождавшие в разговор со мною не вступали и не показали мне воочию ни самый равелин, ни примерное место каземата, в коем содержался оклеветанный приятель мой, а повели молча, отобрав пропуск, по подземному ходу от комендантского дома…
Открывшаяся взору камера оказалась столь узкой, что в ней едва можно было протесниться боком. Холод и сырость источал камень, и мрачность всей обстановки такова, что и самый несгибаемый человек в продолжение немногих дней, пожалуй, совершенно бы отчаялся и пришёл в расстройство ума.
Нечем было дышать, и хотя караульный офицер, сопровождавший меня, нёс фонарь, я далеко не сразу разглядел бедного Андрея Порфирьевича.
Да и по правде сказать, что от него, прежнего, осталось? Он преобразился в дряхлого старика. Поседевшие волосы торчали паклею, выросла борода, и в глазах появился звериный блеск, то ли от мрака обиталища, то ли от безысходности, то ли от прикосновения к неведомой мне ещё правде.
– Любезный Андрей Порфирьевич, – воззвал я, памятуя что мои слова слушает и запоминает подосланный от Ордена человек, может, сей тупой пианица-офицер, может кто иной, спрятавшийся в извивах каменной пещеры. – Признаёте ли вы меня?
Капитан Изотов, облачённый в тюремные дерюги смотрел, не узнавая.
– Вы, – выдохнул он наконец так, словно и речь была ему уже чуждой, – ужели вы с ними заодно с погубителями моими?
– Бог не оставит вас, Андрей Порфирьевич, – солгал я. – Всё образуется, всё расследуется толком, и государь вас освободит! Я верю, что вашей вины ни в чём нет!
– Коршун ловит, коршун и съедает. Из мук наших вырастает наша вина, – ответствовал почти шёпотом господин Изотов и боком удалился в глубину камеры.
И закрались в душу подозрения: масоны разведали о моих связях с князем Матвеевым и теперь хотят, чтобы я сокрушил его известием о жалком и безысходном положении любимого племенника и единственного наследника. О том, чтобы спасти Изотова, нельзя было и помыслить, и горько сделалось, что человек бросает в беде человека, поддаваясь несправедливости, что витает над всеми.
– Помилуйте, господин Изотов, что вы сами считаете о заточении своём? – невольно вырвалось у меня.
Он долго не отвечал, и я стоял, оглушённый гробовой тишиною склепа, самой губительной тишиною, каковая бывает в свете.
– Скоро, наверное, я помру, – донёсся голос. – Но вы как люди, про то князю, дяде моему, не сказывайте… Я помру, но как люди подлинно ли останутся живы?..
Когда уже закрыли железную дверь на ключ и наложили засов, я спросил у караульного офицера:
– Ответьте, батюшка, пытают ли несчастного узника?
– Как не пытать, – ответил он, – на то и бывают узники.
Я вышел на свет и воздух за вороты крепости, бессильный позабыть страшное подземелье, сокрывшее великие несправедливости и несказанные муки.
На другой день будто случайно я заглянул в книжную лавку подьячего Осипова и купил там 5-копеечный портрет генерал-фельдмаршала графа Салтыкова. Рассчитываясь с хозяином, шепнул ему, что у меня превеликая нужда до князя Василья.
– И, батенька, – услыхал я тревожный ответ, – тут уже никак неможно увидеть его. День и ночь торчат дозорщики. Приходите лучше покупателем в дом госпожи капитанши Наумовой, что на Московской стороне близ прихода церкви Владимирские Богородицы возле Семёновских светлиц. Князь будет ожидать вас от четырёх до пяти пополудни. И ему есть к вам дело.
Довольно времени до встречи ещё оставалось. Я зашёл в трактир и, пристроясь в уголке так, чтобы хорошенько обзирать публику, велел подать мне обед. Не прошло и пяти минут, как неподалёку заняли место два господина. Оные возбудили моё подозрение именно тем, что сообщались между собою как равные, тогда как один был в мундире титулярного советника, другой – в партикулярном платье, подобный видом то ли лавочнику, то ли домоуправителю.
Вскоре я приметил, что они нет-нет да и взглядывали остро в мою сторону. Я нарочно откушивал не торопясь и заказывал всё новые блюда, так что соглядатаи явно нервозились. Дважды я вставал со своего места и навещал уборные, помещавшиеся во дворе, и оба раза один из моих попечителей непременно оказывался невдалеке от меня.
Покончив с обедом, я попросил ещё чаю с калачом и, рассчитавшись за всё, сделал вид, что намерен продлить чревоугодие. А вскоре вышел из залы, будто по нужде, сам же спрятался под лестницу. И едва господин в партикулярном платье прошмыгнул во двор, я вышел на улицу и тотчас затерялся среди экипажей и прохожих…
Было около пяти, когда меня провели к госпоже капитанше, крепкой ещё барыне с добрым взглядом больших карих глаз и приятным голосом. Я изъявил желание осмотреть дом и строения, говоря, что давно мечтаю осесть в Петербурге.
– Коли вам угодно, сударь, – ответила капитанша и повела меня к себе, – я покажу вначале план дома.
В гостиной сидел старый купец. Едва я вошёл, он стукнул своею клюкой об пол и промолвил:
– Сей покупатель точно меня интересует!
Каково же было мне узнать в купце князя Матвеева, столь искусно переоблачённого! Мы тотчас уединились. Князь выслушал меня не перебивая.
– Долго ли ещё протянет племянник мой?
– Увы, ваше сиятельство, совсем недолго. Злодеи почти что сломили его. Ино не взбодрим надеждою, наверняка погибнет.
– Надежды пока ни малейшей. – Князь утёр невольную слезу. – Вот что творят изверги, и не сыскать на них управы… Что ж, принесём на алтарь общей надежды и сию бесценную жертву…
С состраданием смотрел я на горюющего князя, а он, перекрестясь пред иконою Богоматери, сказал:
– Коли верить бездумно, то и слаб человек бывает пред вероломством ворога! Коли же вовсе не верить в святое и совершенное, паки сил не соберёшь для противления супостату!
– Победа наша от чего-то иного зависит, – сказал я. – Одной верою не всё превозможешь.
– Нету в русских людях единства, – покачал головою князь. – Разбегаются бесчисленными дорогами в степи, а не торят общую, како есть обыкновение в других народах. Сколь бездумно трепали мы общину, легко единившую против обидчиков! И что отныне мудрецы без способных претворять мудрость? А ведь мудрецы – последняя опора народов. Где истаивают мудрецы, там кончаются народы…
– Ваше сиятельство, – возразил я, – прежде чем сделаться мудрецами, нам бы мудрость уважать научиться. А то ведь именно мудрых и смелых немилосердно посекаем, нагоняя на прочих страху. Трусливого же к мудрецам уже не причислишь. И одни ли масоны тут виноваты? Не дурь ли наша? Не холопство ли духа? Не забвение ли лучших заветов старины?
– То-то, – раздумчиво сказал князь, – мужик закабалён судьбою, а мы духом, и сия кабала пуще цепей!!. Вот ведь и масонам оттого раздолье, что все пресмыкаются перед ними. И ненавидят, и пресмыкаются. У нас перед силою обыкли пресмыкаться – сильнейший согибал слабейшего в дугу исстари.
– Так, может, от бесправия бессилие наше? И страх? И страсть возвыситься любой ценою, ибо только возвышенному не указывают, сколь ничтожен он?.. Где бьют лбом пред одним образом, там других ликов не существует. За смутьяна полагают всякого, кто дерзнёт составить о вещах собственное мнение. Не бывать единству от запрета инакомыслия. Искать – вольно споря, чтобы действовать согласно!
Князь Матвеев хмыкнул.
– Инакомыслие инакомыслию рознь. Что разрушает алтарь и престол, то на руку масонам… И свободу нашу переймут, коли не спохватимся… А ты востёр, зело востёр! Однако ведь и прав: вся рознь меж нами проистекает от торжествующего окрест беззакония… Супостат же обеими руками вцепился в царя, внушая ему о пользе для престола и разрозненности, и тупого поклонения. И тем приятнее внушения, чем меньше крепости в правлении и ясности в державных замыслах… Голова пухнет, как всё перемешано да перекручено! Взять полицейский сыск – там сплошь иноземцы. А почему? Втемяшили царю, что русские – люди с двойным дном, неверные, лукавые, переметливые, тогда, мол, как иноземцам юлить незачем. А последствия? Повсюду ещё большее раболепие и страх. Почтенные мужи боятся уже своего приговора и в свой долг перед отечеством не верят – самодержец и оный с них снял. Может ли отвечать раб за деяния жестокого господина своего? И может ли сочувствовать ему?.. Ведь и мыслим мы не иначе, как из-под полы и токмо о дозволенном, – продолжал сердито старый князь. – А то цель ворогов наших – вовсе отвратить, отторгнуть от дум человека, воспрепятствовать ему заглянуть мыслию в бездну беды своей… Если и не погибла ещё Россия, то ведь потому только, что на подвижнике стоит и подвижником держится, на крови его, на страдании, на слезах безвестных. Где немец возьмёт усидчивостью и системой, где француз победит золотом и кучею приверженцев славы, там русский пересилит только бездонностью горя своего, слепящим и нескончаемым трудом, беспримерным терпением, гонимый и презираемый ближними, попираемый соплеменниками и лишённый всякой защиты пред тупостью и злобою их…
Слушая князя, понимал я, боль свою о племяннике заговаривает он сими метафизическими почти рассуждениями, ибо кто же, кроме нас двоих, мог разделить их?
– Думаешь, один Волков царю указы пишет? Он их, пожалуй, только переписывает, а сочиняет коварная турка!
– Истинно, – поддержал я. – От камергера уже не раз слышал: «Дураков, дураков побольше вокруг престола! Повсюду побольше дураков, низменных, криводушных, себешливых людишек! Бумагами изведём янычар! Канцелярием отшибём простор в мозгах их! И когда ни единый не возможет получить законного и положенного, все возалчут незаконного и неположенного, и через то сотворится хаос, коии погубит их вернее, нежели наши стрелы!»
– Дурак при попе – непроходимый, дурак при дворе – непоборимый, – кивнул князь. – И титулованных сколь? Принц Георг – записной олух, а как рассуждает? «Меня раздражают умствующие. Так бы и приказал „Вон, вон отсюда!“ Ты о канцелярии глаголишь, мол, канцелярией всякое вольномыслие пресечь или иссушить можно. Не токмо канцелярская волокита, мой друг, все проволочки и неустройки в днях жизни колеблют волю. Князья да дворяне то стреляются, то удавливаются в петле. Проиграл в карты свои деревни – прыгает в Неву, навесив камень на шею. Экая беспомощность, экая лень трудиться, экая жалкая приверженность модам извращённого света! Раб человек! Если бы пред Богом – пред людскими пороками! А ворогам только того и надо.
Князь обессиленно умолк, и тогда я поведал ему, что Орден замыслил уже и убиение государя и меня прочат в главные исполнители предприятия.
– О заговоре мне ведомо, – выслушав меня, сказал князь. – Скоро воспоследуют решительные действия. Пора и государю приметить, что вельможи чаще бывают на половине государыни и у иностранных министров, нежели в его кабинете.
Тут я узнал, что в Петербурге ведутся лихорадочные и обширные приуготовления к перевороту и обе партии – и та, которая жаждет Павла ради своего регентства, и та, которая уповает на Екатерину из-за растущей ненависти к правлению Петра Фёдоровича, – доселе грызутся между собою и не сторговались, но всё совершается в превеликой тайне, панически боятся произвольной перемены власти, понеже обозлённая гвардия готова сковырнуть не только нынешнего государя, но и весь царствующий дом и вельмож вокруг него.
– Вот отчего они торопятся Да и подлого народа боятся. Тамо и сямо пожаром занимается неповиновение, жгут и убывают помещика дерзкие холопы, учуявши слабость власти. Наконец, и духовенство не дремлет, ниже на колени его уже никак не поставить. И сколь бы ни подсылал Орден в курию сию своих шпионов, сколь бы ни сыскивал христопродавцев, армия пойдёт за священниками…
Картина беспрерывной брани между алчными сословиями предстала передо мною, нарисованная князем Матвеевым. Конечно, не сам по себе масонский орден был в этой брани главною силою, хотя и тщился взять захватом все ключи самодержавия, но те, на кого прилюдно опирался орден в России, – крупнейшие сановники, алчущие расширения своей власти и своего влияния.
– Ничего не ведая в точности о подлинных целях многоярусного Ордена, обыкновенные его члены служат самым коварным целям, совершенно не догадываясь, что они служат своим убийцам, – заключил князь Матвеев. – Быть может, друг мой, нам не суждено более свидеться: начинается отныне беспощадное ристание[99]99
Ристание – состязание.
[Закрыть] правды и лжи, любви и коварства, добра и злочиния. Памятуй же о беседах наших, и коли случится, что останешься один, продолжай дело с неистовством и верою, ибо никак нельзя жить на свете, зная, что надо всем Божеским миром простёрта не справедливая длань Господа, а грязные руки совратителей и нечестивцев. И горько, горько, что благоденствуют они за счёт вахлаков[100]100
Вахлак – нерасторопный, глуповатый человек.
[Закрыть] из нашего племени, так часто готовых разобрать и кровлю над головою, дабы только просушить лапти! Сказано: тайное приманивает, глупое возбуждает.
На том мы расстались, и беседа наша действительно оказалась последней…
В воскресенье июня девятого дня праздновалось заключение мира между Россией и Пруссией.
В сей день я был свободен от службы, но, влекомый любопытством, прибыл ко двору посозерцать парад войск, расквартированных в столице. Сам государь привёл от казарм преображенцев. И вот полки были выстроены при самой знатной церемонии: и Семёновский, и Измайловский, и Преображенский, и Кирасирский, и Голштинский баталион, и деташмент Шляхетного кадетского корпуса, для экипировки которого были изготовлены новые мундиры, портупеи с медными пряжками нового образцу, ремни к ружьям и даже замшевые штаны и перчатки.
Пока войска стояли на обширной дворцовой площади, в придворной церкви служилась Божественная литургия. От желающих послушать проповедь первосвященника Дмитрия Новогородского, незадолго перед тем обвинённого во многих грехах и крамолах, но с успехом доказавшего свою невиновность, неможно было протиснуться и близко к притвору, и то выглядело как бы вызовом государю, допустившему неоправданные нападки на русское духовенство.
После молебна от стоявших в параде полков была произведена троекратная беглым ружейным огнём пальба. Полки были разведены, и приглашённые на торжества вельможные гости прошествовали на обеденное кушанье. Стол был устроен в двух залах, в одной – государь с ближними людьми и иноземными министрами, в другой – гвардии штаб – и обер-офицеры, а также армейские штаб-офицеры. Был ещё третий стол – для свиты, адъютантов и ординарцев, так что всего пиршествовало за счёт казны не менее тысячи человек.
Мне удалось приятно отобедать среди знакомых офицеров охраны, наслаждаясь голосной и инструментной музыкой италианской странствующей капеллы, а также и российским хором певчих.
Придворный паж передавал к нам в залу о тостах, возглашаемых государем и вельможами, и все пили то здоровье императора России, то успехи прусского короля, то благоденствие и вечный мир между европейскими державами. С Невы беспрестанно гремели пушечные салюты, и я, изумляясь, спрашивал себя: если гвардейские офицеры, известные бражники, сделались безобразно пианы от беспрерывного хождения рюмок и бокалов, кто же оставался трезв среди высших чинов? Подлинно то была картина повального пианства, и её с омерзением созерцали, конечно, и бесчисленные слуги, носясь между гостями как угорелые. По окончании стола государь собственноручно произвёл награждения за верную службу, и первою из отмеченных высокой милостью была графиня Воронцова. На оную был наложен орден Святыя Анны. Таковой же орден получил и прохвост Гудович.
Были оглашены подписанные государем указы о пожаловании генерал-фельдмаршала графа Бутурлина в московские, а графа Миниха – в сибирские генерал-губернаторы, раздавались, как водится, и поместья. Генерал-фельдмаршал Шувалов получил в вечное и потомственное владение две тысячи душ крестьян из дворцовых в любом месте по собственному выбору. Генерал-поручик Мельгунов – тысячу душ крепостных в Ладожских рядках и в Порожской волости. Щедрой рукою сыпались пенсии – ни единый из приближённых не был обойдён каким-либо подарком. Дым в парадных залах стоял коромыслом – государь затеял, как обыкновенно, курение табака, а кто не курил, шатался праздно по комнатам, обнимаясь и целуясь с незнакомыми даже людьми.
Сих фокусов я лично уже не видел, понеже пораньше отправился домой, вознамерясь получше выспаться.
С утра я снова был во дворце, но течение жизни в нём обнаружилось едва после полудня, залы всё ещё наполняла сонная прислуга, неторопливо чистя оные и приготовляя к продолжению празднеств.
Стали съезжаться гости. Появился мрачный государь, почти каждому жалуясь на ужасную головную боль. Ему было вздумалось объявить о закрытии праздника и отмене объявленной накануне по всему городу иллюминации, но таковому побуждению тотчас воспротивились принц Георг, канцлер Воронцов и генерал-адъютант Гудович.
– Сие не каприз, господа, а невозможность! – по-немецки воскликнул государь со слезами на глазах. – Я буду лежать на смертном одре, а вы всё будете требовать, чтобы я играл роль императора!
– Непременно, ваше величество, – согнулся в поклоне Гудович – «Императоры – годы, а Российская империя – вечность!» Не ваши ли то собственные слова, изливающие округ свет свой? И кто мы такие, если не верные слуги славного государя и, стало быть, империи?..
Завершилось тем, что Пётр Фёдорович согласился поиграть в карты с гостями, и тотчас к нему протиснулись пруссаки и голштинцы, а вскоре подали англицкое пиво, рекомендуя его лучшим средством от головной боли, после чего весело задымили трубки.
Государь проиграл десять червонцев камергеру и бригадиру Дебрезону.
– Десять червонцев – не трон! – сказал государь, тасуя карты.
– Ваше величество, вы и проигрывая не проиграете потому, что гениальные помыслы ваши простираются далеко вперёд! – воскликнул Дебрезон. – Однако из капель слагается море, а из червонцев бюджет империи! Надобно дорожить и полушкой, чтобы получать миллионные прибыли и никогда не чувствовать себя стеснённым! На шпалерной фабрике, коей я имею честь начальствовать по вашей милости, ведётся счёт не токмо каждой копейке, но и каждой минуте времени. Я уставил правило, и все мастера, художники и работные люди трудятся, сообразуясь с ударами больших фабричных часов. Всякий перерыв – по часам, даже краски в чанах размешивать велю по времени.
– Господин Дебрезон – крупнейший экономист, – вмешался Гудович. – Вы, верно, припомните, ваше величество, каковой образцовый порядок был найден вами на шпалерной фабрике при высочайшем её посещении? То было в апреле, смею напомнить, вскоре по вскрытии Невы-реки. Вы ещё изволили отобрать для Зимнего дворца несколько узоров. Нас угощали тогда можжевеловой настойкой с вишнёвым сиропом.
– Сироп… помню, – нетвёрдо сказал государь.
– Господин Дебрезон, и сие ваша заслуга, пожалуй, лучший сейчас заводчик во всей империи! Он использует новейшие машины, выписывая их из Англии, Франции и Швеции! Рачительнейший хозяин! Нигде ни соринки, ни пылинки!
– Что правда, то правда, – подтвердил принц Георг. – Такового бы нам исполнительного стратега для Мануфактур-коллегий.
– Вот и велю назначить его… президентом коллегии! – сказал государь, морщась от головной боли. – А что?.. Коли выиграет ещё раз в карты, значит, так тому и быть. Препоручу ему в дирекцию все имеющие быть в России фабрики и мануфактуры… Только вчера мне кто-то сказывал, будто в России невозможно сыскать нового президента. Отчего же невозможно? Вот я его и нашёл!
– Приговор, достойный Юлия Цезаря! – вскричал Гудович. – Пришёл, увидел, победил! Господа, господа, вы все свидетели!
– Ради одних только сих знаменательных слов, – с глубоким поклоном сказал камергер Дебрезон, – Господь Бог не допустит, чтоб мне проиграть…
Разумеется, государь проиграл, и все стали шумно поздравлять его с новым президентом Мануфактур-коллегии, а Гудович немедля отправился продиктовать проект указа.
Как спроворили дельце! Я слыхал о сём Дебрезоне как о весьма тёмной личности. То ли италианец, то ли француз из Монако, он, говорят, был парикмахером у Петра Фёдоровича, когда тот хаживал ещё в великих князьях.
Настроение было сквернейшее. С каким наслаждением я бы разогнал дубиною стадо шулеров, обирающих несчастное моё Отечество!
Но главные душевные муки мне, однако, в тот день ещё предстояли.
Гости столь дружно налегали на угощения, когда началось вечернее кушанье, что слуги едва успевали переменять опорожнённые блюда. Рябчики сменились форелью, паюсные и мешковые икры – персидскими сушёными дынями, белые грибы – земляникою, оленьи котлеты – салатами из медвежьей печени.
Тосты вновь следовали один за другим. Играла музыка, и корабли на Неве салютовали каждому тосту – плыл над рекою сизыми клочьями пороховой дым, а вдали над Петропавловской крепостью кружили в небе перепуганные вороны.
Нужно было удерживать государя от винопития, он и без того был уже изрядно пиан и плохо владел собою, но императрица Екатерина Алексеевна, словно нарочно пропускала всё мимо глаз. Когда же государь говорил, взглядывала на него с такой насмешкою, что я недоумевал, отчего она, обыкновенно скрытная, не может сдержаться…
Государь хорошо примечал оскорбительные взгляды супруги, и сие всё более портило его настроение – он срывался на фальцет и упорствовал в глупых речах своих оттого лишь, что вполне сознавал их глупость. Вот-вот должен был последовать взрыв негодования, и я гадал, кого потопит буря правого, как обычно, или, наконец, подлинно виноватого.
Чем более хотел государь привлечь к себе внимание, обиженный пренебрежением Екатерины Алексеевны, чем более хлопали ему гости, лицемерно восхищаясь самыми пустячными замечаниями, тем круче росла в нём, убеждённом, что он достоин всеобщей любви и всеобщего почтения, обида.
Вышло так, что гофмаршал граф Сивере, упившись или скорее, притворясь, как всякий хитрец из вельмож, встал посреди пиршественной залы и, блистая орденами, объявил, что из всех государей света самый мудрый и прозорливый – император Российской империи и все в мире должны подражать его щедрости, терпимости к людским неодолимым порокам и заботливой любви к подданным. Слова были встречены возгласами одобрения. Даже императрица, всё так же иронично улыбаясь, промолвила по-немецки: «Браво, граф! Давно я не слыхала от вас столь искренних признаний!»
Реплика была расслышана многими, не выключая и государя, коему был понятен её сокровенный смысл.
Желая, видимо, ослабить воздействие угодническое и показать свою скромность и великодушие, государь не измыслил ничего лучшего, как выйти из-за стола, нетвёрдой походкой добрести до портрета прусского короля, висевшего в зале, стать перед ним на колени и воскликнуть:
– Если хотите знать, кто более всего достоин зваться великим, то вот он! И такового я бы желал иметь над собою!
Не успел государь подняться с колен, что, впрочем, было ему весьма затруднительно, так что я пособил, как уже вокруг стояли, улыбаясь и хлопая, раскрасневшиеся от обильного стола вельможи и иноземные министры.
Едва затихли хлопки, раздался голос лейб-гвардии Семёновского полку майора Нечаева. Сей благородный офицер, кавалер ордена Святого Александра Невского, полученного за доблесть на Кунерсдорфской баталии, вошёл в пиршественную залу, неся государю адрес от гвардейцев, подписанный подполковником Ватковским, и стал невольным свидетелем преудивительной сцены, вдвойне нестерпимой для подгулявшего воина.
– Ваше величество! – был голос. – Неможно стоять на коленах победителю пред облагодетельствованным побеждённым!
Неожиданные слова поразили всех – все замерли.
– Откуда невежда прибрёл в залу? – опомнясь, возопил генерал-прокурор Глебов, случившийся к тому же ближе всех к майору. – Он забылся, где находится! Вывесть вон смутьяна и взять под стражу до чрезвычайного разбирательства!
Бедный майор не вымолвил и слова, как был сбит с ног налетевшею стражей и волоком выброшен из залы. Двери её притворил с улыбкою, как бы завершая незначащий инцидент, генерал-адъютант Унгерн. Он успел отдать какое-то распоряжение офицерам охраны.
Капельмейстер взмахнул руками, и музыканты вновь заиграли свои мелодии. Вновь, как ни в чём не бывало, говорились тосты, но чутким, насторожённым слухом я улавливал шум и крики, доносившиеся из-за закрытой двери. Да и другие, не слишком упившиеся, вытягивали шеи и украдкой взглядывали в ту сторону.
Я жаждал узнать, что происходит, но ни на минуту не мог отлучиться от государя. Может, сие и сберегло меня, понеже приключившееся зверство, если бы я увидел его, несомненно, толкнуло бы меня на крайние действия.
Вечером, едва меня сменили, я узнал от очевидцев историю, о которой запрещено было на другой день даже и упоминать. Когда бедного майора Нечаева выволокли из залы, пианые офицеры, слышав брань и крики, отчего-то заключили о покушении на государя. И понеже оное, по их соображению, окончилось неудачно, каждый старался поскорее доказать свою любовь самодержцу.
Майор Нечаев, человек безупречной чести, не мог позволить столь унизительного с собою обхождения. Будучи вытащен охранниками в офицерскую залу, он попытался защититься от обидчиков. Тотчас завязалась преотвратительная драка, в которую вмешались лейб-гвардейцы, повскакивавшие из-за стола. Общей силой они повалили майора и били его ногами со свирепостию – в лицо, в грудь, в живот, так что когда наконец расступились, притомясь и убедившись, что жертва их более не сопротивляется, майор был уже мёртв. Он лежал в луже крови, и подле валялся адрес государю, в коем все гвардейские офицеры, не выключая и Нечаева, клялись храбро стоять за царя и отечество.
Кто-то поднял адрес, перепачканный нечаевской кровью, кто-то спросил:
– За что ж мы его, братцы, а? За каковую провинность?
И вопрос вовсе остался безответным…
Я словно предчувствовал преступление. После того как выволокли из залы майора Нечаева, я потерял интерес ко всему что творилось вокруг. Вместе с толпою вельмож механически последовал за государем на набережную реки Невы. Мне не хотелось смотреть иллюминацию, на которую были затрачены немыслимые суммы. Далеки и отвратительны были мне люди, окружавшие государя, и пуще всего сам государь. Я власно как вовсе не слыхал ни разговоров, ни восторгов, ни полевой музыки, игравшей в ожидании представления.
Несколько часов сряду горели фейерверки, являя то колёсы, то текущие реки, то взмывающие ввысь фонтаны, их зрелище было столь же грандиозным, сколь примитивным и бессмысленным. Фитильные щиты, расставленные по берегу Васильевского острова, вначале представили публике гербы Российской империи и прусского королевства, и надпись была по-латыни, что-то высокопарное о дружбе из Вергилия, чего не могли понять не токмо простые люди, запрудившие набережную, но и нарочитые мужи, кичившиеся просвещённостью. Даже государь спросил о точном переводе, заметив, что двадцать раз слышал его и двадцать раз позабывал.
Потом два колосса, представлявшие Россию и Пруссию, светясь разноцветными огнями, сошлись и взялись за руки, и тотчас выросло на сём месте великое пальмовое древо. Все восхищались небывало роскошным зрелищем, а как в продолжение оного подлому народу вблизи дворца подавали бесплатно водку и мясо и толпище было несметное, все вельможи наперебой сравнивали государя с римскими императорами.
Сменившись перед началом бала, я оставался ещё какое-то время во дворце. Повсюду из уст в уста передавалась история о Нечаеве, и бедный Нечаев уже был изображаем героем, посмевшим выговорить государю за унизительные поклоны перед пруссаками, самая смерть его окружалась завесою тайны, и сие меня более всего поражало. Не ведаю, просочилась ли к обывателям история о забитом насмерть лейб-гвардейце – в тот же вечер барон Корф повелел строго предупредить каждого, кто выходил из дворца, о непременном молчании в рассуждении о Нечаеве, – но история о пианом нашем государе, коленопреклонённо восклицавшем похвалы Фридриху, стала ходить по всем кабакам и харчевням.
Государь, пожалуй, долгое время вообще ничего не знал о нелюбезной молве, будто нарочно подогреваемой, особенно среди армейских чинов…
В один из дней, когда я, окончив дежурство, верхом возвращался из Ораниенбаума, мне повстречалась карета господина Хольберга. Он подал знак, и я последовал за каретой, свернувшей с главной дороги к роще среди зреющих хлебов.
Мы остановились в уединённом месте, миновав крепостного мужика, пробовавшего подкашивать траву по опушке, и господин Хольберг, указав мне сесть на землю, сказал:
– События близятся к решающей точке. Коли ты, Орион, исполнишь всё надлежаще, тебя ожидают степень мастера и новые просторы просвещения.
Тепло светило солнце, и, незримые, звенели над полями жаворонки, летали шмели и порхали бабочки, сотни разных жучков и козявок беспечно сновали в траве и на цветах, так что мне не хотелось и слышать о жизни другой, насторожённой и беспощадной, подпольной и зловещей, противной Богу и солнцу и подвластной только алчности и тщеславию немногих, вероятно, вождей Ордена. Сии наместники сатаны жили неведомо где и представляли неведомо кого, но, подобно злым паукам, протягивали от своих нор повсюду липкую паутину, в коей погибали доверчивые жертвы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































