Текст книги "Истоки Второй мировой войны"
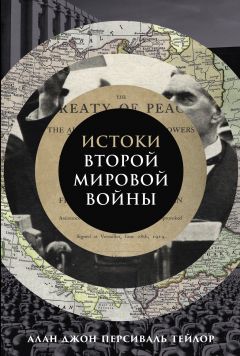
Автор книги: Алан Джон Персиваль Тейлор
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Существовали и другие, более циничные причины, по которым не предпринималось попыток снова вовлечь Россию в дела Европы. Поражение в войне разрушило ее репутацию великой державы; последующая революция, как тогда считалось – не сказать, чтобы абсолютно неверно, – ослабила ее на целое поколение. В конце концов, Германию подкосила политическая революция самого умеренного свойства; какими же проблемами должно было обернуться для России потрясение самих ее социальных основ! Кроме того, многие западные политики встретили исчезновение России с облегчением. Будучи полезным противовесом Германии, союзником она была трудным и требовательным. На протяжении всех 20 лет существования франко-русского союза французы сопротивлялись желанию России получить Константинополь. В 1915 г. они с большой неохотой уступили и теперь с радостью воспользовались возможностью отречься от обещаний военного времени. Британию Константинополь интересовал меньше, но на Ближнем и Среднем Востоке Россия прежде мешала и ей. Послевоенная коммунистическая пропаганда в Индии, например, казалась куда менее опасной, чем прежнее присутствие русских в Персии. Да и в целом, как сейчас скажет вам любой, без российского участия международные дела всегда идут легче. При всем том за изоляцией России в первую очередь стояла самая простая и практическая из причин – географическая. «Санитарный кордон» делал свое дело. Бальфур это предвидел – но, видимо, один только Бальфур. 21 марта 1917 г. он заявил британскому кабинету: «Создав абсолютно независимую Польшу… вы полностью отрежете Россию от Запада. Россия перестанет – или почти перестанет – быть фактором западной политики». Он оказался прав. Теперь Россия – даже захоти она того – не смогла бы вмешаться в европейские дела. Но зачем бы ей этого хотеть? В Европе это поняли не сразу, но «санитарный кордон» работал в обе стороны. Он блокировал не только Россию от Европы, но и Европу от России. Странным образом барьер, возведенный, чтобы защититься от России, защищал и ее саму.
Новые национальные государства, составившие «санитарный кордон», выполняли, по мнению французов, еще одну, причем более важную, функцию. Они были ниспосланы провидением в качестве замены исчезнувшей дружественной России: замены не такой сумасбродной и самостоятельной и к тому же более надежной и респектабельной. Клемансо говорил Совету четырех: «Наша самая надежная гарантия против германской агрессии заключается в том, что позади Германии, в прекрасной стратегической позиции, расположены Чехословакия и Польша». Если в это верил даже Клемансо, неудивительно, что другие французы ставили союз с новыми государствами во главу угла всей своей внешней политики. Мало кто из них осознавал парадоксальный характер этого решения. Новые государства были сателлитами и клиентами Франции: они были вдохновлены национальным порывом, но получили независимость вследствие победы союзников и с тех пор поддерживались французскими деньгами и французскими военными советниками. Французские союзные договоры с ними имели бы смысл как договоры о защите – подобно тем, которые Великобритания заключала с новыми государствами Ближнего Востока. Французы же воспринимали ситуацию противоположным образом. Они считали свои восточные союзы активами, а не пассивами и видели в них не обязательства, а гарантии защиты. Они понимали, что новые государства нуждаются во французских деньгах. Но ведь и Россия в них тоже нуждалась, причем в гораздо большем количестве. Эта потребность со временем исчезнет. Во всех остальных отношениях новые государства были гораздо лучшими союзниками. В отличие от России, они не отвлекались на неуместные амбиции в Персии или на Дальнем Востоке. В отличие от России, они никогда не могли сблизиться с Германией. Демократические и национальные по французскому образцу, в мирное время они были бы стабильнее, а в военное – надежнее. Они никогда не усомнились бы в своей исторической роли: отвлекать на себя часть немецких сил в интересах Франции.
Французы необоснованно преувеличивали чешскую и польскую мощь. Их путал опыт недавней войны. Применив, пусть и с запозданием, танки, Франция все еще считала пехоту, по выражению Петена, «королевой полей сражений», а количество штыков – решающим фактором победы. Франция с ее 40 млн населения явно уступала Германии с ее 65 млн. Но добавьте к ним 30 млн поляков, и Франция встанет вровень в Германией, а с 12 млн чехов и словаков – и превзойдет ее. Кроме того, заглядывая в будущее, люди обычно видят прошлое, и французы не могли себе представить будущую войну, которая начнется не с того, что Германия на них нападет. Поэтому они всегда спрашивали, как восточные союзники могут помочь им, и никогда – как они могут помочь союзникам. После 1919 г. французские военные приготовления носили все более оборонительный характер. Армию готовили к окопной войне, вдоль границ возводили фортификационные сооружения. Французская дипломатия и французская стратегия откровенно противоречили друг другу. Более того, сама дипломатическая система Франции была внутренне противоречива. Англо-французский союз и союзы со странами Восточной Европы не дополняли, а отменяли друг друга. Вести наступательные действия – помогая Польше или Чехословакии – Франция могла лишь при поддержке Великобритании, но британцы пришли бы ей на выручку, только если бы Франция оборонялась, защищая себя, а не далекие восточноевропейские страны. Этот тупик породила вовсе не изменившаяся в 1930-х гг. международная обстановка. В неявном виде он существовал с самого начала, и никто – ни британцы, ни французы – так и не нашел из него выхода.
Все эти трудности ясны нам. Но людям того времени они были вовсе не очевидны. Несмотря на исчезновение России и самоустранение США, Великобритания и Франция все еще составляли ареопаг, диктовавший условия всей Европе. К тому же и военные союзы, и будущие войны казались явлениями незначительными на фоне нового института, учрежденного на Парижской конференции, – Лиги Наций. Да, между Англией и Францией существовали глубокие подспудные расхождения по поводу характера Лиги. Французы хотели превратить ее в систему безопасности, направленную против Германии; англичане же видели в ней систему примирения, частью которой должна была стать и Германия. Французы считали, что последняя война явилась следствием немецкой агрессивности, англичане все больше склонялись к мнению, что война началась по ошибке. Утрясти свои разногласия союзники так и не сумели. Вместо этого каждая из сторон делала вид, что идет на компромисс с другой, негласно подразумевая, что в ее правоте она вовсе не убеждена. Каждая рассчитывала, что ход событий докажет неправоту другой, и каждая со временем дождалась своего – правда, без всякой для себя пользы. На практике британская интерпретация в конечном счете взяла верх. Для начала, устав Лиги Наций был сформулирован в самом общем виде. Он был направлен против агрессии, а не против Германии; и действительно, трудно было бы использовать Лигу для давления на Германию, если бы эта страна уже не была ее равноправным членом. И вообще, негативные меры всегда сильнее позитивных – недеяние проще деяния. Самое главное, британское видение с неизбежностью вытекало из решения, принятого в ноябре 1918 г., – решения заключить перемирие, а затем и мир с германским правительством. Если уж Германию было решено не уничтожать, рано или поздно она должна была вернуться в сообщество наций. И британское, и французское правительства были слишком заняты внешними и внутренними проблемами, чтобы выработать четкую и последовательную политику. Но если какой-то связный сюжет и охватывает всю послевоенную эпоху, то это история попыток примирения с Германией и их провала.
Глава 3
Послевоенное десятилетие
История Европы в межвоенный период вращалась вокруг «германского вопроса». Если бы его удалось решить, разрешилось бы и все остальное; в противном случае на мир в Европе можно было не рассчитывать. Все прочие проблемы потеряли остроту или казались в сравнении с ним пустяковыми. Большевистская угроза, например, – и так-то, вопреки распространенному мнению, не особенно животрепещущая – мгновенно развеялась, когда в августе 1920 г. Красная армия была отброшена от Варшавы; в следующие 20 лет у коммунизма не было ни малейшего шанса восторжествовать где-нибудь в Европе вне рубежей России. Безусловно, в 1920-х гг. венгерский «ревизионизм» производил много шума, в смысле территориальных претензий превосходя даже ревизионизм немецкий. И все-таки он создавал лишь тень угрозы даже локальной войны, а никакими глобальными потрясениями чреват вообще не был. Италия конфликтовала с Югославией из-за территорий на севере Адриатики, а позже объявила себя неудовлетворенной, «неимущей» нацией. Однако всерьез ей никого обеспокоить не удалось – разве что привлечь внимание прессы. «Германский вопрос» стоял в гордом одиночестве. Это было новой ситуацией. Проблема сильной Германии, пусть и осознаваемая не в полной мере, существовала и до 1914 г., но дело в том, что и других проблем в те времена хватало: претензии России на Константинополь, претензии Франции на Эльзас и Лотарингию, итальянский ирредентизм, вопрос статуса южных славян в Австро-Венгрии, бесконечные конфликты на Балканах. Теперь же на повестке не было ничего важного, кроме положения Германии.
Существовало и другое важное различие. До 1914 г. отношения великих европейских держав зачастую определялись столкновением их интересов за пределами Европы: в Персии, Египте, Марокко и тропической Африке, в Турции и на Дальнем Востоке. Некоторые выдающиеся специалисты считали, пусть и ошибочно, что европейские проблемы исчерпали себя. Генри Брейлсфорд, здравомыслящий и сведущий наблюдатель, в начале 1914 г. писал: «Угрозы, которые заставляли наших предков вступать в европейские коалиции и континентальные войны, исчезли безвозвратно… С максимально возможной в политике уверенностью я берусь утверждать, что границы наших современных национальных государств прочерчены окончательно»{1}1
H. N. Brailsford, The War of Steel and Gold (1914), p. 35.
[Закрыть]. В реальности верным оказалось прямо противоположное. Европа была перевернута с ног на голову и после этого не перестала изводить государственных деятелей. Напротив, ни одна из проблем за ее пределами – из тех, что вызывали беспокойство до 1914 г., – в период между двумя войнами не спровоцировала серьезного кризиса в отношениях европейских держав. Никому и в голову не могло прийти, например, что Великобритания и Франция вступят в войну за Сирию, как когда-то за Египет. Единственным исключением стал Абиссинский кризис 1935 г., но там все было завязано на европейской политике в формате Лиги Наций; он не был борьбой за Африку. Еще одно кажущееся исключение – Дальний Восток. Положение в этом регионе серьезно осложняло международную ситуацию, но в практическом отношении не затрагивало ни одну из европейских держав, за исключением Великобритании.
Вот что еще было в новинку. Кроме Великобритании, других мировых держав в Европе не осталось. В круг ведущих мировых держав Великобритания входила и до 1914 г., но в «империалистическую эпоху» в одном ряду с ней стояли Россия, Германия и Франция. Теперь же Россия выпала из Европы и противопоставила себя ей, поддержав борьбу колонизированных народов. Германия лишилась своих колоний и отказалась от имперских амбиций – по крайней мере, на время. Франция, все еще колониальная держава, сосредоточилась на европейских проблемах и в спорах с другими странами, в том числе с Великобританией, интересы своей империи относила на второй план. Дальний Восток – хороший пример того, насколько изменилась ситуация. До 1914 г. там имелся баланс сил, не уступавший по сложности европейскому. Японии приходилось считаться не только с Великобританией, но и с Россией, Германией и Францией; англичане спокойно могли то вставать на сторону Японии, то идти против нее. В первые послевоенные годы на Дальнем Востоке активно проводили свою политику США, но надолго они там не задержались. К началу Маньчжурского кризиса 1931 г. Великобритания противостояла Японии практически в одиночку. Нетрудно понять, почему англичане считали, что отличаются от других держав Европы, и почему они часто стремились дистанцироваться от европейской политики.
Нетрудно также понять, почему германский вопрос выглядел исключительно европейским делом. Ни США, ни Япония не ощущали угрозы со стороны державы, у которой не было ни флота, ни, как казалось, колониальных амбиций. Великобритания и Франция остро осознавали, что решать германский вопрос им придется без посторонней помощи. Сразу после 1919 г. они надеялись на достаточно быстрое его разрешение – во всяком случае, в той мере, что мирный договор будет исполнен в полном объеме. Нельзя сказать, что они совершенно просчитались. Границы Германии были полностью определены к 1921 г., когда после плебисцита, результаты которого были интерпретированы скорее искусственным образом, Верхнюю Силезию разделили между Германией и Польшей. Разоружение Германии шло медленнее, чем предусматривал договор, и не без немецких попыток увернуться от него, но оно шло. Немецкой армии как заметной боевой силы больше не существовало, и реальной войны с Германией можно было не опасаться еще в течение многих лет. По прошествии времени на эпизодические попытки немцев увильнуть от демилитаризации начали особенно напирать: стало принято считать, что статьи Версальского договора о разоружении либо вообще не соблюдались, либо были бессмысленными. В реальности же, пока соответствующие положения оставались в силе, они выполняли свою задачу. Еще в 1934 г. Германия не могла и помыслить о войне с Польшей, не говоря уже о войне с Францией. Что касалось остальных условий договора, от судов над военными преступниками после нескольких неудовлетворительных попыток решено было отказаться: отчасти это была капитуляция перед лицом протестов и противодействия со стороны Германии, но куда важнее было то, что преследовать деятелей второго плана казалось довольно нелепо, пока главный виновник, Вильгельм II, отсиживался в Голландии.
К 1921 г. почти все условия мирного договора были выполнены. Можно было предположить, что со временем страсти вокруг него улягутся. Не могут же люди год за годом препираться по уже решенному вопросу, какая бы горечь и обида ни одолевала их вначале. Французы же забыли про Ватерлоо и уже готовы были забыть даже про Эльзас и Лотарингию, хоть и клялись этого не допустить. Ожидалось, что и немцы спустя какое-то время все забудут или, во всяком случае, смирятся. Проблема сильной Германии никуда не денется, но твердая решимость немцев при первой же возможности покончить с созданной в 1919 г. системой больше не будет ее усугублять. Однако случилось обратное: обида и негодование немцев с каждым годом только усиливались. Дело в том, что одно из положений Версальского договора никак не поддавалось урегулированию и неутихающая полемика вокруг него ставила под сомнение все остальные его пункты. Нерешенным оставался вопрос о выплате репараций – яркий пример того, как благие намерения, или, вернее, благие ухищрения, обернулись злом. В 1919 г. французы желали безоговорочно закрепить в договоре принцип, согласно которому Германия обязана полностью возместить причиненный войной ущерб – вследствие чего размер этого не выраженного конкретной цифрой долга должен был постоянно расти по мере восстановления немецкой экономики. Американцы более здраво предлагали определить фиксированную сумму репараций. Ллойд Джордж понимал, что в накаленной атмосфере 1919 г. эта сумма тоже окажется совершенно неподъемной для Германии. Он надеялся, что со временем люди (в том числе и он сам) одумаются: союзники выдвинут разумные требования, немцы сделают разумное контрпредложение, и эти две цифры более или менее совпадут. Поэтому он принял сторону французов, хоть и руководствовался прямо противоположными намерениями: они хотели раздуть счет до фантасмагорических масштабов, а Ллойд Джордж – сократить его. Американцы уступили. В мирном договоре зафиксировали только принципиальное требование выплаты репараций; размер их предстояло определить в будущем.
Ллойд Джордж планировал облегчить примирение с Германией, но сделал его практически невозможным. Дело в том, что расхождения во взглядах британцев и французов, скрытые в 1919 г., вышли на поверхность, как только они попытались определиться с конкретной суммой: французы задирали ее вверх, британцы с раздражением снижали. Немцы тоже не проявляли никакого желания сотрудничать. Вместо того чтобы попытаться оценить свою платежеспособность, они намеренно держали экономику в состоянии хаоса, прекрасно понимая, что, как только они прояснят ситуацию, им немедленно выставят счет. В 1920 г. союзники бурно совещались между собой, а затем устраивали конференции с участием немцев; в 1921-м последовали новые конференции; и в 1922-м – тоже. В 1923 г. французы попытались вынудить немцев платить, оккупировав Рур. Немцы сначала ответили пассивным сопротивлением, но затем под лавиной инфляции сдались на милость победителя. Французы, измученные почти не меньше немцев, согласились на компромисс – план Дауэса, разработанный (в основном по настоянию Великобритании) под руководством американца. Хотя это временное урегулирование не нравилось ни немцам, ни французам, в течение следующих пяти лет репарации и в самом деле выплачивались. Затем состоялась еще одна конференция – новые препирательства, новые обвинения, новые требования, новые попытки от них уклониться. В этот раз, снова под американским председательством, стороны выработали план Юнга. Он едва успел вступить в действие, как на Европу обрушилась Великая депрессия. Немцы заявили, что не могут больше платить. В 1931 г. Гувер наложил двенадцатимесячный мораторий на выплату репараций. В 1932-м на последней конференции в Лозанне все обязательства были обнулены. Стороны наконец пришли к согласию, но на это потребовалось тринадцать лет, и на протяжении этих тринадцати лет подозрения и обиды всех участников только нарастали. В итоге французы чувствовали себя обманутыми, а немцы – ограбленными. Репарации не дали угаснуть страстям военной поры.
Безусловно, репарации в любом случае вызвали бы недовольство. Но неопределенность требований и распри вокруг них сделали это недовольство хроническим. В 1919 г. многие полагали, что выплата репараций погрузит Германию в состояние азиатской нищеты. Этого мнения придерживались и Джон Мейнард Кейнс, и все немцы, и, вероятно, многие французы, хотя последние об этом не сожалели. В годы Второй мировой войны изобретательный молодой француз Этьен Манту показал, что немцы, захоти они того, вполне могли бы выплатить репарации, не разорившись; Гитлер подтвердил его тезис на практике, изъяв огромные суммы у вишистского правительства Франции. На самом деле этот вопрос представляет исключительно академический интерес. Несомненно, опасения Кейнса и немцев были чрезвычайно преувеличенными. Несомненно, обнищание Германии было вызвано войной, а не репарациями. Несомненно, немцы могли бы выплатить репарации, если бы считали их справедливыми, а их выплату – делом чести. Фактически, как всем теперь известно, по итогам финансовых транзакций 1920-х гг. Германия оказалась в плюсе: она заняла у частных американских инвесторов (и не вернула) гораздо больше, чем выплатила в виде репараций. Это, конечно, не особенно утешало немецкого налогоплательщика, который был отнюдь не тем же самым лицом, что и немецкий заемщик. Если уж на то пошло, репарации слабо утешали и налогоплательщиков стран-победительниц, на глазах у которых полученные средства утекали в США в счет погашения военных кредитов. С учетом всего вышесказанного единственным экономическим последствием репараций было то, что они обеспечивали работой бесчисленных бухгалтеров. Но экономические характеристики самих репараций не имели большого значения. Репарации были важны как символ. Они порождали недовольство, подозрительность и враждебность на международной арене. Именно они в первую очередь проложили дорогу ко Второй мировой войне.
Репарации обрекли французов на позу мрачного, но довольно безнадежного сопротивления. В конце концов, французские претензии нельзя было назвать необоснованными. Война опустошила северо-восточные районы Франции, и безотносительно достоинств и недостатков концепции ответственности за развязывание войны желание, чтобы немцы возместили нанесенный ущерб, было вполне резонным. Но вскоре французы, как и все остальные, начали жульничать с репарациями. Некоторые из них жаждали разорить Германию навеки; другие надеялись, что она не выплатит требуемых сумм и тогда можно будет не выводить оккупационные силы из Рейнской области. Французским налогоплательщикам обещали, что за войну заплатит Германия, и, когда их собственные налоги поползли вверх, они во всем винили немцев. В конце концов французов тоже обжулили: они не получили практически ничего, кроме обвинений в том, что вообще потребовали репараций. С точки зрения французов, они раз за разом шли на уступки, дабы угодить немцам. Наконец они полностью отказались от своих требований – а недовольство немцев в этот момент достигло пика. На основании этого французы пришли к выводу, что уступки в других вопросах – будь то разоружение или границы – будут столь же бесполезными. Одновременно они где-то на подсознательном уровне усвоили, что их страна обязательно снова пойдет на уступки. В годы перед Второй мировой войной французов отличало неверие в себя и в своих лидеров. Истоки этого горького цинизма глубоки и сложны, и историки уже не раз брались их анализировать. Но непосредственной, практической причиной его стал вопрос репараций. Здесь французы, безусловно, проиграли, а их лидеры столь же безусловно продемонстрировали исключительную неспособность выполнять свои обещания – или, по крайней мере, исключительную неудачливость. Французской демократии репарации нанесли ущерб почти такой же, как демократии в самой Германии.
Репарации также серьезно повлияли и на отношения Франции с Великобританией. Ближе к концу войны британцы – как политики, так и общественность – разделяли энтузиазм французов по поводу репараций. Не француз, а опытный британский государственный деятель предложил выжать из немецкого апельсина все до сухих косточек; и даже Ллойд Джордж высказывался в пользу репараций громче, чем предпочитал вспоминать впоследствии. Как бы там ни было, британцы довольно скоро сменили свое отношение. Едва прибрав к рукам немецкий торговый флот, они тут же пустились в рассуждения о неразумности репараций. Возможно, на них повлияли труды Кейнса – или же практическое соображение о необходимости восстановления европейской экономики для оживления британского экспорта. Они охотно выслушивали сетования немцев на бесконечные напасти, которыми обернется для них выплата репараций, а осудив репарации, вскоре осудили и другие положения мирного договора. Репарации – ужасная идея, а значит, разоружение Германии тоже ужасная идея, как и новая граница с Польшей, и новые национальные государства. Все это не просто ужасные идеи, а веские причины для немецкого возмущения, и пока их не устранят, покоя и процветания немцам не видать. Британцев все больше возмущала аргументация французов, их нервная реакция на возрождение Германии и особенно их настойчивые требования исполнять договоры, раз уж они подписаны. Требование выплаты репараций было с стороны французов вредным и опасным вздором, а значит, вредным и опасным вздором были и их требования гарантий безопасности. У британцев имелись кое-какие разумные основания для такой реакции. В 1931 г. им пришлось отказаться от золотого стандарта. Французы же, утверждавшие, будто война пустила их по миру, располагали стабильной валютой и крупнейшим в Европе золотым запасом. Европа входила в опасный период, и ничего хорошего такое начало не сулило. Расхождения во взглядах на репарации после Первой мировой войны не позволили англичанам и французам договориться о мерах безопасности перед Второй.
Но наиболее катастрофическим образом репарации повлияли на самих немцев. Конечно, они в любом случае чувствовали бы себя ущемленными. Они не просто проиграли войну. Они лишились территорий, их заставили разоружиться, на них возложили вину за развязывание войны, которой они за собой не чувствовали. Но все эти обиды были умозрительными и являли собой повод для вечернего брюзжания, а не причину страданий в повседневной жизни. Однако репарации били по каждому немцу в каждый момент его существования – или, во всяком случае, так казалось. Сейчас было бы бессмысленно обсуждать, действительно ли репарации довели Германию до нищеты, но и в 1919 г. от таких обсуждений не было толку. Никакой немец не согласился бы с Норманом Эйнджеллом, который в книге The Great Illusion («Великая иллюзия») доказывал, что выплата французами репараций в 1871 г. пошла на пользу Франции и повредила Германии. Житейский здравый смысл подсказывает, что, расставаясь с деньгами, человек беднеет; а то, что верно для отдельного человека, вероятно, верно и для страны. Германия выплачивала репарации и, следовательно, беднела из-за них. Напрашивающийся следующий шаг приводил немцев к выводу, что единственная причина бедности Германии – репарации. Столкнувшийся с трудностями предприниматель, школьный учитель на нищенской зарплате, попавший под увольнение рабочий – все они винили в своих бедах репарации. Плачущий от голода младенец подавал голос против репараций. Из-за репараций старики сходили в могилу. Гиперинфляция 1923 г. случилась из-за репараций, и Великая депрессия 1929 г. тоже. Так думали не одни только немецкие обыватели. Так считали и самые авторитетные финансовые и политические эксперты. Кампания против «кабального мира» вряд ли нуждалась в разжигании со стороны агитаторов-экстремистов. Каждая малая толика экономических трудностей подталкивала немцев к идее сбросить «версальские кандалы».
Наивно было бы полагать, что, отвергнув договор, кто-то будет помнить, какой именно из его пунктов он отверг. Немцы начали с более или менее рационального убеждения, что их разоряют репарации. Вскоре они перешли к менее рациональному убеждению, что их разоряет мирный договор как таковой. Наконец, сделав мысленно шаг назад, они заключили, что их разоряют положения, ничего общего с репарациями не имеющие. Например, разоружение Германии можно было считать унизительным; оно могло оставлять Германию беззащитной перед угрозой польского или французского вторжения. Но с экономической точки зрения разоружение если и имело какой-то эффект, то скорее положительный{2}2
С удивительной, хотя и не уникальной изобретательностью немецким генералам удалось сделать разоружение более дорогостоящим, чем вооружение. Содержание огромных армии и флота в 1914 г. обходилось немецким налогоплательщикам дешевле, чем содержание небольшой армии в отсутствие флота после 1919 г.
[Закрыть]. Однако немецкий обыватель так не думал. Он полагал, что раз он нищает из-за репараций, то и из-за разоружения он тоже нищает. С территориальными положениями договора произошло то же самое. Конечно, у территориального урегулирования Версаля имелись свои недостатки. Новая восточная граница оставила слишком много немцев в Польше, как, впрочем, и слишком много поляков в Германии. Улучшить ситуацию можно было, перекроив кое-где границу и обменявшись населением – хотя в те цивилизованные времена последняя мера даже не приходила никому в голову. Однако беспристрастный судья – если бы такой существовал – не предъявил бы особенных претензий к тому, как был решен территориальный вопрос, раз уж все согласились, что в основе решения должен лежать принцип национального государства. Так называемый Польский коридор населяли преимущественно поляки, а условия о свободном железнодорожном сообщении с Восточной Пруссией были вполне удовлетворительными. С экономической точки зрения Данцигу на самом деле выгоднее было войти в состав Польши. Что же касается бывших германских колоний – еще одного вечного повода для недовольства, – то они всегда были затратной статьей бюджета, а не источником доходов.
Все это было позабыто из-за связи репараций с остальными положениями договора. Немец считал, что он плохо одет, голоден или лишился работы, потому что Данциг стал вольным городом, потому что Польский коридор отрезал Восточную Пруссию от рейха или потому что у Германии отобрали колонии. Даже умнейший банкир Шахт увязывал экономические трудности Германии с потерей колоний – и искренне придерживался этого мнения даже после окончания Второй мировой войны. Немцы думали так не потому, что были глупы или зациклены на себе. Того же мнения придерживались и просвещенные английские либералы, такие как Кейнс, и почти все лидеры британской Лейбористской партии, и все американцы, задумывавшиеся о европейских делах. Однако сейчас сложно понять, почему потеря колоний и европейских территорий должна была привести к экономическому краху Германии. После Второй мировой войны Германия понесла гораздо бóльшие территориальные потери, но при этом достигла высочайшего в своей истории уровня процветания. Более наглядной демонстрации того, что экономические трудности Германии в межвоенный период были обусловлены не несправедливостью новых границ, а ошибками внутренней политики, и придумать нельзя. Увы, все впустую: во всех учебниках тяготы Германии по-прежнему объясняются Версальским договором. Этот миф получил – и продолжает получать – дальнейшее развитие. Сначала экономические трудности Германии свалили на договор. Потом все заметили, что эти трудности не были преодолены, откуда якобы следовало, что для примирения с Германией или перестройки созданной в 1919 г. системы не было сделано ровным счетом ничего. Попытку «умиротворения» предположительно предприняли лишь в 1938 г., когда время было уже упущено.
Однако это далеко не так. Даже репарации постоянно пересматривались, и всегда в сторону уменьшения, хотя несомненно, что этот процесс был крайне затянут. В других отношениях попытки умиротворить Германию предпринимались и раньше, причем с большим успехом. Первые шаги в этом направлении сделал Ллойд Джордж. С трудом разделавшись с вопросом о репарациях, он решил созвать новую, подлинно мирную конференцию, в которой должны были принять участие все – и США, и Германия, и Советская Россия, и европейские союзники. Чтобы построить лучший мир, нужно было начать с чистого листа. Инициативу Ллойд Джорджа поддержал тогдашний премьер-министр Франции Бриан – еще один волшебник от государственных дел, умевший заставлять проблемы исчезать по мановению руки. Их сотрудничество оборвалось внезапно. В январе 1922 г. Бриан получил вотум недоверия в палате депутатов – якобы из-за того, что взял у Ллойд Джорджа урок игры в гольф, а на самом деле потому, что «ослабел» в отношении мирного договора. Пуанкаре, его преемник, не вдохновился британским предложением гарантировать восточную границу Франции; французский представитель явился на конференцию, которая была созвана в Генуе в апреле 1922 г., лишь для того, чтобы в очередной раз потребовать полной выплаты репараций. Американцы от участия отказались.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































