Текст книги "Истоки Второй мировой войны"
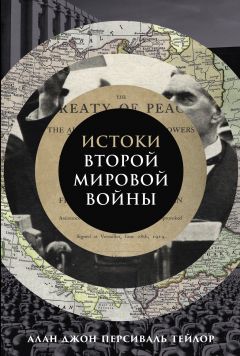
Автор книги: Алан Джон Персиваль Тейлор
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Русские и немцы на конференцию приехали, однако и те и другие питали небезосновательные подозрения, что их собираются столкнуть лбами. Немцам планировалось предложить присоединиться к эксплуатации России, а русских уговаривали выставить счет Германии. Вместо этого представители двух стран тайно встретились в Рапалло и договорились не противодействовать друг другу. Рапалльский договор спутал планы организаторов Генуэзской конференции и получил скандальную известность. В то время большевики считались изгоями, а потому заключение договора с ними было воспринято как вероломство со стороны немцев. Позже, когда роль мирового злодея перешла к Германии, непорядочность Рапалльского договора ставилась на вид уже русским.
На самом деле Рапалльский договор был скромным соглашением в основном негативного характера. Да, он действительно мешал созданию европейской коалиции для новой военной интервенции в Россию и действительно не давал возродить Антанту в прежнем составе. Но ни то ни другое в любом случае не было реалистичным планом, так что договор не более чем зафиксировал реальное положение вещей. Но и шансы на активное взаимодействие двух подписавших его сторон были столь же призрачными. Обе они были не в силах оспорить условия послевоенного урегулирования, обе желали лишь одного: чтобы их оставили в покое. Немцы с этого момента оказывали Советской России некоторую экономическую помощь, хотя, как это ни абсурдно, американцы, которые в принципе не признавали власть большевиков, оказывали ее в большем объеме. Русские же помогали немцам обходить ограничения Версальского договора (стороной которого Россия не являлась), разместив на своей территории немецкие химические полигоны и летные школы. Все это было мелочами. Искренней советско-германская дружба не была, и обе стороны это понимали. Немецкие генералы и консерваторы, лоббировавшие эту дружбу, презирали большевиков, а те, в свою очередь, в отношениях с Германией руководствовались ленинским подходом брать человека за руку, чтобы потом проще было схватить его за горло[24]24
Эта фраза восходит к вольному пересказу одним из британских авторов конца 1940-х гг. замечания Ленина из работы «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920): лейбористов следует поддерживать так же, «как веревка поддерживает повешенного». – Прим. науч. ред.
[Закрыть]. Рапалльский договор был предупреждением, что Россия и Германия легко могут прийти к соглашению, пообещав не вредить друг другу, а вот союзникам придется заплатить за дружбу с любой из них высокую цену. Но это предупреждение относилось к сравнительно далекому будущему.
Генуэзская конференция стала последним примером дипломатической изощренности Ллойд Джорджа. Его положение местами просвещенного лидера мракобесной коалиции не позволило ему добиться сколько-нибудь впечатляющих результатов. Осенью 1922 г. он лишился власти. Сменившее его правительство консерваторов во главе с Эндрю Бонаром Лоу относилось к европейским делам со скепсисом и раздражением. Сложившаяся ситуация позволила тогдашнему премьер-министру Франции Раймону Пуанкаре попытаться заставить Германию выплачивать репарации, оккупировав Рур. Это стало единственным отступлением от последовательной политики умиротворения, причем отступлением ограниченного масштаба. Какие бы тайные надежды ни питали некоторые французы на распад Германии, оккупацию начали с единственной целью – заставить немцев сделать предложение о выплате репараций, и как только такое предложение прозвучало, французы вынуждены были оставить Рур. Оккупация обернулась ужасными последствиями для французского франка. Поначалу Пуанкаре, вероятно, считал, что Франция может действовать самостоятельно. К концу 1923 г. он уже не меньше Клемансо уверовал в то, что первейшей необходимостью для Франции является сохранение тесных отношений с Англией и Америкой. В 1924 г. свой вердикт вынес французский избиратель, проголосовав за оппозиционную Пуанкаре левую коалицию. В далекой перспективе оккупация Рура стала самым веским аргументом в пользу умиротворения. Ведь чем она закончилась? Новыми переговорами с Германией. Она заново и с большей убедительностью продемонстрировала, что Версальский договор может быть исполнен только в сотрудничестве с германским правительством, а в таком случае компромиссами можно было добиться большего, чем угрозами. Этот довод не потерял своей актуальности и в дальнейшем. Когда Германия принялась нарушать все новые условия договора, люди – в первую очередь французы – оглядывались на оккупацию Рура и задавали себе вопрос: чего мы добьемся применением силы? Только новых обещаний Германии выполнить те обещания, которые она сейчас нарушает. Цена будет разорительной, а результат ничтожным. Вновь гарантировать себе безопасность можно было, лишь завоевав расположение немцев, а не угрожая им.
Было бы неверно полагать, что оккупация Рура никак не подействовала на Германию. Хотя она и показала французам безрассудство принуждения, немцы осознали после нее безрассудство сопротивления. Оккупация закончилась капитуляцией Германии, а не Франции. Густав Штреземан пришел к власти и провозгласил курс на исполнение условий договора. Это, конечно, не означало, что он соглашается с французской его интерпретацией или пойдет на поводу у требований Франции. Это означало лишь, что он будет защищать интересы Германии путем переговоров, а не сопротивления. Штреземан был не меньше самых крайних националистов полон решимости избавиться от всех ограничений договора – репараций, демилитаризации Германии, оккупации Рейнской области и новой границы с Польшей. Однако добиваться своих целей он намеревался не угрозами и уж тем более не войной, а терпеливым управлением ходом событий. Если другие немцы утверждали, что пересмотр договора – необходимое условие возрождения немецкого могущества, Штреземан, напротив, считал, что пересмотр договора станет неизбежным следствием возрождения могущества Германии. Когда после смерти Штреземана были опубликованы документы, обнажившие его намерения ликвидировать версальскую систему, в союзных странах против него поднялась волна негодования. Негодование это было крайне несправедливым. Если Германия – великая держава (а своими действиями в конце войны союзные страны, по существу, признали этот факт), то нелепо было мечтать, что немцы примут условия Версальского договора в качестве окончательных. Вопрос заключался лишь в том, каким способом будет пересмотрено это соглашение, а Германия вновь возвысится до статуса величайшей державы Европы – мирным или военным. Штреземан хотел добиться этого миром. Он считал, что это наиболее безопасный, надежный и устойчивый путь к доминированию Германии. В годы войны Штреземан был воинствующим националистом; даже после нее он был не более Бисмарка склонен сохранять мир по моральным соображениям. Но, как и Бисмарк, он верил, что мир соответствует интересам Германии; и это его убеждение ставит его вровень с Бисмарком как великого немецкого – и даже великого европейского – государственного деятеля. Возможно, даже выше Бисмарка. Задача, которая перед ним стояла, была, несомненно, куда труднее. От Бисмарка требовалось лишь поддерживать существующий миропорядок[25]25
Автор, очевидно, говорит о задаче, стоявшей перед Бисмарком уже после объединения Германии в 1871 г. – Прим. науч. ред.
[Закрыть]; Штреземан должен был двигаться к новому. Успех Штреземана выражается в том, что, пока он был жив, Европа одновременно двигалась и к миру, и к пересмотру Версальского договора.
В этом была заслуга не одного только Штреземана. Государственные деятели союзных стран тоже внесли свою лепту – и в первую очередь Рамсей Макдональд, который пришел к власти в Великобритании в 1924 г. В следующие пятнадцать лет, пока он то оставлял, то вновь занимал пост премьер-министра, внешнеполитический курс страны во многом определялся им. Когда в 1939 г. разразилась Вторая мировая война, возникло ощущение, что политика Макдональда привела к катастрофическому провалу. Его имя сейчас покрыто позором; игнорируется само то, что такой политик существовал. Но каждый современный западный лидер, ратующий за сотрудничество с Германией, должен бы считать Макдональда своим святым покровителем. Макдональд взялся за «германский вопрос» решительней любого другого британского государственного деятеля. Как показала оккупация Рура, от принуждения толку не было. От альтернативы в виде восстановления России в статусе великой европейской державы в 1920-х гг. отказались с обеих сторон – на счастье или на беду. Не оставалось ничего другого, кроме как мириться с Германией; а если уж мириться, то со всей искренностью. Макдональд не игнорировал обеспокоенности французов. Он прислушивался к ним с бóльшим вниманием, чем можно было ожидать от британца. В июле 1924 г. Макдональд заверял Эдуара Эррио, что разорвать Версальский договор – значит «разбить прочное основание, на котором покоится мир, добытый такой дорогой ценой»; он выступал за принятие Лигой Наций так и не вступившего в силу Женевского протокола, согласно которому Великобритания наряду с другими членами Лиги гарантировала нерушимость всех европейских границ. Однако такая благосклонность Макдональда к французам объяснялась его уверенностью в безосновательности их тревог. В то, что Германия – опасная и агрессивная держава, помешанная на идее доминирования в Европе, он не верил даже в августе 1914 г., а уж тем более в 1924-м. Как следствие, обязательства протокола – «внушительные… и важные на бумаге» – на деле были для него «безвредной пилюлей для успокоения нервов». Проблемы предполагалось решать «неутомимым проявлением доброй воли». Главное было начать переговоры. Если французов можно заманить за стол переговоров, только пообещав им безопасность, значит, нужно ее пообещать – как маленького ребенка заманивают в море заверениями, будто вода теплая. Конечно, малыш обнаруживает обман, но привыкает к холоду, а вскоре и пробует плавать. Так все устроится и в международных отношениях. Когда французы сделают шаг навстречу Германии, то обнаружат, что это не так страшно, как они себе воображали. Британия должна убедить французов многим поступиться, а немцев – на многое не рассчитывать. Как сказал сам Макдональд несколькими годами позже, «прежде всего необходимо, чтобы все они формулировали свои требования так, чтобы Британия могла сказать, что поддерживает обе стороны»{3}3
Протокол встречи Пяти держав 6 декабря 1932 г.: Documents on British Foreign Policy, second series, IV, No. 211.
[Закрыть].
Макдональд появился на сцене в самый подходящий момент. Французы были готовы оставить Рур, умерив требования в части репарационных выплат; немцы, со своей стороны, были готовы сделать серьезное предложение по этим выплатам. Временное урегулирование вопроса репараций согласно плану Дауэса и сопровождавшая его общая разрядка напряженности в отношениях Франции и Германии – заслуга в первую очередь Макдональда. Всеобщие выборы в Великобритании в декабре 1924 г. положили конец правлению лейбористов; но хотя Макдональд и отошел от руководства британской внешней политикой, он продолжал опосредованно на нее влиять. С британской точки зрения путь примирения был настолько заманчив, что ни одно правительство с него бы не сошло. Остин Чемберлен, консервативный преемник Макдональда на посту министра иностранных дел, считал преданность союзникам главной добродетелью (пусть и во искупление противоположных наклонностей своего отца); в своей сбивающей с толку манере он не прочь был вновь поднять вопрос о прямом союзе с Францией. Но британское общество – не только лейбористы, но и консерваторы – теперь решительно выступало против. Штреземан предложил другой выход: договор о мире между Францией и Германией, гарантированный Великобританией и Италией. Британцам идея пришлась по вкусу. Гарантии против неназванного «агрессора» предполагали в точности тот справедливый арбитраж, к которому до войны призывал Грей, а теперь Макдональд; при этом друзья Франции вроде Остина Чемберлена могли утешаться мыслью, что единственный вероятный агрессор тут – это Германия, а значит, англо-французский союз будет протащен исподтишка. Итальянцам, бедным родственникам послевоенной Европы, роль арбитра в конфликте Франции и Германии, ставившая Италию вровень с Великобританией, тоже очень нравилась. Зато французы были не в восторге. Несмотря на то что Рейнская область оставалась демилитаризованной, договор, гарантированный Британией и Италией, лишал Францию этой открытой настежь двери, через которую можно было угрожать Германии.
Однако во Франции тоже нашелся государственный деятель, отвечавший требованиям момента. В 1925 г. должность министра иностранных дел Франции в очередной раз досталась Аристиду Бриану. В части дипломатических талантов он не уступал Штреземану, по высоте устремлений – Макдональду, а в умении красиво изъясняться равных ему вовсе не было. Другие французские политики вели разговор «жестко», ничего такого в виду не имея. Бриан же предпочитал «мягкость», но обманываться ею тоже не следовало. Итоги оккупации Рура подтвердили бесплодность жестких мер. У Бриана появился новый шанс сплести сеть безопасности для Франции из паутины слов. Он лишил Штреземана морального перевеса, предложив, чтобы Германия пообещала уважать все свои границы, как западные, так и восточные. Для немецкого правительства это условие было неприемлемым. Большинство немцев смирилось с потерей Эльзаса и Лотарингии; до разгрома Франции в 1940 г. почти никто из них эту тему не поднимал. Но вот граница с Польшей немцам покоя не давала. Они могли ее терпеть, но не могли признать. Штреземан и так, по мнению немцев, слишком далеко зашел по пути примирения, заключив договоры об арбитраже с Польшей и Чехословакией. Но даже Штреземан не преминул сделать оговорки, что в будущем Германия намерена «пересмотреть» свои границы с этими двумя странами – безусловно, мирным путем: любимая фраза политиков, которые пока не готовы к войне, – хотя в этом случае Штреземан, скорее всего, не кривил душой.
Таким образом, в системе безопасности зияла брешь – открытый отказ Штреземана признавать восточные границы Германии. Британцы не собирались ее закрывать. Остин Чемберлен благодушно разглагольствовал о Польском коридоре, «ради которого ни одно британское правительство никогда не рискнет костями ни одного британского гренадера»[26]26
Чемберлен в данном случае перефразировал Бисмарка, заявившего в конце 1870-х гг., что балканские дела «не стоят здоровых костей ни одного померанского мушкетера». – Прим. науч. ред.
[Закрыть]. Бриан предложил альтернативное решение. Франция подтвердила свои уже существующие союзные обязательства в отношении Чехословакии и Польши, а стороны локарнских договоренностей согласились, что действия Франции в рамках этих союзов не являются агрессией против Германии. В теории это позволяло Франции прийти на помощь своим восточным союзникам через демилитаризованную Рейнскую область, не поплатившись дружбой с Британией. Две несогласующиеся дипломатические стратегии Франции наконец состыковались, по крайней мере на бумаге. В Локарно Франция смогла закрепить отношения с Великобританией и в то же самое время не разрушить союзов с двумя государствами-сателлитами на востоке.
Локарнский договор, подписанный 1 декабря 1925 г., стал поворотным пунктом межвоенного периода. Его подписание положило конец Первой мировой войне; отказ от него одиннадцать лет спустя стал прелюдией ко Второй. Если считать задачей международного договора удовлетворять все стороны, Локарнский договор и в самом деле был очень хорош. Он удовлетворял Италию и Великобританию – две страны-гаранта: они помирили Францию с Германией и принесли мир в Европу, не взяв на себя, как они считали, ничего, кроме моральных обязательств, равносильных простому сотрясению воздуха. Ни Великобритания, ни Италия так никогда и не предприняли никаких приготовлений к обеспечению этих гарантий. Да и как они могли это сделать, если «агрессор» неизвестен и определится в самый последний момент? На практике договор дал странный и непредвиденный результат: все время своего действия он препятствовал любому военному сотрудничеству Великобритании и Франции. При этом локарнские решения удовлетворили и французов. Германия согласилась с потерей Эльзаса и Лотарингии, а также смирилась с демилитаризацией Рейнской области; Великобритания и Италия засвидетельствовали ее обещания. Любой французский политик образца 1914 г. пришел бы в бурный восторг от такого достижения. Вместе с тем французы по-прежнему вольны были свободно действовать в рамках своих восточных союзов, а при желании и играть сколь угодно важную роль в Европе. Немцы тоже могли быть удовлетворены. Новая оккупация Рура им точно не грозила; с Германией обращались не как с поверженным врагом, но как с равноправным партнером; к тому же она сохранила для себя возможность пересмотра восточных границ. Немецкий государственный деятель образца 1919 г. – или даже 1923-го – не нашел бы на что тут жаловаться. Локарно стал величайшим триумфом «умиротворения». Лорд Бальфур справедливо назвал его «воплощением и причиной серьезного улучшения общественных настроений в Европе».
Локарнский договор подарил Европе период мира и надежды. Германию приняли в Лигу Наций, хотя и с большей задержкой, чем ожидалось. Штреземан, Чемберлен и Бриан регулярно заседали в Совете Лиги. Казалось, что Женева стала центром возрожденной Европы: «европейский концерт» наконец зазвучал в лад, а порядок на международной арене поддерживался путем обсуждений, без всякого бряцания оружием. Об отсутствии России и США никто в те годы не сожалел – без них вопросы решались легче. С другой стороны, никто всерьез не предлагал превратить эту женевскую Европу в антиамериканский или антисоветский блок. Европейские страны вовсе не стремились отгородиться от США: они наперебой занимали американские деньги. Горстка сумасшедших прожектеров разглагольствовала о крестовом походе Европы против коммунизма; но это были пустые разговоры. Европейцы не горели желанием отправляться в крестовый поход против кого бы то ни было. Кроме того, немцы приберегали дружбу с Россией как козырь в рукаве, своего рода договор перестраховки, который однажды может пригодиться против восточных союзников Франции. Сразу после подписания Локарнского договора Штреземан подтвердил договоренности, заключенные с русскими в Рапалло в 1922 г.; а когда Германия вступила в Лигу Наций, Штреземан заявил, что его разоруженная страна не в состоянии присоединяться ни к каким санкциям, что, по сути, было завуалированной декларацией нейтралитета в отношении Советской России.
Однако более тяжким пороком локарнско-женевской системы, чем неучастие США и Советской России, было участие Италии. Ее включили в локарнские договоренности исключительно с целью подчеркнуть видимую беспристрастность Британии. Никто в то время не предполагал, что Италия и в самом деле может поддерживать равновесие между Германией и Францией. Пока локарнские решения, как и Лига Наций, опирались на расчет и добрую волю, а не на грубую силу, это было неважно. Потом, когда обстановка в мире накалилась, память о Локарно способствовала заблуждению, будто у Италии есть некий реальный вес в этом вопросе; итальянские лидеры и сами стали жертвой этой иллюзии. В эпоху Локарно Италия страдала от изъяна похуже недостатка силы: ей не хватало морального авторитета. Державы, стоявшие за локарнскими договоренностями, утверждали, что воплощают высшие принципы, ради которых и велась Первая мировая война, а Лига Наций провозглашала себя объединением свободных народов. Надо ли говорить, что претензии эти были в какой-то мере необоснованными. Страны никогда не бывают такими свободными или настолько приверженными принципам, какими себя выставляют. При этом некоторая доля истины в этих утверждениях все же присутствовала. Великобритания Болдуина и Макдональда, Веймарская республика в Германии, Третья республика во Франции были поистине демократическими государствами со свободой волеизъявления, верховенством права и добрыми намерениями в отношении соседей. Они имели право утверждать, что их объединение в Лигу обеспечивает человечеству наилучший шанс на светлое будущее и что в целом они являют собой пример лучшего политического и общественного устройства, чем то, что предлагает Советская Россия.
Но в приложении к Италии Муссолини все это становилось гнусным лицемерием. Фашизм никогда не обладал брутальной энергетикой национал-социализма, не говоря о его реальном могуществе. В моральном отношении он разлагал так же, а может – в силу своей крайней лживости, – даже сильнее. Все в нем было лживым. Угроза для социальной стабильности, от которой фашизм якобы спас Италию, – фальшивка; революция, в ходе которой фашисты захватили власть, – мошенничество; Муссолини был шарлатаном, а его политика – жульнической. Власть фашистов была коррумпированной, некомпетентной, пустой; а сам Муссолини – тщеславным, бестолковым хвастуном без убеждений и целей. Фашистская Италия погрязла в беззаконии; внешняя политика фашистов с первых своих шагов дезавуировала женевские принципы. Однако Рамсей Макдональд писал Муссолини теплые письма – буквально в то же самое время, когда убивали Джакомо Маттеоти; Остин Чемберлен обменивался с Муссолини фотографиями; Уинстон Черчилль превозносил Муссолини как спасителя своей страны и крупного европейского политика. Как можно было верить в искренность западных лидеров, если они так льстили Муссолини, если они приняли его в свой круг? Неудивительно, что российские коммунисты считали Лигу и всю ее деятельность заговором капиталистов, – и равно неудивительно, что Советская Россия и муссолинивская Италия довольно рано установили и поддерживали дружественные отношения. Конечно, между теорией и практикой всегда существует некоторый зазор. Но если этот зазор становится слишком велик, последствия будут губительными и для правителей, и для тех, кем они управляют. Пребывание фашистской Италии в женевской штаб-квартире Лиги, физическое присутствие Муссолини в Локарно ярко символизировали, что демократической Европы Лиги Наций в реальности не существует. Политики больше не верили собственным речам; и народы следовали их примеру.
Хотя и Штреземан, и Бриан были каждый по-своему искренни, народы им за собой увлечь не удалось; доводы, которыми они оправдывали локарнское урегулирование в своих странах, противоречили друг другу, что в итоге не могло не привести к разочарованию. Бриан говорил французам, что решения, принятые в Локарно, окончательные, что исключало дальнейшие уступки. Штреземан заверял немцев, что смыслом Локарно было гарантировать Германии новые уступки, причем в ближайшее время. Известный своим риторическим даром Бриан надеялся, что туман благонамеренных фраз заставит немцев позабыть о своих обидах. Известный своей терпеливостью Штреземан верил, что со временем французы приобретут привычку уступать. Обоих ждало разочарование; к моменту кончины оба предвидели крах своих усилий. Французы и дальше шли на уступки, но всегда с неохотой и возмущением. Контрольную комиссию, наблюдавшую за разоружением Германии, распустили в 1927 г. В 1929 г. репарации пересмотрели в сторону уменьшения, согласно плану Юнга, а от внешнего контроля над финансовой системой Германии отказались; в 1930-м, на пять лет раньше запланированного срока, оккупационные войска ушли из Рейнской области. Но умиротворения не получилось. Напротив, к этому моменту немецкое негодование было острее, чем в самом начале. В 1924 г. немецкие националисты заседали в кабинете министров и помогали реализовывать план Дауэса; в 1929 г. план Юнга проводили в жизнь при яростном их сопротивлении. Штреземана, вернувшего Германию в круг великих держав, свели в могилу.
Немецкое негодование отчасти было результатом расчета: самый простой способ добиться бóльших уступок – объявлять каждое новое послабление недостаточным. Доводы немцев казались убедительными. В Локарно они на равных принимали участие в переговорах по согласованию условий договора. Чем тогда можно было оправдать дальнейшую выплату репараций и одностороннее разоружение Германии? На этот вопрос французы убедительного ответа дать не могли, но знали, что, если они пойдут у Германии на поводу, она вернет себе доминирующее положение в Европе. Современники по большей части винили французов. Англичане, в частности, все больше соглашались с Макдональдом: раз ступив на путь умиротворения, двигаться по нему нужно в быстром темпе и без камня за пазухой. Впоследствии немцев обвиняли в нежелании признать окончательность поражения 1918 г. Сейчас уже нет смысла рассуждать, можно ли было что-то изменить, сделав Германии больше – или меньше – уступок. Конфликт Франции и Германии все равно не закончился бы, пока жива была иллюзия, будто Европа по-прежнему является пупом земли. Франция стремилась бы сохранить искусственную безопасность 1919 г.; Германия жаждала бы восстановить естественный порядок вещей. Соперничающие государства может принудить к дружбе только тень большей опасности; ни Советская Россия, ни США такой тени на Европу Штреземана и Бриана не отбрасывали.
Однако это вовсе не означает, что в 1929 г. над Европой уже нависла тень войны. Даже советские лидеры не потрясали больше соломенным чучелом новой военной интервенции капиталистических держав. Уверенно повернувшись спиной к внешнему миру, они воплощали идею «социализма в отдельно взятой стране» в конкретику пятилетних планов. Больше того, единственная война, которая виделась тогда пророкам потрясений, была самой нелепой из всех возможных – столкновением между Великобританией и Америкой. На самом деле эти две державы еще в 1921 г. договорились о паритете в численности боевых кораблей; в 1930 г. на Лондонской конференции по морским вооружениям они заключат договор, предусматривающий дальнейшие ограничения. Националистические настроения в Германии не спадали, но большинство наблюдателей делало отсюда небезосновательный вывод, что процесс примирения шел слишком медленно. В любом случае националисты в Германии были в меньшинстве. Большинство, хоть и не смирилось с Версалем, по-прежнему разделяло уверенность Штреземана, что от версальской системы можно избавиться мирными средствами. Символом этой политики стал избранный в 1925 г. президент Гинденбург; фельдмаршал и националист, он добросовестно исполнял обязанности главы демократической республики, руководствовался во внешней политике принципами Локарно и безропотно возглавлял армию, до беспомощности ограниченную условиями Версальского договора. Самым популярным лозунгом в Германии был вовсе не «Долой кабальный договор», а «Нет войне»; националисты потерпели поражение на референдуме по вопросу об отказе от плана Юнга. В 1929 г. в Германии вышла самая известная из всех антивоенных книг – роман Ремарка «На Западном фронте без перемен»; произведения сходного содержания заполняли полки магазинов в Англии и Франции. Казалось, что пересмотр Версальского договора будет происходить постепенно, исподволь, так что никто даже не заметит момента возникновения нового миропорядка.
Последней потенциальной опасностью представлялось возобновление агрессивных действий со стороны «милитаристской» Франции, единственной страны, обладающей большой армией, и, вопреки потугам итальянцев, единственной великой державы на Европейском континенте. Но и это опасение не имело под собой реальной основы. Зато у предположения, что Франция уже смирилась со своей неудачей, имелись основания более веские, чем риторика Бриана. В теории Франция не отказывалась от активного противодействия Германии. Рейнская область по-прежнему была демилитаризованной, в силе оставались и союзы с Польшей и Чехословакией. Однако на практике Франция к тому времени уже бесповоротно лишила себя возможности начать военные действия против Германии. Перевес в живой силе и промышленных ресурсах был на стороне Германии. Поэтому единственная надежда Франции на победу состояла в том, чтобы нанести сокрушительный удар, пока Германия не успела мобилизоваться. Для этого Франции требовалась «активная, независимая и мобильная армия, всегда готовая к проникновению на территорию противника». Такой армии у Франции никогда не было. Победоносная армия 1918 г. была готова только к окопной войне и за краткий период быстрого наступления измениться не успела, но к реформам не приступили и после того. Французская армия еле осилила оккупацию Рура, хотя никакие немецкие силы ей вообще не противостояли. Внутриполитические факторы тоже действовали в этом направлении. В 1928 г. по настоянию общественности продолжительность срочной службы сократили до одного года. Отныне французской армии, даже после всеобщей мобилизации, хватило бы сил лишь для защиты «национальной территории». Солдат готовили исключительно к обороне и снаряжали соответственно. Линия Мажино на восточной границе представляла собой мощнейшую в истории систему укреплений. Французская политика окончательно разошлась с французской военной стратегией. Французские лидеры все еще рассуждали об активном противодействии Германии, но средствами для такого противодействия уже не располагали. Ленин в 1917 г. говорил, что российские солдаты, разбегаясь с фронта, ногами голосовали за мир. Так и французы, не отдавая себе в том отчета, своими военными приготовлениями проголосовали против версальской системы. Они отказались от плодов победы еще до того, как за них разгорелась борьба.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































