Текст книги "Curiositas. Любопытство"
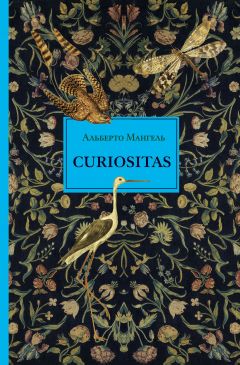
Автор книги: Альберто Мангель
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Альберто Мангель
Curiositas. Любопытство
Переводчик благодарит за помощь Анну Беспятых, Александру Глебовскую, Сергея Слободянюка, Василия Степанова, Александра Черноглазова, Наталью Брониславовну Срединскую
© Alberto Manguel
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria, S. L.
www.schavelzon.com
© А. Б. Захаревич, перевод, 2017
© А. В. Наумов, дизайн обложки, 2017
© Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Предисловие
На смертном одре Гертруда Стайн приподняла голову и спросила: «Так каков же ответ?» Все молчали; тогда она улыбнулась и произнесла: «В таком случае, в чем вопрос?»
Дональд Сазерленд. «Гертруда Стайн. Биография творчества»
Любопытная штука – любопытство.
Одно из первых слов, которые мы усваиваем во младенчестве, – «почему». Отчасти из желания больше узнать о загадочном мире, в который мы пришли не по своей воле, отчасти в попытке разобраться, как в этом мире все устроено, а еще из врожденной потребности общаться с другими его обитателями – пройдя первую стадию лепета и гуления, вскоре мы уже спрашиваем: «Почему?»[2]2
«Младенцы гулят, отчасти закрепляя опыт, заключенный в понятии „быть вместе“ <…> или же чтобы утвердить свою „личность“» (D. N. Stern The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. N. Y.: Harper-Collins, 1985. P. 171).
[Закрыть] И продолжаем спрашивать всю жизнь. Довольно быстро обнаруживается, что наша пытливость редко бывает вознаграждена содержательными или исчерпывающими ответами и чаще подстегивает желание задавать больше вопросов или дарит удовольствие от общения с окружающими. Любой следователь знает, что утверждение – это барьер; вопросы помогают установить контакт. Интерес – способ показать нашу расположенность к людям.
Возможно, всякое проявление любознательности сводится к знаменитому вопросу Мишеля де Монтеня «Que sais-je?» («Что я знаю?»), который был задан во второй книге «Опытов». Рассуждая о философах-скептиках, Монтень замечает, что им было мало средств речи для выражения собственных мыслей, для этого «понадобился бы какой-то новый язык». «Наш язык, – говорит Монтень, – сплошь состоит из совершенно неприемлемых для них <философов> утвердительных предложений». И добавляет: «Этот образ мыслей более правильно передается вопросительной формой: „Что знаю я?“, – как гласит девиз, начертанный у меня на коромысле весов». Вопрос, конечно же, подсказан сократовским «Познай самого себя», но у Монтеня он подразумевает не экзистенциально обусловленную потребность знать, кто мы такие, а скорее непрерывное вопрошание, в котором существует наш разум, когда начинает углубляться (или уже основательно углубившись) в ту или иную сферу и видит впереди неизведанный простор. В царстве монтеневской мысли утверждения словно оборачиваются своей противоположностью, становясь вопросами[3]3
См.: M. de Montaigne An Apology for Raymond Sebond // The Complete Essays / trans. and ed. M. A. Screech. Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1991. P. 591. Как указывает Павсаний (II в. н. э.), слова «познай себя» и «ничего лишнего» были начертаны на фасаде Дельфийского храма и посвящались Аполлону. См.: Pausanias Guide to Greece / trans. P. Levi. Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1979). Vol. 1: Central Greece. P. 466. Существует шесть диалогов Платона, в которых обсуждаются дельфийские изречения: «Хармид» (164D), «Протагор» (343B), «Федр» (229E), «Филеб» (48C), «Законы» (2, 923A), «Алкивиад Первый» (124A, 129A, 132C). См.: The Collected Dialogues of Plato / ed. E. Hamilton and H. Cairns. Princeton: Princeton University Press, 1973.
[Закрыть].
Моя дружба с Монтенем началась, когда я был еще подростком, и с тех пор его «Опыты» стали моей своеобразной автобиографией: я по-прежнему нахожу в его текстах отражение собственных размышлений и опыта, переданных в блистательной прозе. Обращается ли Монтень к традиционным понятиям (дружеский долг, границы просвещения, радости сельской жизни) или исследует экстраординарные явления (природу каннибализма, сущность безобразных тварей, прок от большого пальца), он задает векторы моей собственной пытливости, разметанные по разным эпохам и множеству направлений. «Книги не столько обучили меня чему-то, – признается он, – сколько послужили мне для упражнения моих умственных способностей»[4]4
M. de Montaigne On Physiognomy // The Complete Essays. P. 1176. Перевод Н. Рыковой.
[Закрыть]. В точности мой случай.
Размышляя о монтеневском подходе к чтению, я, например, подумал: нельзя ли истолковать произнесенное им «que sais-je?», пользуясь его же методом, когда идеи черпаются в библиотеке (не зря он сравнивал себя как читателя с пчелой, которая собирает пыльцу, чтобы принести мед) и проецируются на более позднее время, в котором живу я?[5]5
См.: M. de Montaigne On Educating Children // The Complete Essays. P. 171.
[Закрыть]
Монтень охотно признал бы, что его исследование глубин собственного знания было для XVI века не ново: поиск источника нашей пытливости уводит гораздо глубже. «Откуда же исходит премудрость? – терзаясь, вопрошает Иов. – И где место разума?» Монтень в ответ на это замечает: «Рассуждение есть орудие, годное для всякого предмета, и оно примешивается всюду. По этой причине в моих опытах я пользуюсь им при любом случае. Если речь идет о предмете, мне неясном, я именно для того и прибегаю к рассуждению, чтобы издали нащупать брод и, найдя его слишком глубоким для моего роста, стараюсь держаться поближе к берегу»[6]6
Иов 28, 20. Книга Иова не дает ответов, но ставит ряд «истинных вопросов», которые, по мнению Нортропа Фрая, представляют собой «стадии постановки вопросов более точных; ответы обманывают и лишают нас такого права» (N. Frye The Great Code: The Bible and Literature // Collected Works / ed. Alvin A. Lee. University of Toronto Press: Toronto, Buffalo and London, 2006. Vol. 19. P. 217); M. de Montaigne On Democritus and Heraclitus // The Complete Essays. P. 337. Перевод А. Бобовича (В оригинальном издании книги А. Мангеля под одной цифрой здесь и далее в подобных случаях собраны несколько примечаний, отделенных точкой с запятой. Примеч. ред.).
[Закрыть]. Лично меня его смиренный принцип невероятно обнадеживает.
В соответствии с теорией Дарвина, человеческое воображение есть средство выживания. Стремясь больше узнать о мире, а следовательно, лучше вооружиться во избежание подводных камней и других опасностей, homo sapiens развил в себе способность выстраивать отвлеченную, мысленную реальность и продумывать обстоятельства, с которыми можно столкнуться, еще до их возникновения в действительности[7]7
См.: R. Dawkins The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 63–65.
[Закрыть]. Осмысливая себя и окружающий мир, мы чертим в уме карты этих территорий и осваиваем их через бесконечное множество путей, а затем выбираем лучший и наиболее эффективный. Монтень согласился бы: воображение служит нам, чтобы мы могли существовать, а любознательность питает нашу тягу к фантазированию.
Воображение как основа творчества развивается на практике. Но не через успехи, поскольку в них заключен итог и потому – тупик, а через неудачи, шаги, которые оказываются ошибочными и требуют новых попыток, ведущих с благословения звезд к новым ошибкам. История искусств и литературы, равно как философии и науки, – как раз история таких озарений-неудач. «Ошибитесь. Попробуйте снова. Ошибитесь лучше», – говорил Беккет[8]8
S. Beckett Worstward Ho. L.: John Calder, 1983. P. 46.
[Закрыть].
Но чтобы «лучше ошибиться», мы должны быть готовы распознать в своем воображении эти ошибки и несуразности. Должны увидеть, что выбранный путь не поведет нас в желаемом направлении, а сочетание слов, красок или чисел не приблизит интуитивный образ. Мы с готовностью вспоминаем, как наши преисполненные вдохновения Архимеды, лежа в своих ваннах, в решающий момент восклицают «Эврика!»; и не так охотно приводим другие, гораздо более частые примеры, когда они вслед за художником Френхофером из повести Бальзака, глядя на свой неведомый шедевр, произносят: «Ничего! Ровно ничего!.. И мною, стало быть, ничего не создано»[9]9
H. de Balzac Le chef-d’oeuvre inconnu. P.: Editions Climats, 1991. P. 58. Перевод И. Брюсовой.
[Закрыть]. В эти минуты редких триумфов и многочисленных поражений лейтмотивом обычно звучит главный вопрос творческого воображения: «Почему?»
Нынешняя система образования в целом не признает наличие второй движущей силы наших исканий. Мало заинтересованные в чем-либо, кроме эффективности производства и финансовой прибыли, наши образовательные учреждения больше не учат думать ради самого мыслительного процесса и свободы фантазии. Из форумов, где задают вопросы и дискутируют, школы и колледжи превратились в тренировочные лагеря, где прививают нужные навыки; колледжи и университеты перестали быть оранжереями для тех пытливых умов, которые Фрэнсис Бэкон в XVI веке называл «светочами»[10]10
F. Bacon New Atlantis // The Advancement of Learning and New Atlantis / ed. A. Jonston. Oxford: Oxford University Press, 1974. P. 245.
[Закрыть]. Мы учимся задавать вопросы «сколько это будет стоить?» и «сколько займет времени?» вместо того, чтобы спросить «почему?».
Вопрос «почему?» (во всех его многочисленных вариациях) гораздо важнее задать, чем получить на него ответ. Сама его постановка открывает бесчисленные возможности, одолевает предрассудки, рождает множественные плодотворные сомнения. Вопрос может вызвать робкие попытки ответа, но, если он достаточно емкий, ни один ответ не станет исчерпывающим. Дети интуитивно понимают, что вопрос «почему?» незаметно относит нашу цель куда-то за горизонт[11]11
Вербальная постановка вопроса дистанцирует наш собственный опыт и позволяет его анализировать. «В межличностном опыте язык фиксирует разрыв между пережитым и отраженным» (D. N. Stern The Interpersonal World of the Infant. P. 182).
[Закрыть].
Зримый образ нашей любознательности – знак вопроса, начертанный в конце вопросительного предложения в большинстве западных языков и нависающий над гордячкой-догмой, – исторически возник довольно поздно. В Европе правила пунктуации сформировались только на закате Ренессанса, когда в 1566 году внук великого венецианского печатника Альда Мануция издал соответствующее наставление для наборщиков – «Interpungendi ratio». Среди знаков, придуманных для завершения абзаца, в наставлении приводился средневековый punctus interrogativus. Мануций-младший определял его как знак, указывающий на вопрос, который обычно требует ответа. Один из наиболее ранних вариантов начертания такого вопросительного знака можно найти в относящемся к IX веку списке, который воспроизводит текст из Цицерона и ныне хранится в Париже, в Национальной библиотеке; знак напоминает лестницу, изломанной диагональю восходящую от точки, расположенной слева внизу, к вершине справа. Вопросы нас возвышают[12]12
MS lat. 6332, Bibliothèque nationale, Paris. Цит. по: M. B. Parkes Pause and Effect: An Introduction to the History of Punctuation in the West. Berkeley: University of California Press, 1993. P. 32–33.
[Закрыть].

Punctus interrogativus в манускрипте IX века, содержащем текст трактата Цицерона Cato maior de senectute («О старости»). Париж, Национальная библиотека
На протяжении всей нашей изменчивой истории вопрос «почему?» также менял свой облик в широком разнообразии контекстов. Вариаций, пожалуй, слишком много, чтобы досконально рассмотреть каждую из них, а сами вариации слишком не похожи друг на друга, чтобы стать стройным целым, и все же были попытки объединить их хотя бы выборочно, по самым разным критериям. Так, учеными и философами, к которым в 2010 году обратилась редакция лондонской «Гардиан», был составлен список из десяти вопросов, на которые «должна ответить наука» (хотя глагол «должна» здесь едва ли уместен). Вот какие это были вопросы: что такое сознание? что было до Большого взрыва? помогут ли наука и техника вернуть нам индивидуальность? как нам справиться со стремительным ростом населения? можем ли мы распространить научное мышление на все сферы жизни? как нам обеспечить выживание и процветание человечества? можно ли дать точное определение безграничного пространства? смогу ли я фиксировать работу собственного мозга, как записываю телевизионный эфир? удастся ли человечеству добраться до звезд? Эти вопросы не следуют один из другого, не выстраиваются в логическую цепочку, и не факт, что на каждый из них можно найти ответ. Они возникли из нашего стремления к знанию, пройдя творческий отсев сквозь решето обретенной мудрости. Однако и в их хитросплетении улавливается определенная упорядоченность. Следуя по неизбежно эклектичному маршруту сквозь ряд проблем, высвеченных пытливостью нашего ума, мы, быть может, еще сумеем рассмотреть своеобразную «параллельную картографию», существующую в нашем воображении. Что мы хотим знать и что можем представить – суть две стороны одного листа магической книги.
Многие из тех, кто не мыслит свою жизнь без чтения, рано или поздно находят для себя книгу, которая, как ни одна другая, позволяет исследовать собственное «я» и окружающий мир, представляясь неисчерпаемой и в то же время заставляя разум сосредоточиться на малейших частностях в их сокровенности и уникальности. Для одних читателей это будет признанное творение классики – например, произведения Шекспира или Пруста; для других – менее известный или менее однозначный текст, который по каким-то необъяснимым или тайным причинам оставляет после себя долгий след. Для меня эта единственная книга менялась в течение жизни: многие годы это были «Опыты» Монтеня, «Алиса в Стране чудес», «Вымыслы» Борхеса или «Дон Кихот», «Тысяча и одна ночь» или «Волшебная гора». Ныне, приближаясь к означенному для нас порогу в семьдесят лет[13]13
«Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс 89, 10).
[Закрыть], такой всеохватной книгой я считаю «Божественную комедию» Данте.
К «Божественной комедии» я пришел поздно, незадолго перед тем, как мне исполнилось шестьдесят, и после первого же прочтения она стала для меня тем самым исключительно личным и в то же время безбрежным первоисточником. Называя «Божественную комедию» безбрежной, я, возможно, просто пытаюсь обнажить собственный суеверный страх перед этим творением – перед его глубиной, размахом, сложной архитектурой. И даже эти слова не передают постоянную новизну, которая ощущается при чтении этого текста. Данте называл свою поэму «отмеченной и небом и землей»[14]14
«Al quale ha posto mano e cielo e terra» (Par., XXV, 2). Здесь и далее переводы из «Божественной комедии» М. Лозинского.
[Закрыть]. И это не гипербола: таково впечатление, сохранявшееся у читателей со времен Данте. Но наличие «конструкции» подразумевает некий искусственный механизм, действие, зависящее от валов и шестерен, которое, даже будучи явным (как проявляют себя, например, созданная Данте терцина, terza rima, и, соответственно, мотив числа три на протяжении всей «Божественной комедии»), лишь обозначает штрих в общей сложной системе, но едва ли раскрывает тайну ее очевидного совершенства. Джованни Боккаччо сравнивал поэму Данте с павлином, чье тело покрыто «ангельским» радужным оперением бесчисленных оттенков. Хорхе Луис Борхес использовал сравнение с бесконечно тонким узором гравировки; Джузеппе Маццотта – с универсальной энциклопедией. Осип Мандельштам выразил это так: «Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей, вошли друг в друга, смесились и наполнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным возбуждением, то получилось бы нечто подобное Дантовой „Комедии“». Тем не менее ни одно из этих сравнений не отражает всю полноту, глубину, размах, музыку, калейдоскопическую образность, бесконечную изобретательность и совершенную в своей гармоничности структуру поэмы. Ольга Седакова писала, что поэма Данте – это «искусство, которое рождает искусство» и «мысль, которая рождает мысль», но, что еще важнее, это «опыт, который рождает опыт»[15]15
См.: G. Boccaccio Trattatello in laude di Dante // ed. L. Sasso. Milano: Garzanti, 1995. P. 81; См.: J. L. Borges Prólogo // Nueve ensayos dantescos / ed. J. Arce. Madrid: Espasa-Calpe, 1982. P. 85–86; См.: G. Mazzotta Reading Dante. New Haven: Yale University Press, 2014. P. 1; O. Mandelstam Conversation on Dante // The Selected Poems of Osip Mandelstam / trans. C. Brown and W. S. Merwin. N. Y.: New York Review of Books, 2004. P. 151; O. Sedakova Sotto il cielo della violenza // Esperimenti Danteschi. Inferno 2008 / ed. S. Invernizzi. Milano: Casa Editrice Mariett, 2009. P. 107.
[Закрыть].
Пародируя художественные направления XX века от нового романа до концептуализма, Борхес и его друг Адольфо Биой Касарес придумали форму критики, которая, смирившись с невозможностью проанализировать произведение искусства во всем его величии, просто воспроизводит его от начала до конца[16]16
Текст так и не был написан, но в 1965 г. Борхес и Биой при мне обсуждали, как им осуществить этот замысел в сборнике рассказов-мистификаций «Crónicas de Bustos Domecq» (Buenos Aires: Losada, 1967).
[Закрыть]. Следуя этой логике, чтобы объяснить «Божественную комедию», педантичный толкователь в конце концов процитировал бы ее целиком. Быть может, это единственный путь. В самом деле, встретив какой-нибудь потрясающей красоты фрагмент или сложное поэтическое рассуждение, не особенно впечатлившее нас в предыдущий раз, мы не порываемся немедленно его прокомментировать, но спешим зачитать вслух другу, чтобы в меру возможности поделиться своим прозрением. Такое обращение слов в иной опыт, быть может, отчасти отражено в реплике Беатриче, обращенной к Данте в небесных сферах Марса: «Оборотись и слушай, – побеждая / Меня улыбкой, молвила она. – / В моих глазах – не вся отрада Рая»[17]17
«Volgiti e ascolta; / ché non pur ne’ miei occhi è paradiso» (Par., XVIII, 20–21).
[Закрыть].
Не из честолюбия или осознания собственной образованности, а, напротив, понимая, что мой кругозор не безбрежен, я решил предложить некоторые толкования и комментарии на основе личных размышлений, наблюдений, соотнесения с собственным опытом. «Божественная комедия» наделена тем благородным величием, которое не преграждает путь, кто бы ни пытался переступить через ее порог. Что обнаружит читатель – другой вопрос.
Есть существенный аспект, с которым любой автор (и любой читатель) сталкивается, погружаясь в текст. Понятно, что чтение подразумевает нашу веру в язык и его пресловутые коммуникативные свойства. Каждый раз, открывая книгу, мы верим, что на этот раз, вопреки всему предыдущему опыту, нам откроется суть написанного. И несмотря на самые смелые надежды, каждый раз, добираясь до последней страницы, мы снова разочарованы. Особенно когда читаем то, что, за неимением более точных определений, готовы назвать «великой литературой»: в попытке объять текст во всей его многослойности наши возможности не отвечают нашим желаниям и ожиданиям, и мы вынуждены вновь возвращаться к тексту, рассчитывая, что теперь, наверное, достигнем цели. К счастью для литературы, да и для нас, ничего из этого не выходит. Целым поколениям читателей не исчерпать этих книг, а коммуникативное несовершенство языка дарит нам неограниченные богатства, в которых каждый находит лишь то, что ему по силам. Исчерпать сполна сокровища «Махабхараты» или «Орестеи» не удалось еще никому.
Но осознание неосуществимости задачи не заставляет нас отказаться от нее, и каждый раз, открывая книгу или переворачивая страницу, мы опять полны надежд на то, что поймем литературный текст – если не полностью, то хотя бы в чуть большем объеме, чем прежде. И так, на протяжении веков, мы создаем своеобразный палимпсест, очередным прочтением утверждая значимость книги, непременно обретающей новый облик. «Илиада» современников Гомера – не та «Илиада», которую читаем мы, но вбирает ее в себя, как наша «Илиада» вбирает последующие. В этом смысле для любой великой книги справедливо утверждение хасидов, пояснявших, что в Талмуде нет первой страницы, потому что каждый, кто взял его в руки, уже приступил к чтению до того, как дошел до первых печатных слов[18]18
См.: M. Buber Tales of the Hasidim // trans. O. Marx. Oxford: Oxford University Press, 1948. Vol. 1. P. 76.
[Закрыть].
Понятие lectura dantis возникло как определение особого жанра – чтения «Божественной комедии», и я прекрасно понимаю, что после комментариев, оставленных многими и многими поколениями, начиная с сына Данте, Пьеро, который написал их вскоре после смерти отца, невозможно сохранить ни всестороннюю критичность, ни полную оригинальность в том, что должно быть сказано о поэме. Впрочем, такую попытку можно оправдать, предположив, что любое прочтение – это в конечном счете не столько осмысление или истолкование изначального текста, сколько портрет читающего, исповедь, акт самораскрытия и самопознания.
Первым такое «автобиографическое» прочтение осуществил сам Данте. Когда во время путешествия в потустороннее поэту будет сообщено, что во имя собственного спасения он должен выбрать новую дорогу в жизни, его охватит страстное желание узнать, кто же он в действительности и что несут ему открытия, совершаемые на пути[19]19
Ср.: «A te convien tenere altro vïaggio» (Inf., I, 91; «Ты должен выбрать новую дорогу»).
[Закрыть]. С первого стиха «Ада» до последнего стиха «Рая» «Божественная комедия» отмечена этим дантовским вопросом.
Монтень в своих опусах цитирует Данте всего лишь дважды. Исследователи полагают, что он не читал творение поэта, но знал о нем из упоминаний в трудах других сочинителей. Если же ему довелось ознакомиться с поэмой, он мог не оценить строгость построения, границами которого Данте решил очертить свои искания. Однако, рассуждая о способности животных говорить, Монтень приводит три стиха из XXVI песни «Чистилища», в которых Данте сравнивает грешников, повинных в сладострастии, с муравьями, которые «столкнувшись где-нибудь, / Потрутся рыльцами, чтобы дознаться, / Быть может, про добычу и про путь»[20]20
См.: M. de Montaigne An Apology for Raymond Sebond. P. 512: «Così per entro loro schiera bruna / s’ammusa l’una con l’altra formica, / forse a spïar lor via e lor fortuna» (Purg., XXVI, 34–36).
[Закрыть]. И вновь цитирует Данте, рассуждая о воспитании детей. «Пусть наставник, – говорит Монтень, – заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние; пусть принципы Аристотеля не становятся неизменной основой его преподавания, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности». «Я готов любить / Неведенье <dubbiar> не менее науки», – такие слова Данте обращает к Вергилию в шестом круге Ада, когда латинский поэт объясняет своему ученику, почему грехи, совершенные от несдержанности, не так противны Богу, как те, что совершаются по нашей воле. Автор «Божественной комедии» говорит здесь об удовольствии, испытываемом в тот полный ожидания миг, который предшествует обретению знания; Монтень же видит в этом непреходящее ощущение полной неясности, когда, зная о существовании противоположных точек зрения, постичь можно лишь то, что видишь сам. Для обоих мыслителей процесс постановки вопроса не менее, а то и более важен, чем знание[21]21
«Non men che saver, dubbiar m’aggrata» (Inf., XI, 93); См.: M. de Montaigne On Educating Children. P. 170.
[Закрыть].
Можно ли читать Данте (или Монтеня), будучи атеистом и не разделяя их веры в Бога? Не самонадеянно ли рассуждать о понимании их трудов без веры, помогавшей им в страданиях, смятении, муках (и в радости), которые суждены каждому? Не лицемерие ли рассматривать строгие теологические выкладки и тонкости религиозных догм, не веря в постулаты, на которых они основаны? Как читатель, я отстаиваю свое право верить в смысл повествования, независимо от его нюансов, не соглашаясь с тем, что на свете можно встретить фею-крестную или злого волка. Золушке и Красной Шапочке вовсе не обязательно быть в прошлом реальными персонажами, чтобы я признал их существование. Образы Бога, ходящего по саду «во время прохлады дня» (Быт 3, 8), и Бога, в крестных муках посулившего Рай разбойнику, остаются для меня просветительскими в том смысле, в каком это свойственно только великой литературе. Без сюжетов любая религия свелась бы к обычному назиданию. Сюжеты убеждают.
Искусство чтения во многом противоположно искусству писания. Чтение – мастерство, которое обогащает текст, придуманный автором, углубляет его, делает более сложным, ориентирует на отражение личного опыта читающего и расширяет до самых дальних границ читательской вселенной, а то и выводит за их пределы. Письмо же, напротив, – искусство смирения. Писатель должен принять тот факт, что окончательный текст окажется лишь расплывчатым отражением задуманного им труда, менее поучительным, менее тонким и пронзительным, менее определенным. Воображение писателя всемогуще и способно порождать самые необычные творения во всем их желанном совершенстве. Когда же приходится снизойти до языка и обратиться от замысла к выражению, многое, очень многое теряется. Вряд ли из этого правила есть исключения. Написать книгу – значит обречь себя на неудачу – пусть и достойную, насколько достойной может быть неудача.
Осознавая собственную гордыню, я вдруг подумал, что по примеру Данте, которого в странствии сопровождали Вергилий, Стаций, Беатриче и святой Бернард, мне следует взять в проводники самого Данте, чтобы его вопросы задавали направление моим собственным. Хоть Данте и предостерегал тех, кто в «челне зыбучем» пытается следовать курсу его корабля, призывая их скорее возвращаться к своим берегам, чтобы не потеряться[22]22
Ср.: «O voi che siete in piccioletta barca, / desiderosi d’ascoltar, seguiti / dietro al mio legno che cantando varca, // tornate a riveder li vostri liti» (Par., II, 1–4; «О вы, которые в челне зыбучем, / Желая слушать, плыли по волнам / Вослед за кораблем моим певучим, / Поворотите к вашим берегам!»).
[Закрыть], я все же верю, что он не откажет в помощи попутчику, которого переполняет столь радостное «dubbiar».









































