Текст книги "Curiositas. Любопытство"
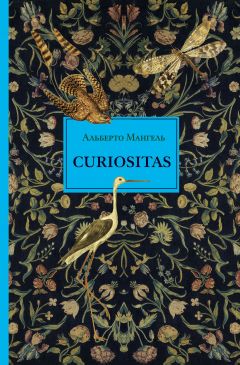
Автор книги: Альберто Мангель
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Об эстетике потустороннего нам известно мало, зато в нашем мире каждый созданный инструмент и все, что будет им создано, подчинено эстетическим и утилитарным принципам. Все от начала до конца: когда красные кхмеры превратили одну из школ Пномпеня в так называемую «тюрьму безопасности», где были замучены и убиты более двадцати тысяч человек, власти сочли «неэстетичным» цвет здания; поэтому стенам придали мягкий бежевый тон[140]140
м.: N. Dunlop The Lost Executioner: A Journey to the Heart of the Killing Fields. N. Y.: Walker, 2005. P. 82.
[Закрыть].
Эстетика и утилитарность влияют также на формы языкового выражения. Наиболее древний образчик письменности, дошедший до нас, датируется IV тысячелетием до н. э.: это шумерская глиняная таблица из города Урука, где будет править царь Гильгамеш; на таблице – колонки клинописных знаков, разделенные глубокими насечками. Нашим романтичным натурам придется смириться с тем, что первые письменные тексты создавались не руками поэтов – их составляли счетоводы: древняя шумерская таблица содержала не любовные стихи, а реестр купли-продажи зерна и скота земледельцами, чей прах давно уже истлел. Можно предположить, что для читавших такой список он одновременно представлял собой практический интерес и был при этом, в некотором смысле, непризнанным образчиком прекрасного. Для тех из нас, кто не может расшифровать смысл, это качество выступает на первый план.
Письменный язык, служащий различным целям и подчиненный разнообразным эстетическим нормам, со временем распространился в мире практически повсеместно. Шумерское государство и Вавилон, Египет, Греция и Рим, Китай и Индия развивали собственную систему письма, повлиявшую, в свою очередь, на другие культуры Юго-Восточной Азии, Эфиопии и Судана, на культуру эскимосов. Однако были народы, находившие иные методы, чтобы придать словам зримое воплощение. Во многих частях света письмо представляет собой не написанные пером или вырезанные знаки, а другие семантические единицы: на юге Суматры это бамбуковые планки, у аборигенов Австралии – послание в виде палки, это также венок из прутьев на островах Торресова пролива, пояса из раковин у ирокезов, деревянная доска lukasa у народа луба в Заире. Из этого следует, что каждой из «иных» форм письменности должно соответствовать нечто аналогичное искусству книгопечатания, со своей особой эстетикой и принципами чтения. Подобные «публикации» – не обязательно печатные, но они влияют на передачу смысла в словах и оформляют ее точно так же, как шрифты Гарамона и Бодони видоизменяют тексты, написанные на английском, итальянском или французском языках.


Фонетический перевод кипу. Расписанная вручную цветная иллюстрация из книги Раймондо ди Сангро Carta Apologetica dell’ Esercitato Accademico della Crusca (Неаполь, 1750)
В 1606 году в Мадриде появилась любопытная книга, названная «Comentarios reales»[141]141
Си.: Inca Garcilaso de la Vega Comentarios reales // Obras completas del Inca Garcilaso de la Vega. Madrid: Colección Rivadeneira, 1960.
[Закрыть]. В заглавии обыгрывались оба значения испанского слова real – «монарший» и «существующий в реальности»: Comentarios претендовали на статус подлинных хроник перуанской империи инков. Автор, потомок испанского капитана и инкской принцессы, подписал свою книгу: Инка Гарсиласо де ла Вега, обозначив принадлежность к обеим ветвям. В отцовском доме в Куско он воспитывался наставниками-испанцами, которые занимались с мальчиком латинской грамматикой и физическими упражнениями, но в то же время родня матери научила его говорить на кечуа – языке, распространенном в Перу. В двадцать один год он отправился в Испанию, где впервые попробовал себя на литературном поприще, выполнив перевод «Диалогов о любви» неоплатоника Иегуды Абрабанеля (известного также как Леон Эбрео). Он мечтал о признании в качестве правдивого историографа, знатока инкской культуры, и вторую часть своих хроник истории инков, через одиннадцать лет после первой, назвал Historia general del Perú («Общая история Перу»).
В «Comentarios reales» Инка Гарсиласо подробно описывает обычаи, верования и принципы правления инков, а также их язык, устный и письменный. В одной из глав рассматривается система кипу («узел» на языке кечуа), которая, по словам автора, служила главным образом для подсчетов. При изготовлении узлов инки пользовались нитями различных цветов, которые заплетали, завязывали и иногда закрепляли на специальном стебле. Цвета символизировали понятийные категории (желтый – золото, белый – серебро, красный – воины), а узлы соответствовали десятичной системе, вплоть до десяти тысяч. Все, что не различалось по цвету, ранжировалось по степени важности от наиболее к наименее значимому. Например, при перечислении оружия сначала шло наиболее благородное – копья, затем – луки и стрелы, дубинки и топоры, пращи и так далее. Списки на кипу доверяли регистраторам или публичным чтецам, которых называли quipucamaya, что означает «хранитель счетов». Во избежание злоупотреблений инки позаботились о том, чтобы во всех городах, даже в небольших, трудилось достаточно много таких хранителей: тогда, по словам Гарсиласо, «пришлось бы подкупать их всех, или никого»[142]142
Ibid. P. 67.
[Закрыть].
Инка Гарсиласо де ла Вега скончался в Кордове, в Испании, в 1616 году; он попытался примирить основы исчезающей культуры его предков со стороны матери и доминирующей культуры сородичей отца. Спустя почти столетие, в 1710 году, в городке Торремаджоре родился Раймондо ди Сангро, будущий князь Сансеверо, наследник двух самых знатных семей Неаполитанского королевства. За шестьдесят лет жизни он перепробовал столько необычных занятий, что перечислить их все практически невозможно[143]143
Все сведения о Сансеверо взяты из превосходного издания его «Апологетического послания», переведенного на испанский язык: Raimondo di Sangro Carta Apologética / ed. J. E. y L. A. Burucúa. Buenos Aires: UNSAM Edita, 2010.
[Закрыть]. Он начал свою калейдоскопическую деятельность в качестве военного историка с составления «Энциклопедического словаря военного искусства» – и, увы, остановился на букве «о». Интерес к военному делу подтолкнул его к экспериментам с порохом и пиротехникой, и в этой сфере он сумел получить ранее недоступные в палитре фейерверков оттенки зеленого: цвет морской волны, насыщенно-изумрудный и оттенок свежей травы. Благодаря этим открытиям он придумал так называемый «пиротехнический театр», в котором с помощью фейерверков создавались меняющиеся сцены, изображавшие храмы, фонтаны и изысканные пейзажи. Огненные декорации пробудили в Сансеверо, который уже тогда жадно увлекся чтением, интерес к разработке печатных шрифтов; благодаря неувядающей изобретательности он также придумал способ печати цветных изображений в один прогон на медных листах и на полвека опередил Алоиза Зенефельдера с его литографиями.
В 1750 году Сансеверо установил в своем дворце в Неаполе первый в Неаполитанском королевстве печатный станок, шрифт для которого создали под его руководством Николя Коммарек и Никола Персико. Церковные власти не одобряли публикации Сансеверо, особенно книгу о неких тайных науках аббата Монфокона де Виллара, а также написанное английским памфлетистом Джоном Толандом слово в защиту Ливия и его сочинений, обличающих суеверие. В результате через два года было приказано зачехлить станок. Чтобы обойти запрет, хитроумный Сансеверо подарил и станок, и шрифт его величеству Карлу III: подарок положил начало основанному королем Неаполитанскому печатному двору.
Печатный пресс оказался не последней затеей Сансеверо. Рукописи и иностранные книги, которые он внимательно прочитывал в поисках материала для возможных публикаций, пробудили в нем интерес к искусству алхимии; алхимические эксперименты по сотворению жизни вдохновили его на создание тонких автоматических механизмов; создавая эти механизмы, он стал изучать механические технологии, металлургическую науку, минералогию и химию. В 1753 году в лаборатории Сансеверо случился пожар, не утихавший шесть часов; в результате князь объявил, что изобрел «лампу непрерывного и нескончаемого свечения», в которой горит смесь из толченых человеческих черепных костей с порохом.
В результате других случайных сочетаний появлялись новые «чудесные изобретения»: непромокаемая одежда, гобелен – не тканый, а созданный путем наложения нитей по принципу масляной живописи, с тщательно проработанными деталями; кроме того – немнущееся полотно и бумага из растительного шелка, идеально подходящая для рисования и письма; предложен был также способ очистки меди, при котором не требуется полировка и не остается царапин, а также технология производства тончайших латунных листов, каких раньше никто не делал, метод изготовления полупрозрачного фарфора и тончайшего хрусталя, прием для окрашивания стекла без нагрева, несмываемые пастельные карандаши, не нуждавшиеся в закрепителе, искусственный воск и «масляно-водяные» краски – они походили на привычное масло, но для них не требовалось предварительно готовить холст или деревянную основу. Сансеверо изобрел также аппарат для опреснения морской воды, и еще один, для изготовления фальшивых агатов и лазурита – с его помощью он обвел вокруг пальца многих именитых ювелиров. Он научился закалять мрамор, так что скульпторы могли стачивать его до необычайной тонкости, создавая прозрачные покрывала и изящное кружево из камня. Еще он построил два анатомических механизма, которые до сих пор можно видеть в семейной крипте Сансеверо в Неаполе: они воспроизводили кровеносную систему мужчины и женщины – от сердца до тончайших сосудов. Среди наиболее причудливых творений были «самобраный» стол, при котором не нужны были слуги, и морская колесница, украшенная пробковыми лошадьми, преодолевавшая немалые расстояния по волнам Неаполитанского залива.
Люди стали подозревать, что сам дьявол помогает Сансеверо в его изобретениях; ходили слухи, что он готовит варево, напоминающее кровь, а еще – что он будто бы сумел воскресить речных крабов, обуглившихся в камине. Говорили, что он, как Парацельс, может воссоздать сожженную розу. Позже неаполитанцы поверили, будто князь собственноручно лишил себя жизни, научив прежде слуг, чтобы те провели обряд воскрешения, который прервала его благочестивая жена, напуганная таким святотатством. Мертвец успел только ступить из гроба, издал жуткий вопль и рассыпался в прах.
Среди книг, вышедших из-под печатного пресса Сансеверо в 1750 году, когда станок был отлит, особенно привлекает «La Lettera Apologetica», «Апологетическое послание», сочинение самого князя, дополненное великолепными цветными иллюстрациями. В «Послании» рассказывается о системе кипу, придуманной древними инками. Наш пытливый князь, которому все было интересно, узнал о кипу из книг Инки Гарсиласо, но также читал иезуитский трактат, посвященный языку инков, с цветными изображениями различных узлов и комментариями, пояснявшими их значение. Видел он и оригинал: настоящее плетение кипу, привезенное из испанских колоний. Книги и образец кипу попали в руки к одному монаху-иезуиту, который прежде побывал в Новом Свете, а в 1745 году продал и то и другое князю.
Два года спустя, в 1747-м, некая мадам Франсуаза де Граффиньи, француженка и сущий синий чулок, решив последовать моде на эпистолярные романы, начавшейся с «Персидских писем» Монтескье, опубликовала свои «Письма перуанки». Граффиньи рассказывает любовную историю двух отпрысков инкской знати – Зилии и Азы, которые должны пожениться. Зилию похищают испанские солдаты, и, чтобы сообщить жениху о своей печальной судьбе, она тайно посылает ему из темницы письма в виде узелков кипу, сплетенных из цветных нитей, моток которых она всегда носит с собой. Несчастную Зилию похитители забирают в Европу, где она продолжает плести узлы, но не может переправить их Азе через океан. В конце романа моток заканчивается, и ей приходится освоить европейское искусство письма чернилами, чтобы поток любовных писем мог продолжаться.
Сансеверо не сомневался, что в империи инков действительно существовала полноценная система письма, основанная на плетении узлов, но в Европе эпохи Просвещения подобные «неевропейские» изобретения, не сочетавшиеся с западной традицией, воспринимались более чем скептически. Князю не терпелось устроить полемику и доказать очевидные для него аутентичность и практическую пригодность кипу, но ему не удавалось найти (или не хотелось искать) подходящий критический отзыв, так что он придумал разгромную рецензию на роман мадам Граффиньи, приписав ее авторство некоей приятельнице, герцогине С***. И направил свои копья на этот фальшивый опус, настойчиво призывая герцогиню С*** в конце своего «Апологетического послания» самой стать quipucamaya, то есть заняться «плетением историй», и следующую свою книгу создать в виде узелков кипу.
Наряду с прочими темами «Послания», витиеватые аргументы Сансеверо со множеством отступлений, написанных восхитительно сложным языком, касаются всеобщих истоков языка, изобретения письменности, скрытых библейских истин, понятия «Каиновой печати», многовековых поэтических традиций империи инков и содержат подробный анализ некоторых текстов на кипу, оказавшихся в распоряжении автора: репродукция одного из них, с переводом, есть в книге Гарсиласо.
Начинает Сансеверо с предположения, что кипу можно было читать – то есть в основе плетения был код, позволявший передавать как числа, так и слова через систему цветных узлов. На полвека предвосхитив открытие Шампольона, Сансеверо сначала выделил около сорока ключевых слов, часто употреблявшихся на языке кечуа: например, «слуга», «принцесса», «божественный создатель» и им подобные: инкские поэты наверняка диктовали их вязальщикам, которые плели кипу. Сансеверо рассчитывал вывести из этих основных понятий определенные базисные конструкции, используемые в кипу и соответствующие языковым знакам.
Вот пара примеров. Понятие «божественный создатель» на кечуа выражено словом pachacamac. Сансеверо утверждал, что ключевым знаком при этом будет желтый узел, символизирующий немеркнущий свет Творца. В этот узел вплетены четыре нити различных цветов: красная – огонь, синяя – воздух, коричневая – земля, изумрудная – вода. Причем тот же центральный знак может означать слово «солнце» (ynti на кечуа), только у него уже не будет четырех разноцветных нитей, зато будут несколько желтых, направленных изнутри наружу.
Испанскому слову ñandú, которым обозначают южноамериканскую бескрылую птицу, на кечуа соответствует suri: на кипу она будет изображаться теми же узлами, какими обозначают человека, но расстояние между ними будет больше – это показывает, что у птицы длинная шея.
Сансеверо считал, что поэты инков могли записывать и прочие необходимые слова, разделяя их на слоги, которые они затем отыскивали в одном из ключевых слов. За таким словом следовали узлы меньшего размера, указывавшие, какой слог имеется в виду. Например, если слово начиналось со слога su, завязывали узел, соответствующий слову suri, а за ним – еще один небольшой узел. Если вторым слогом в слове оказывался mac, появлялся узел pachacamac и следом еще четыре малых узла. В результате складывается слово sumac – с него начиналось стихотворение, процитированное в «Comentarios reales».
29 февраля 1752 года августинианец Доменико Джорджи внес «Апологетическое послание» в католический «Свод запретных книг», усмотрев в тексте связь с каббалой и насмехательство над истинной верой. Отец Джорджи обнаружил, что трактовка Сансеверо и аргументы в пользу кипу применимы к языческим египетским иероглифам, пифагорейским числам у розенкрейцеров и сфирот каббалистов. Каббалисты, по утверждению монаха, называют Бога братом и сравнивают Всевышнего и сотворенного им Адама с узлами, завязанными на одной нити. Кипу, – настаивал отец Джорджи, – воплощение этих страшных богохульств в Новом Свете. Год спустя Сансеверо опубликовал опровержение, защищавшее «Апологетическое послание». Его доводы сочли неубедительными, и Святейший престол оставил запрет в силе. 22 марта 1771 года Раймондо ди Сангро, князь Сансеверо, скончался в Неаполе, так и не постояв за свой труд.
Для современного читателя «Апологетическое послание» Сансеверо остается загадкой. Несомненно, разнообразие, изобретательность, искусность и красота письма кипу поражают воображение. Как и в традиционном западном книгопечатании, искусство кипу, передавая смысл содержащегося внутри текста, остается прежде всего визуальным искусством и, как любое письмо, рождается из образов[144]144
Это верно как для «письменных», так и для «устных» обществ. «Любое общество, которое принято считать „устным“, пользуется двумя различными, параллельно существующими коммуникационными системами: одна основывается на языке, другая на зрении» (A.-M. Christin L’Image écrite ou la déraison graphique. P.: Flammarion, 1995. P. 7).
[Закрыть]. Письмо не воспроизводит произнесенное слово, но делает его зримым. Однако кодом к прочтению зримых знаков должны владеть все члены общества, к которому принадлежит автор. «Типографика, – пишет канадский поэт Роберт Брингхерст во введении к своему руководству по книгопечатанию и оформлению книг, – развивается как поле общности различных интересов – и нет таких путей, где не пересекались бы желания и намерения»[145]145
R. Bringhurst The Elements of Typographic Style. Vancouver: Hartley and Marks, 1992. P. 9. Перевод Г. Северской.
[Закрыть]. Сегодня империя инков ушла далеко в прошлое, и нам недостает ключей, которые помогли бы понять, какие «желания и намерения» были ей присущи; приходится лишь предполагать, что дошедшие до нас примеры кипу несут в себе черты, их читатель легко различал: изящество или тяжеловесность, ясность или туманность, очевидную, но редкую оригинальность или, в большинстве случаев, заурядность – если изящество, ясность и оригинальность относились к тем свойствам, которые инки при чтении видели и ценили.
Некоторые ученые придерживаются мнения, что предложенная Сансеверо идея силлабического, то есть слогового, метода прочтения кипу навеяна не столько лингвистической наукой, сколько ребусами и шарадами, популярными в европейской периодике восемнадцатого века[146]146
См.: M. and R. Ascher Code of the Quipu: A Study in Media, Mathematics and Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1981. P. 102.
[Закрыть]. Они полагают, что кипу – всего лишь система счета (пусть даже крайне усложненная) и средство запоминания, аналоги которого использовались народами обеих Америках от побережья Британской Колумбии до вершин южных Анд. И действительно, сегодня в некоторых районах Перу кипу применяют исключительно для хранения числовой информации, но в ряде испанских документов колониальных времен говорится о quipucamaya, которые, пользуясь узлами как памятками, подолгу пересказывали хроники, зачитывали поэтические тексты и таким образом хранили фактологическую память о событиях прошлого. В других культурах поэтам для той же цели служили рифмы и аллитерация.
В обществе инков система кипу была также средством, способствовавшим поддержанию порядка. «Войны, жестокости, грабежи и тирания, творимые испанцами, были таковы, что если бы индейцы к тому моменту еще не прониклись идеями порядка и провидения, они все бы погибли», – писал Педро Сьеса де Леон в 1553 году. После того как «прошли испанцы», – продолжает автор исторических хроник, вожди инков «собрались вместе с хранителями кипу, и если у кого-то потерь было больше, чем у других, те, кто отдал меньше, восполняли разницу, чтобы всем быть на равных»[147]147
P. Cieza de León Crónica del Perú: Cuarta parte / ed. L. Gutiérrez Arbulú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú y Academia Nacional de la Historia, 1994. Vol. 3. P. 232.
[Закрыть].
«Типографика для литературы, – пишет Брингхерст, – то же, что музыкальное исполнение для партитуры: это важнейший акт интерпретации, полный бесконечных возможностей блеснуть проницательностью или, напротив, оскандалиться»[148]148
R. Bringhurst The Elements of Typographic Style. P. 19.
[Закрыть]. Правда, говоря о кипу, мы не знаем, что следует считать значимым, а что ведет в тупик, и прочтение – как в эстетическом, так и в герменевтическом аспектах – неизбежно будет сопряжено с множеством догадок. Быть может, не лишенных подоплеки, но все равно – догадок.
Тем не менее изредка в них может обнаруживаться ключ к пониманию некоторых (загадочных для нас) практических и эстетических смыслов, которыми руководствовались в империи инков мастера кипу. Известно, что, когда испанцы разграбили инкские города, великолепные золотые творения мастеров, которые они забрали из сокровищниц правителей и частных домов, были переплавлены в слитки, что упрощало дележ добычи. Сегодня на каменном перекрытии над входом в Музей золота в Боготе посетитель может прочесть следующие строки, обращенные туземным поэтом к испанским завоевателям: «Непостижимы слепота и безрассудство, с какими вы сокровища губили и в слитки превращали красоту».
Глава 5. Как мы задаем вопросы?
Я всегда знал, что думать мне помогают слова, сказанные кем-то другим. Цитаты (в том числе мнимые), отступления и тупиковые, казалось бы, повороты, процессы вникания и изучения, которые ведут нас по кругу или позволяют шагнуть вперед, – по мне все средства поиска хороши. Мне нравятся и Красная Шапочка, которая все норовит сойти с проторенной тропы, и Дороти, решившая следовать по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Притом что моя библиотека скомпонована по темам и по алфавиту, это сфера не столько порядка, сколько благого хаоса – как на тех волшебных блошиных рынках, где отыскиваются сокровища, которые никому, кроме вас, не дано обнаружить. Здесь есть всё, но пока не рассмотришь, не узна́ешь, что у тебя в руках. От узнавания один шаг к обретению.
Я всегда знал, что в моей библиотеке найдется ответ на любой вопрос. А если не ответ, то, по крайней мере, более удачная форма вопроса, которая подтолкнет меня вперед на пути к пониманию. Иногда я ищу какого-либо автора, или книгу, или нечто близкое мне по духу, но часто полагаюсь на волю случая: это превосходный библиотекарь. Средневековые читатели пользовались «Энеидой» Вергилия как книгой предсказаний – задавали вопросы и распахивали том в расчете на откровение; Робинзон Крузо практически так же использовал Библию, когда искал наставления в долгие минуты отчаяния. Любая книга может стать для «правильного» читателя оракулом, дающим временами ответ даже на незаданные вопросы, словно наполняя словами то, что Иосиф Бродский называл «тишиной». Необъятный оракул Интернет мне не так полезен; быть может, я просто никудышный навигатор в киберпространстве, но его ответы либо слишком буквальны, либо чрезмерно банальны.
В моей библиотеке, как раз на уровне вытянутой руки, стоят сочинения Бродского. В начале шестидесятых по сфабрикованному КГБ обвинению его дважды принудительно помещали в психиатрическую клинику, а позже отправили на север России, на поселение; там ему приходилось работать на совхозной ферме при температуре ниже тридцати градусов по Цельсию. Вопреки ужасным условиям и благодаря снисходительности инспектора, ему было разрешено отправлять и получать письма, и он написал (как сам позже скажет) порядочно стихотворений. Друзья присылали ему книги. Четыре поэта, которых он называл «уникальными душами», стали для него главными ориентирами: Роберт Фрост, Марина Цветаева, Константин Кавафис и У. Х. Оден. Именно Оден как-то назвал излюбленным образом Фроста покинутый обветшалый дом. В беседе с Бродским критик Соломон Волков замечает, что если в европейском поэтическом мышлении руина ассоциируется с войной или «ограбленной» природой, то у Фроста она становится «метафорой мужества, образом безнадежной борьбы человека за выживание». Бродский не ограничивает образ каким-либо однозначным толкованием, хотя соглашается с трактовкой Волкова; и все же он предпочитает, чтобы это знание где-то таилось и сразу не проявлялось. Для Бродского неубедительна любая оглядка на обстоятельства, сопровождающие творческий акт: нужно, чтобы текст мог звучать самостоятельно, увлекая и влюбляя в себя читателя. «Можно повторить обстоятельства: тюрьма, преследование, изгнание, – говорит он. – Но результат – в смысле искусства – неповторим. Не один Данте ведь был изгнан из Флоренции».
Годы спустя, будучи изгнан из России, зимой, прямо на улице, сидя за столиком в любимой им Венеции, он считывал лабиринты города на воде, так же как некогда в холодной северной российской глуши читал близких ему поэтов: словно именно так «жизнь говорит с человеком». В его стихах есть строки: «Город сродни попытке / воздуха удержать ноту от тишины».[149]149
S. Volkov Conversations with Joseph Brodsky: A Poet’s Journey Through the Twentieth Century / trans. M. Schwartz. N. Y.: Free Press, 1998. P. 139; J. Brodsky The Condition We Call Exile // On Grief and Other Reasons: Essays. N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1995. P. 33; J. Brodsky Venetian Stanzas. I // To Urania. N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1988. P. 90.
[Закрыть]
Часто поиск ответов на наиболее сложные вопросы начинается с увлеченного угадывания. До-бравшись до подножия горы Чистилища, Вергилий предупреждает Данте, что ему следует умерить свою любознательность, ибо не все доступно человеческому разумению.
Поистине безумные слова —
Что постижима разумом стихия
Единого в трех лицах естества!
О род людской, с тебя довольно guia;
Будь все открыто для очей твоих,
То не должна бы и рождать Мария.
Ты видел жажду тщетную таких,
Которые бы жажду утолили,
Навеки мукой ставшую для них.
В качестве пояснения Вергилий добавляет: «Средь них Платон и Аристотель были / И многие». Затем он склоняет голову и умолкает, ибо и сам был среди тех, кто пытался утолить эту жажду[151]151
«Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone. // State contenti, umana gente, al quia: / ché, se potuto aveste veder tutto, / mestier no era parturir Maria; // e disïar vedeste sanza frutto / tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’ etternalmente è dato lor per lutto» (Purg., III, 34–42); «Io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri» (Purg., III, 43–44).
[Закрыть].
Схоласты настаивали на приемлемости выводов: этот принцип считался достаточным, чтобы человеческое сознание с его ограниченными возможностями нашло почву для размышлений. Фома Аквинский ясно различал желание узнать, «почему…», и выяснить, «что…». «Доказательство бывает двоякого рода, – писал он в «Сумме теологии». – Одно – через причину, оно называется доказательством propter quid […]. Другое – через действие [причины], оно называется доказательством quia». Иными словами, не спрашивайте, почему нечто существует, просто, изучая его существование, начните с ответа потому. Фрэнсис Бэкон подойдет к вопросу человеческой любознательности с иных позиций: «Начав с вещей достоверных, – возражал он, – человек непременно придет к сомнению; но, довольствуясь вначале сомнением, он придет к тому, что достоверно»[152]152
Thomas Aquinas Summa Theologica / trans. Fathers of the English Dominican Province. Notre Dame, Ind.: Christian Classics, 1981. Vol. 1. P. 12. Перевод В. Гайденко; F. Bacon The Advancement of Learning // The Advancement of Learning and New Atlantis / ed. A. Johnston. Oxford: Oxford University Press, 1974. P. 35.
[Закрыть].
Если мы что-либо исследуем, думаем, рассуждаем, доказываем, язык, безусловно, – наш основной инструмент. Словно из потребности убедиться, что вместе с утратой привычного ему мира он не утратил язык, оказавшись в изгнании, Данте практически сразу начал писать трактат «De vulgari eloquentia», посвященный народной речи и ее употреблению в лирической поэзии. Мы уже упоминали свидетельство Боккаччо о том, что Данте, по всей видимости, начал писать «Божественную комедию» на латыни, но затем перешел на флорентийский диалект. Очевидно, «De vulgari eloquentia» также не случайно пишется на строгой латыни, языке схоластов: поэту казалось, что «ученое» средство поможет ему глубже вникнуть в считавшийся вульгарным язык. Несколько столетий этот текст почти никто не читал: сохранились лишь три средневековые рукописи, а печатный экземпляр появился только в 1577 году.
«De vulgari eloquentia» начинается с дерзкого утверждения: народное красноречие, которому младенцы учатся у старших поколений, благороднее искусственной «правильной» речи, усваиваемой в учении. В подтверждение этому Данте прослеживает историю языка от библейских времен до современной ему эпохи. Первым наречием на земле, – утверждает Данте, – богоданным подарком, позволившим человечеству общаться между собой, был древнееврейский язык; первым заговорил на нем Адам. Но после самонадеянной попытки построить Вавилонскую башню этот исконный язык, единый для всех, в наказание был разъят на множество других: это мешало общаться и создавало путаницу. Этим наказание не ограничилось: язык разделяет нас не только с современниками, представляющими другие народы, но также с нашими предками, которые говорили совсем не так, как мы сегодня.
К концу своего странствия, достигнув Сферы звезд, Данте встречает душу Адама, признающего: «…Не вкушение от древа, / А нарушенье воли божества / Я искупал, и искупала Ева». Далее поэт начинает задавать вопросы, которые долгое время будут смущать его современников. Сколько длилось пребывание Адама в Раю? Сколько потом он прожил на земле? И сколько провел в лимбе, прежде чем Христос призвал его к себе? Наконец, на каком языке говорил Адам в Раю? На этот вопрос Адам отвечает:
Язык, который создал я, угас
Задолго до немыслимого дела
Тех, кто Немвродов исполнял приказ;
Плоды ума зависимы всецело
От склонностей, а эти – от светил,
И потому не длятся без предела.
Естественно, чтоб смертный говорил;
Но – так иль по-другому, это надо,
Чтоб не природа, а он сам решил[153]153
«Non il gustar del legno / fu per sé la cagion di tanto esilio, / ma solamente il trapassar del segno» (Par., XXVI, 115–117); «La lingua ch’io parlai fu tutta spenta / innanzi che a l’ovra iconsummabile / fosse la gente di Nembròt attenta: // ché nullo effetto mai razïonabile, / per lo piacere uman che rinovella / seguendo il cielo, sempre fu durabile. // Opera naturale ’ch’uom favella; / ma cosí o cosí, natura lascia / poi fare a voi secondo che v’abbella» (Par., XXVI, 124–132).
[Закрыть].
После завершения работы над «De vulgari eloquentia» представления Данте о происхождении языка изменились. В трактате он полагал, что даром речи и одновременно языком, на котором Адам мог изъясняться, его наделил Бог. В «Божественной комедии» Адам говорит, что если речь действительно была дарована ему свыше, то свой язык создал он сам, и это был первый человеческий язык, забытый еще до Вавилонского столпотворения. Но каким был этот праязык? Приводя в качестве примера именования Бога до и после грехопадения, Адам использует древнееврейские слова: сначала было имя, которое произносилось как jah, затем – «Эль», что значит «Бог»[154]154
См.: Ibid. P. 132–138.
[Закрыть]. Отсюда читатель должен сделать вывод, что в Раю говорили на древнееврейском наречии.
В «De vulgari eloquentia» Данте пытается обосновать избранность этого языка. Бог даровал Адаму своего рода forma locutionis, «форму речи». «Этой формой речи говорили все его потомки вплоть до строения башни Вавилона, что означает башню смешения; эту форму речи унаследовали сыны Евера, называемые поэтому Евреями. После смешения она сохранилась только у них, дабы Искупитель наш, вознамерившийся из человеколюбия родиться у них, пользовался не языком смешения, но благодати. Итак, еврейский язык был тем, какой издали уста первого говорящего»[155]155
Dante Alighieri De vulgari eloquentia / ed. e trad. Vittorio Coletti. Milano: Garzanti, 1991. P. 14–15.
[Закрыть].
Но фрагментарных следов этого праязыка, обрывков лингвистических форм, перенятых потомками Адама, было недостаточно для выражения мыслей и откровений, которые рождались в умах людей и которые они хотели передать другим. Требовалось создать систему, которая позволила бы одаренному поэту, независимо от доступного нам языка (для Данте это был флорентийский диалект), приблизиться к утраченному совершенству и восстать против вавилонского проклятия.
В иудео-христианской традиции слова́ суть начало всего. Как утверждают толкователи Талмуда, за две тысячи лет до сотворения небес и земли Бог наполнил сущностью семь основ: свой божественный престол; рай, расположенный справа от него; ад – слева; небесный алтарь – напротив; драгоценный камень с высеченным на нем именем Мессии; голос, зовущий из мрака: «Возвратитесь, сыны человеческие!» (Пс 89, 3); и Тору, начертанную черным огнем по белому. Среди семи основ Тора возникла первой: к ней-то и обратился Бог перед тем, как создать этот мир. Идею творения Тора одобряла, хоть и неоднозначно – в ней предвиделась греховность земных созданий. Узнав, в чем состоит всевышний замысел, буквы алфавита сошли с державной короны, на которой были выписаны огненным пером, и каждая поочередно говорила Создателю: «Через меня твори мир! Через меня твори!» Из двадцати шести букв Бог выбрал бет, первую букву в слове барух (благословенный): и так, через букву бет, мир стал сущим. Толкователи добавляют, что одна только скромная буква алеф ни о чем не просила; в награду за смирение Бог поставил ее во главе Декалога[156]156
См.: L. Ginzberg The Legends of the Jews. / trans. H. Szold. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998. Vol. 1: From the Creation to Jacob. P. 5–8.
[Закрыть]. По прошествии многих лет святой Иоанн Богослов, спешивший обобщить ход этих долгих событий, объявляет: «В начале было Слово». Из этого древнего представления вытекает метафора, изображающая Бога творцом, а мир – книгой: эту книгу мы пытаемся читать, но при этом сами в нее вписаны.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































