Текст книги "Curiositas. Любопытство"
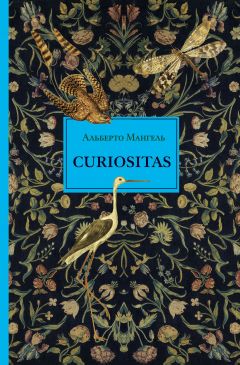
Автор книги: Альберто Мангель
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В первых десятилетиях V века до н. э., вероятно, после 421 года, когда установился хрупкий мир со Спартой, в Афины прибыл известный философ из Элиды, города-государства на северо-западной оконечности Пелопоннесского полуострова, славного своими лошадьми, а также тем, что именно там тремя веками ранее были устроены первые Олимпийские игры. Философа звали Гиппий, он был знаменит необыкновенной памятью (мог запомнить больше пятидесяти имен, прослушав их всего один раз), а также тем, что за достойную плату обучал всех желающих астрономии, геометрии, арифметике, грамматике, музыке, метрике, премудростям генеалогии, мифологии, истории и, разумеется, философии[108]108
См.: W. K. C. Guthrie A History of Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. Vol. 3. P. 282.
[Закрыть]. Ему также приписывают открытие свойств кривой и, в частности, квадратрисы, которая используется при вычислении квадратуры круга и для трисекции угла[109]109
См.: G. B. Kerferd The Sophistic Movement. P. 38.
[Закрыть]. Гиппий читал жадно и был любознательным читателем; он составил своеобразную антологию полюбившихся ему фрагментов, которую озаглавил «Synagoge» («Сборник»). Он также составлял декламационные сборники творений классических поэтов и предлагал зачитывать их при каждой возможности – вероятно, эти поэтические сочинения поднимали высокие вопросы нравственности. Мы вынуждены говорить «вероятно», поскольку из всего обширного наследия Гиппия до нас дошли лишь редкие цитаты в трудах его критиков: Плутарха, Ксенофонта, Филострата и прежде всего Платона[110]110
См.: The Greek Sophists / ed. and trans. J. Dillon and T. Gregel. Harmondsworth, U. K.: Penguin, 2003. P. 119–132.
[Закрыть].
Платон сделал Гиппия главным собеседником Сократа в двух своих ранних диалогах, получивших, сообразно их объему, названия «Hippias Minor» (или «Гиппий меньший») и «Hippias Major» («Гиппий больший»). В обоих портрет Гиппия не выглядит лестным. Не слишком симпатизируя персонажу, Платон заставляет Сократа с некоторым лукавством обратиться к Гиппию в поисках решения сущностных вопросов справедливости и истины, хотя совершенно ясно, что у Гиппия ответов на них нет. Силящийся ответить Гиппий изображен формалистом и бахвалом, который кичливо заявляет: «Я никогда ни в чем не встречал никого мне равного» и готов решить любую предложенную загадку (как делал, по слухам, на празднестве в Элладе)[111]111
Plato Lesser Hippias // The Collected Dialogues of Plato / ed. E. Hamilton and H. Cairns. Princeton: Princeton University Press, 1973. P. 202. Перевод С. Шейнман-Топштейн.
[Закрыть]; это падкий на лесть, но в то же время удивительно наивный и доверчивый человек. По словам У. К. Ч. Гутри, Гиппий явно был из тех, «на кого трудно разозлиться»[112]112
W. K. C. Guthrie The Greek Philosophers from Thales to Aristotle. L.: Routledge, 1960. P. 66.
[Закрыть]. Поскольку он преподавал за плату по всей Греции, его называли софистом, указывая тем самым не на принадлежность к течению или философской школе, а на род занятий – амплуа странствующего учителя. Сократ презирал софистов, выставлявших себя носителями знания и добродетели, – двух качеств, которые невозможно привить. Лишь избранным, по его мнению, и в основном благородного происхождения дано было познать науку добродетели и мудрости, да и то самостоятельно: Сократ считал большинство людей абсолютно неспособными научиться ни тому ни другому.
Разделение софистов и последователей Сократа было в значительной мере классовым. Платон принадлежал к аристократии и презирал странствующих учителей, которые всегда готовы были наняться к представителям развивающегося среднего класса нуворишей. Этот класс состоял из торговцев и ремесленников, которые благодаря новоприобретенным богатствам могли покупать оружие, а пройдя службу в пехоте – и политическую власть. Они стремились занять место прежней знати, и для этого им нужно было учиться произнесению убедительных речей в общественном собрании. Софисты за деньги брались прививать им необходимые навыки риторики. «О софистах, – писал И. Ф. Стоун, – в сочинениях Платона говорится с высокомерным презрением, ведь они брали плату. Поколения учителей-традиционалистов безоговорочно вторили ему, хотя не многие из них могли позволить себе учить бесплатно». Впрочем, не все софисты пользовались полученным гонораром. Были и те, кто раздавал деньги бедным ученикам, а некоторые, напротив, отказывались учить тех, кто казался им безнадежным. И все-таки за звонкую монету они, как правило, соглашались наставлять практически кого угодно и потому, по утверждению Ксенофонта, лишили себя мыслительной свободы и сделались рабами своих нанимателей[113]113
I. F. Stone The Trial of Socrates. Boston: Little, Brown, 1988. P. 41–42; См.: H. Sidebottom Philostratus and the Symbolic Roles of the Sophist and the Philosopher // Philostratus / ed. E. Bowie and J. Elsner. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 77–79.
[Закрыть].
Надо сказать, что Сократ и его последователи осуждают не всех софистов прошлого и настоящего, а лишь своих современников. Против них выдвигались не только аргументы общественного и философского содержания, но также обвинения в искажении истины. Ксенофонт высказался так: «Я изумлен тем, что люди, зовущиеся софистами, утверждают сегодня, будто часто вели молодых к добродетели, хотя на деле поступали наоборот. <…> Они прививали им ловкость в обращении со словами, но не с мыслями»[114]114
Xenophon On Hunting. Цит. По: J. de Romilly Les Grands Sophistes dans l’Athène de Périclès. P.: Éditions de Fallois, 1988. P. 55.
[Закрыть].
Софистов также критиковали за их утрированные манеры и напускную многозначительность. Во II веке н. э. восхищавшийся ими Филострат с Лемноса, автор апологетического труда «Жизнеописания софистов», настаивал, что истинный софист может держать речь только в месте, приличествующем его статусу: для этого подходит храм, или театр, или даже собрание, а также иное место, «достойное величавой аудитории». За мимикой и жестами надлежало тщательно следить. Лица софистов должны были выражать бодрость и уверенность, но также и серьезность, взгляду полагалось оставаться спокойным и проницательным, хотя выражение могло меняться в зависимости от темы выступления. В минуты наибольшего напряжения софист мог расхаживать взад-вперед, раскачиваться из стороны в сторону, ударять себя по бокам и возбужденно встряхивать головой. Софисту следовало быть предельно опрятным и пользоваться тончайшими благовониями; полагалось ухаживать за бородой, изысканно ее завивать, со вкусом подбирать одежды. Представитель предыдущего поколения Лукиан Самосатский в своем сатирическом опусе «Учитель красноречия» дает софисту совет: «Платье должно быть у тебя цветистое или белое, из тонкой, тарентской выделки, ткани, чтоб сквозь нее просвечивало тело; на ногах – аттические женские полусапожки с вырезом или сикионские башмачки, бросающиеся в глаза своим белым войлоком. Пусть за тобой следует толпа народу, – непременно держи книжку в руке»[115]115
Филострат цит. по: H. Sidebottom Philostratus and the Symbolic Roles of the Sophist and the Philosopher. P. 80; Lucian of Samosata The Rhetorician’s Vade Mecum // The Works of Lucian of Samosata / trans. H. W. and F. Fowler. Oxford: Oxford University Press, 1905. P. 52. Перевод Н. Баранова.
[Закрыть].
Сократ, при всей своей вере в справедливость и истину, не верил в людское равенство. Софисты (притом что опрометчиво приписывать единую точку зрения всем собравшимся под знаком софистики) в него верили. Некоторые, как Алкидамант, дошли до того, что поставили под сомнение институт рабства – этого не делали ни Сократ, ни его ученики, равно как не оспаривали они и то, что право на власть должно принадлежать избранным просвещенным умам. Гиппий, напротив, исповедовал своего рода космополитизм, идею всеобщей солидарности, оправдывавшую даже противостояние государственному праву во имя упрочения связей между людьми. На его представления могла повлиять атмосфера терпимости к чужеземным культам, практиковавшимся в Дельфах: в результате в эпоху Александра греки и «варвары» смешались, а греческий полис, дорогой сердцу Платона, распался[116]116
См.: M. Untersteiner I sofisti. Milano: Mondadori, 2008. P. 280.
[Закрыть]. Для Гиппия законы, ссохраняемые только по традиции, лишены значимости, ведь они противоречивы и допускают неправомерные деяния; впрочем, законы природы, будучи всеобщими, со временем могут стать законами демократической политической жизни. Гиппий защищал неписаные законы вместо писаных и выступал за благоденствие индивида в благоденствующей общине. Читая «Государство» Платона, который ни одно из существующих и рассматриваемых государственных устройств в итоге не назовет идеальным, понимаешь, что Сократ (платоновский Сократ) верит в общество, управляемое не демократическими законами, а философствующими тиранами, с детства обученными быть «мудрыми и достойными»[117]117
Plato The Republic // Collected Dialogues of Plato. P. 701–703. Перевод А. Егунова.
[Закрыть].
Периклу, жившему за полвека до Платона и Гиппия, понадобился совсем короткий срок, чтобы почти чудесным образом создать в Афинах атмосферу политической и интеллектуальной свободы, а также эффективную систему управления: даже план возведения новых сооружений на Акрополе, по его замыслу, был ответной мерой на рост численности незанятого населения. После ухода Перикла каждый афинский гражданин мог рассчитывать на то, что его голос при ведении государственных дел будет учтен, если сам он окажется достаточно искусен в риторике и логике. Подобное идеальное общество привлекало граждан других полисов: одни бежали от тирании, другие искали применение своим талантам, третьи хотели свободно и с выгодой для себя торговать. Среди иммигрантов были и софисты. В отличие от Афин, Спарта под предлогом сохранения моральных устоев и государственных тайн систематически изгоняла жителей-чужеземцев из своих пределов. Афинам же спартанская ксенофобия никогда не была присуща, хотя афинян точно так же могли изгнать и даже приговаривали к смерти тех, кто противился афинскому образу жизни, – например, Сократа.
В диалоге «Протагор», который написан Платоном в середине жизни, софист, носящий это имя, критик Гиппия и друг Перикла, восхищенный установленными им порядками, пересказывает Сократу миф, чтобы иллюстрировать свою концепцию действенной политической системы. Объясняя, как запальчивые по натуре граждане научились мирно уживаться, Протагор говорит, что во времена, когда постоянные раздоры угрожали погубить весь человеческий род, Зевс отправил на землю Гермеса с двумя дарами, благодаря которым люди получали шанс жить вместе в относительной гармонии: это aidos, или чувство стыда, которое испытывает предатель на поле боя, и dike, чувство справедливости и уважение к правам других. Вместе они составляют сущность искусства политики. Гермес спросил, наделять ли ему этими дарами лишь избранных – тех, кто уже освоил другие искусства, – или же искусство политики должно быть даровано всем. «Всем, – сказал Зевс, – пусть все будут к ним причастны; не бывать государствам, если только немногие будут этим владеть». Сократ оставляет рассказ Протагора без ответа. Он саркастически называет миф «речью, достойной [софиста]» и меняет предмет беседы, дабы выспросить Протагора о том, считает ли он, что можно научить добродетели. Вопрос о демократии Сократом не ставится в принципе. Как и не рассматривается смысл понятия добродетели – предполагаемого предмета диалога[118]118
Plato Protagoras // Ibid. P. 319–320. Перевод В. Соловьева (с изменениями).
[Закрыть].
Если участники дискуссии в «Протагоре» уходят от разговора о добродетели как таковой, то «Гиппий меньший» – это диалог, в котором идет поиск определения правдивого человека, но не рассматривается вопрос, что вбирает в себя истина. Гиппий заканчивает рассказ, посвященный поэтам, и прежде всего – Гомеру. Один из слушателей спрашивает Сократа, выскажется ли он о столь впечатляющей речи, похвалит ли ее, возразит ли? Сократ признается, что у него возникли некоторые вопросы, и, с подозрительной кротостью обращаясь к Гиппию, говорит, будто ему ясно, отчего Гомер назвал Ахилла самым доблестным из людей, а Нестора – мудрейшим, но он не может понять, отчего Одиссей назван хитроумным. Разве Ахилл у Гомера не хитроумный? Гиппий отвечает, что это не так, и цитирует слова Гомера, из которых следует, что Ахилл, наоборот, честнейший простак. «Вот теперь, Гиппий, – отвечает Сократ, – я, кажется, понимаю, что ты говоришь: ясно, что многоликого ты почитаешь лживым»[119]119
Plato Lesser Hippias // Ibid. P. 202. Перевод С. Шейнман-Топштейн.
[Закрыть]. Завязывается спор о том, что лучше – быть лживым по умыслу или неумышленно. Сократ вынуждает Гиппия признать, что борец, падающий с умыслом, лучше того, кто делает это невольно, а певец, фальшивящий умышленно, лучше того, у которого напрочь нет слуха. Финал представляет собой непревзойденный образчик софистики:
Сократ: Ведь чинить несправедливость – значит поступать плохо, а не чинить ее – хорошо?
Гиппий: Да.
Сократ: Итак, более способная и достойная душа, когда она чинит несправедливость, чинит ее добровольно, а недостойная душа – невольно?
Гиппий: Это очевидно.
Сократ: И достойный человек – это тот, кто имеет достойную душу, скверный же человек имеет душу недостойную?
Гиппий: Да.
Сократ: Итак, достойному человеку свойственно чинить несправедливость добровольно, а недостойному – невольно, коль скоро достойный человек имеет достойную душу?
Гиппий: Да ведь он же ее имеет.
Сократ: Следовательно, Гиппий, тот, кто добровольно погрешает и чинит постыдную несправедливость – если только такой человек существует, – будет не кем иным, как человеком достойным.
Но Гиппий не готов следовать ходу рассуждений Сократа. Им овладевает сила, превосходящая веру в логику, так что он не делает следующий роковой шаг вслед за витиеватыми сократовскими аргументами и отвергает то, что в его представлении не только коварно, но и, хуже того, абсурдно. «Трудно мне, Сократ, согласиться с тобою в этом», – искренне говорит софист[120]120
Ibid. P. 214.
[Закрыть].
«Да я и сам с собой здесь не согласен, Гиппий, но все же это с необходимостью вытекает из нашего рассуждения. Однако, как я говорил раньше, я блуждаю в этом вопросе вокруг да около и никогда не имею одинакового мнения на этот счет. Правда, неудивительно, что я или другой какой-либо обычный человек здесь находится в заблуждении. Но уж если вы, мудрецы, станете тут блуждать, это и для нас ужасно, раз мы даже с вашей помощью не можем избавиться от ошибки»[121]121
Ibid.
[Закрыть].
Намерение Сократа высмеять Гиппия за показное мудрствование, конечно же, очевидно, как и его убежденность, что в понятиях блага, истины и справедливости досконально не разобраться без непрестанных усилий, да и те не приводят к окончательным выводам. Однако метод, избранный, чтобы обезоружить Гиппия, казалось бы, Сократа недостоин. Учитывая оба нюанса, выходит, что Гиппий в диалоге предстает более сильным и серьезным участником спора. Разумеется, Сократ более хитроумный – так же как Одиссей в сравнении с Гиппиевым Ахиллом, благодаря упоминанию о котором обсуждение парадокса «превратилось в фарс»[122]122
I. F. Stone The Trial of Socrates. P. 57.
[Закрыть]. Кроме того, становится очевидным, что не Сократ раскрывает пустоту догматов Гиппия, а сам Гиппий доказывает: сократический метод, предполагающий, что собеседник, следуя от одного вопроса к другому, обнаруживает противоречие в своих утверждениях, может быть пагубным. С этим соглашается и Сократ, безусловно осознающий различие между неправым поступком, совершенным оправданно, и правым, но неоправданным.
Монтень (цитируя Эразма) рассказывает, как жена Сократа, когда зачитывали приговор суда, по которому он должен был выпить яд, воскликнула: «О как несправедливо эти злые судьи приговорили тебя к смерти!» На что Сократ ответил: «А ты бы предпочла, чтобы они осудили меня по справедливости?»[123]123
M. de Montaigne An apology for Raymond Sebond // The Complete Essays / trans. and ed. M. A. Screech. Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1991. P. 656.
[Закрыть] Но как бы ни был Сократ в диалоге «Гиппий меньший» щедр на иронию, нельзя не увидеть, что его доводы приводят к неверному заключению, в человеческом понимании недопустимому. Платон, возможно, этого совсем не хотел.
Важно помнить, что, так же как на персонажа по имени Гиппий мы почти всегда смотрим глазами Сократа, сам Сократ, каким мы его знаем, во многом придуман Платоном. «Как знать, в большой или в малой мере, – спрашивает Джордж Стайнер, – Сократ в самых значимых диалогах оказывается фантазией Платона, превосходя в своем влиянии на умы, в проявлении как трагического, так и комического начала Фальстафа, Просперо или Ивана Карамазова?»[124]124
G. Steiner Where Was Plato? // The Times Literary Supplement. 26 July 2013. P. 11.
[Закрыть] Быть может, так же как за грузной фигурой Фальстафа можно заметить совсем другую тень – Принца Хэла, а за ученостью Просперо – личину Калибана, и даже в суровом Иване Карамазове (как бы ни смущала эта мысль) прослеживаются черты его юного жалостливого брата Алексея, в платоновском Сократе мы узнаем… нет, не Гиппия, которого пытливый философ колко высмеивает, а другого, здравого, проницательного мыслителя, которому любопытно постичь логику любопытства.
Общество, созданное Периклом, перестало существовать с приходом македонских армий, а затем римских колонистов. О философии софистов известно лишь по цитатам, которые приводят их хулители. Их книги утрачены, как и большинство сведений об их жизни, но оставшиеся фрагменты текстов и психологические портреты в произведениях других авторов обнаруживают неиссякаемое желание постигать новое в сложном созвездии идей и открытий, а также, не в последнюю очередь, нежелание следовать обманчивой логике философа, называющего себя «повитухой мысли», во время прогулки по уводящей в самые глубокие заросли садовой тропе[125]125
Plato Theaetetus // The Collected Dialogues of Plato. P. 853–854.
[Закрыть].
Глава 4. Как увидеть то, о чем мы думаем?
С понятием «перевод» я познакомился в подростковом возрасте, причем даже не в раннем. Воспитывали меня на двух языках – английском и немецком, и в детстве переход с одного из них на другой никак не связывался у меня с попыткой передать на разных языках один и тот же смысл; это зависело от того, с кем я говорил. Одна и та же сказка братьев Гримм, прочитанная мною на двух языках, становилась двумя разными произведениями: в немецкой версии, напечатанной жирным готическим шрифтом и сопровождавшейся мрачными акварельными иллюстрациями, рассказывалась одна история; в английской, светлой, большого формата, с черно-белыми гравюрами – другая. Очевидно, что это не могла быть одна и та же история, потому что выглядела она в книгах по-разному.
Со временем я обнаружил, что меняющийся текст – по сути один и тот же. Точнее сказать, один и тот же текст из разных уст мог звучать по-разному, и в этом процессе менялось все, из чего он состоит: лексика, синтаксис, грамматика, мелодика, а также его культурные, исторические черты и эмоциональная окрашенность. В лингвистическом трактате «De vulgari eloquentia» («О народном красноречии»), написанном на латыни, но защищающем идею распространения местных языков, Данте перечисляет изменяемые при переходе из уст в уста элементы речи, показывая, из чего она складывается: «Во-первых, из распределения ее напева; во-вторых, из расположения частей; в-третьих, из счета стихов и слогов».
Но как эти беспрестанные вариации сохраняют индивидуальное единство? Что позволяет мне сказать, что разные переводы сказок братьев Гримм, или «1001 ночи», или «Божественной комедии» Данте в действительности остаются одной и той же книгой? Существует старый философский парадокс: если у человека заменить все части тела на искусственные органы и конечности, будет ли это тот же человек? В каком из наших членов заложено индивидуальное начало? В каком из элементов заложена сущность стихотворения? В этом, как мне казалось, была суть загадки: если литературный текст – это вся совокупность черт, позволяющих назвать его сказками братьев Гримм или «1001 ночью», то что остается, когда каждая из этих черт заменяется другой? Быть может, перевод – это другое облачение, позволяющее тексту обращаться к тем, кто не вхож в его круг, как бедняцкие одежды, в которых халиф Харун аль-Рашид смешивался с толпой простолюдинов? Или это обман, подобный тому, что совершила камеристка в сказке о говорящем коне Фалладе, заняв место своей госпожи, чтобы незаконно выйти замуж за принца?[126]126
Речь идет о сказке братьев Гримм «Гусятница».
[Закрыть] На какую долю исходной неповторимости может претендовать перевод?
Любая форма письма в каком-то смысле является переводом слов, произносимых мысленно или вслух, в их зримое, наглядное отображение. Выводя свои первые слова по-английски с их скругленными ns и ms или по-немецки с их заостренными, как гребни волн, Ns и Ms, я начал осознавать, что текст становится другим, не только когда меняется словарь: он зависит и от формы воплощения. Когда я прочел рассказ Киплинга о любовном письме, отправленном в виде россыпи предметов, смысл которых должен разгадать возлюбленный, ведь каждый из них – это слово или несколько слов[127]127
Имеется в виду рассказ Редьярда Киплинга «За чертой».
[Закрыть], мне стало ясно, что мои каракули не единственные придают словам материальность. Существует иной способ – с помощью камушков, цветов и прочих мелочей. А значит, – думал я, – есть и другие. Так могут ли слова, отображая наши мысли, делать их зримыми как-либо еще?[128]128
Dante Alighieri De vulgari eloquentia / ed. e trad. V. Coletti. Milano: Garzanti, 1991. P. 25. Перевод А. Петровского.
[Закрыть]
Ведет ли нас вопрос вперед по садовой тропе, порой зависит не только от слов, выбранных, чтобы его задать, но также от их вида и способа их представления. Нам давно уже ясно, как важен материальный аспект текста, а не только его содержание, чтобы донести желаемый смысл. В «Житии Адама и Евы», созданном между III и V веками н. э. (текст вошел в апокрифы, существующие во многих версиях на различных языках), Ева просит своего сына Сифа записать то, что произошло с ней и с его отцом, Адамом. «Выслушай, дитя мое! – говорит она. – Изготовь таблицы из камня, а другие – из глины и опиши на них всю мою жизнь и жизнь твоего отца, и все, о чем слышал от нас или видел сам. Если воду нашлет на наш род Всевышний, глиняные таблицы растворятся, а каменные останутся; но если огонь – каменные таблицы расколются, а глиняные обожжены будут [и затвердеют]»[130]130
R. H. Charles The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. Oxford: Clarendon, 1913. P. 75.
[Закрыть]. Любой текст зависит от свойств носителя, будь то глина или камень, бумага или экран компьютера. Не бывает сугубо виртуальных текстов, не зависящих от материального аспекта: любой, даже электронный текст характеризуется как словами, так и пространством, в котором эти слова существуют.
В небе Марса предок Данте, носящий имя Каччагвида, рассказывает ему о старых добрых временах, когда Флоренция была образцовым, достойным местом для жизни, и пророчит поэту скорое изгнание. Затем взволнованный этой встречей Данте направляется за Беатриче к небу Юпитера. Строй встречающих его там душ начинает образовывать слова, которые Данте постепенно с восторгом прочитывает:
И как, поднявшись над прибрежьем, птицы,
Обрадованы корму, создают
И круглые, и всякие станицы,
Так стаи душ, что в тех огнях живут,
Летая, пели и в своем движенье
То D, то I, то L сплетали тут[131]131
«E come augelli surti di rivera, / quasi congratulando a lor pasture, / fanno di sé or tonda or altra schiera, // sí dentro ai lumi sante creature / volitando cantavano, e faciensi / or D, or I, or L in sue figure» (Par., XVIII, 73–78).
[Закрыть].
Души образуют тридцать пять букв, из которых складываются слова DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRAM («Любите справедливость, судьи земли»), составляющие первую строку Книги Премудрости Соломона. Небо Юпитера – обитель законотворцев: латинское слово «lex», «закон», этимологически связано с «lego», «читаю» – на латыни, и с «leggere», «читать» на итальянском. То есть души законотворцев позволяют «прочесть» суть закона – того закона, который, в свою очередь, есть предмет любви и атрибут высшего блага. Затем финальная M превратится сначала в геральдическую лилию, а после – в орла. Фигура орла, изображенная душами праведников, сложившими прежде слова наставления, – это символ имперской власти, призванной вершить Божественное правосудие. Подобно птице Симург из персидской легенды, орел представляет собой единство всех душ, и каждая из них – это он[132]132
В книге Фарида ад-Дин Аттара «Беседа птиц» (XII в.) птицы ищут своего царя, которым должен стать Симург. После долгих странствий им становится ясно, что они и есть Симург, а Симург является ими. Борхес проводит ту же связь между двумя птицами в эссе «El Simurgh y el águila» («Симург и орел») из книги Nueve ensayos dantescos («Девять эссе о Данте»; Madrid: Espasa-Calpe: 1982. P. 139–144).
[Закрыть]. Древняя традиция, заложенная Талмудом, рассматривает мир как книгу, которую мы пишем и в которую сами вписаны: души в небе Юпитера олицетворяют это возвышенное представление. Орел, многообразный и неповторимый, обращается к Данте и говорит о высшем правосудии, столь непохожем на земное; и если нам не постичь справедливость божественных деяний, упрекать в этом следует себя, а не Творца.
Как соотносятся между собой явленное слово и человеческий язык – главный вопрос «Божественной комедии». Язык, как известно, – наиболее эффективный инструмент общения, но он в то же время препятствует исчерпывающему пониманию. Однако Данте убеждается, что язык – необходимое средство, даже если то, к чему мы стремимся, не облекается в слова. В появлении блаженных душ еще не предугадывается финальное откровение: язык должен пресуществиться в них, прежде чем Данте проникнется высшим смыслом происходящего.
До этого эпизода «Божественной комедии» язык дважды обретал осязаемость, становился «зримой речью». Сначала в эпизоде, когда Вергилий ведет Данте к вратам Ада, встречается триумфальная арка с эпитафией, которая безмолвно сообщает страннику в девяти стихотворных строках «сумрачного цвета»:
Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ,
Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН,
Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ.
БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН:
Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ
И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН.
ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНЬЯ,
И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ.
ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ[133]133
«Visibile parlare» (Purg., X, 95); «Per me si va ne la città dolente, / per me si va ne l’etterno dolore, / per me si va tra la perduta gente. // Giustizia mosse il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate, / la somma sapïenza e ’l primo amore. // Dinanzi a me non fuor cose create / se non etterne, e io etterno duro. / Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate» (Inf., III, 1–9).
[Закрыть].
Данте способен прочувствовать эти строки, когда читает их, но он далек от их понимания и потому говорит Вергилию, что их смысл ему «страшен». Вергилий советует отринуть сомнения и страх, ведь поэту предстоит увидеть место, где «томятся тени, / Свет разума утратив навсегда». И предостерегает: Данте не должен попасть в их число. Слова на вратах воплощают божественную идею и, в отличие от деяний Всевышнего, кои бывают неисповедимы, даны для постижения человеческим разумом. Вергилий вводит поэта «в таинственные сени»[134]134
«Genti dolorose» (Inf., III, 17); «Dentro alle segrete cose» (Inf., III, 21).
[Закрыть]. Странствие начинается.
Во второй раз язык обретает материальность, когда ангел, стерегущий Чистилище, острием своего меча семь раз выводит на лбу Данте букву P, символизируя семь смертных грехов (от итальянского peccati). Сам поэт не может видеть эти буквы, но, покуда он, уступ за уступом, взбирается на священную гору, они одна за другой начинают исчезать, и, пройдя очищение, странник достигает вершины, где расположен райский сад. Начертание семи букв P и их постепенное стирание составляют непременный ритуал, который надлежит совершить перед небесным вознесением. У входа – три ступени: это, по мнению некоторых толкователей, аллегория сердечного покаяния, признания грехов и искупления в трудах; дальше – отвесный путь вверх, и во время подъема ангел предостерегает Данте, чтобы тот не оглядывался. Вторя наказу, данному жене Лота, он велит забыть прежнее греховное бытие:
Войдите, но запомните сначала,
Что изгнан тот, кто обращает взгляд.
Буквы P на челе Данте, которые сам он прочесть не может, хотя знает о них, воплощают язык предостережения[135]135
«Intrate; ma facciovi accorti / che di fuor torna chi ’n dietro si guata» (Purg., IX, 112–114; 131–132).
[Закрыть].
Письмо – это всегда искусство материализации мысли. «Когда слово пишется, – учил Августин, – то пишется знак для глаз, при помощи которого приходило бы на ум то, что относится к слуху»[136]136
Saint Augustine De Magistro // Les Confessions, précedées de Dialogues Philosophiques / ed. L. Jerphagnon. P.: Gallimard, 1998. P. 370.
[Закрыть]. Письмо относится к «заклинательным» искусствам, связанным с визуализацией и передачей мыслей, переживаний, предчувствий. Живопись, пение и чтение в полной мере принадлежат к этому особому роду деятельности, возникшему из способности человека познавать мир, воображая его. В один прекрасный день, давным-давно, наш далекий предок впервые вдруг понял, что ему (или ей) вовсе не обязательно совершать действие, чтобы получить о нем представление; действие само происходит в голове, его можно наблюдать, изучать, размышлять над ним, здесь и сейчас видеть, как оно складывается. То, что возникает в воображении, следует как-то назвать – преобразовать зримое явление в звучащий эквивалент, чтобы при произнесении этих звуков можно было вновь возродить образ вещи – как по волшебству. В некоторых обществах звук заменял материальное представление – отметки на глине, насечки на дереве, рисунки на полированном камне, каракули на листе. Опыт, почерпнутый из реальности, теперь мог быть зашифрован посредством языка или руки и дешифрован ухом или глазом. Как фокусник, показывающий в ящике цветок, который затем по его воле исчезает и снова появляется на глазах у изумленной публики, наш предок подарил нам возможность творить чудеса.
К какому бы обществу ни принадлежали читатели, это будет общество письменного слова; как и положено в подобных социумах (хотя не всеми исполняется), каждый пытается усвоить коды общения своих сограждан. Не в любом обществе необходима визуальная расшифровка языка: часто достаточно звучания. Выходит, что древнее латинское выражение scripta manent, verba volant, что означает «написанное остается, слова улетают», несправедливо для устных обществ, в которых смысл высказывания можно трактовать так: «написанное умирает и остается на листе, произнесенное вслух обретает крылья и улетает». Читатели же понимают это так: оживить написанные слова способно только чтение.
Две школы мысли предлагают конкурирующие теории языка. Подробности их дискуссии выходят далеко за рамки этой книги, но обобщенно скажем так: номиналисты издавна настаивают на том, что уникальные вещи существуют лишь в реальности – то есть они не зависят от нашего сознания, и слова выражают нечто существующее, только если соотносятся с определенными предметами или явлениями, – в то время как реалисты, также соглашаясь с тем, что мы живем в мире, существующем независимо от нас и от наших мыслей, считают, что некоторые категории вещей, так называемых «универсалий», не обязаны своим существованием индивидуальным явлениям, которые они символизируют, и могут наравне с этими явлениями обозначаться словами. Язык радушно вбирает оба представления и дает наименования как индивидуальному, так и всеобъемлющему. Быть может, оттого, что в обществах письменного слова подобная вера в прочность языкового синкретизма выражена слабее и их члены полагаются на материализацию слова как упрочение животворной силы языка. Verba мало, нужны scripta[137]137
Verba – слова, scripta – тексты (лат.).
[Закрыть].
В 1976 году психолог Джулиан Джейнс предположил, что на ранней стадии своего развития язык проявлялся в посещавших людей звуковых галлюцинациях: слова формировались правым полушарием мозга, но левое полушарие распознавало их как идущие откуда-то извне. По мнению Джейнса, когда в III тысячелетии до н. э. была изобретена письменность, мы «слышали» рукописные знаки – то есть слышали голоса, которые, как нам казалось, принадлежат общительным богам, и только в I тысячелетии до н. э. эти голоса обрели внутреннее звучание[138]138
См.: J. Jaynes The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. N. Y.: Houghton Mifflin, 1976.
[Закрыть]. Первый читательский опыт мог заключаться в галлюцинаторном восприятии звуков, так что слова, прочитанные глазами, при чтении воспринимались ухом как нечто ощутимое, как вторичная реальность, существующая вне мышления, в которой эхом звучит или отражается первичная реальность начертанных слов.
Разумеется, переход от разговорного языка к письменному был не столько качественным совершенствованием, сколько сменой «вектора». В придуманном Платоном мифе египетский бог Тот преподнес язык в дар фараону, который, однако, объяснил божеству, что не может принять подношение, потому что если бы люди научились письму, они разучились бы запоминать. Правда, Платон умалчивает о том, что не укладывается в русло этого сюжета: благодаря письменности ораторы смогли преодолеть рамки времени и пространства. Ведь можно и не произносить свои речи, все равно мертвые через века смогут общаться с живыми. Искусство письма, не столь непосредственное, менее осязаемое и чуткое, чем речь, одновременно как расширяет, так и сужает возможности автора. Впрочем, это касается любого хитроумного метода или приспособления, в каком бы ремесле они ни применялись. Взять, к примеру, определение кресла у Честертона: «Штуковина на четырех деревянных ногах для двуногих убожеств»[139]139
Plato Phaedrus // The Collected Dialogues of Plato / ed. E. Hamilton and H. Cairns. Princeton: Princeton University Press, 1973. P. 520; G. K. Chesterton A Defense of Nonsense // G. K. Chesterton The Defendant. L.: Dent, 1901. P. 14.
[Закрыть].
На чем бы ни держалось существование письма как инструмента мысли – на вдохновении, приведшем к его изобретению, или же на последствиях его появления, в этом есть определенный лингвистический фатализм. Так же как всему во вселенной можно дать собственное имя, любое имя можно передать в звуках, а у любого звука есть отображение. Все, что произносится вслух, может быть записано и прочитано. Все без исключений: даже Божественные слова, продиктованные Моисею, даже песни китов, транскрибированные биологами, или звуки тишины, записанные Джоном Кейджем. Данте был понятен этот закон воплощения: в его Раю души праведников сначала возникают перед ним в виде лиц, проявляющихся в мутном зеркале, после чего постепенно принимают ясные, узнаваемые черты. На самом деле, как и мысли, они бестелесны, ведь на Небесах не существует пространства и времени; но, подобно знакам письменности, они услужливо принимают зримые черты, так что Данте может наблюдать, как протекает жизнь грядущая. Духам ничего подсказывать не надо; в отличие от нас.









































