Текст книги "Curiositas. Любопытство"
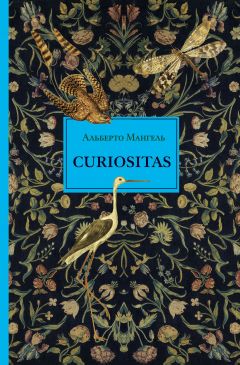
Автор книги: Альберто Мангель
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Здесь изнемог высокий духа взлет;
но страсть и волю мне уже стремил
как если колесу дан ровный ход,
любовь, что движет солнце и светила[46]46
«All’ alta fantasia qui mancò possa; / ma già volgeva il mio disiro e il velle, / sì come rota ch’ egualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Par., XXXIII, 142–145).
[Закрыть].
Простые читатели (в отличие от историков) мало внимания обращают на точность исторической хронологии и следят за событиями и диалогами, минуя века и культурные барьеры. Через четыреста лет после странствия Данте один любопытный шотландец придумал систему, которую «замыслил, когда <ему> не было и двадцати одного года, а завершил к двадцати пяти»: она позволит письменно формулировать вопросы, рожденные его недолгим опытом постижения мира[47]47
The Letters of David Hume / ed. J. Y. T. Greig. Oxford: Clarendon Press, 1932. Vol. 1. P. 158.
[Закрыть]. Он назвал свою книгу «Трактат о человеческой природе».
Дэвид Юм родился в Эдинбурге в 1711 году, а скончался в 1776-м. Он учился в Эдинбургском университете, где описал «новое поприще мысли» Исаака Ньютона и «эмпирический метод рассуждения о моральных предметах», посредством которого можно установить истину. Его семья хотела, чтобы он выбрал юридическую стезю, но сам он чувствовал «глубокое отвращение ко всякому другому занятию, кроме изучения философии и общеобразовательного чтения, и, в то время как <его> родные думали, что <он увлекается> Воэцием и Виннием, втайне пожирал Вергилия и Цицерона»[48]48
D. Hume A Treatise of Human Nature. London, 1739, титульный лист; См.: D. Hume My Own Life. Цит. по: E. C. Mossner Introduction // D. Hume A Treatise of Human Nature / ed. E. C. Mossner. Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1969. P. 17. Перевод С. Церетели.
[Закрыть].
Когда в 1739 году его трактат был опубликован, встретили его по преимуществу недоброжелательно. «Едва ли чей-нибудь литературный дебют был менее удачен, чем мой „Трактат о человеческой природе“, – вспоминал философ несколько десятилетий спустя. – Он вышел из печати мертворожденным, не удостоившись даже чести возбудить ропот среди фанатиков»[49]49
Ibid.
[Закрыть].
«Трактат о человеческой природе» – выдающееся свидетельство веры в способность рационального ума к постижению мира. Исайя Берлин в 1956 году скажет об авторе: «Никому не удавалось оставить более глубокий след в развитии философии и так ее всколыхнуть». Сетуя, что в философских диспутах «не разум превыше ценится, а красноречие», Юм так же красноречиво задавал вопросы, касающиеся утверждений метафизиков и теологов, изучая саму суть любознательности. Опыт первичен, утверждал Юм, без него ни одна вещь не может явиться причиной для другой: именно опыт помогает нам понимать жизнь, а не умозрительные абстракции. Однако внешний скептицизм Юма полностью не отвергает возможность знания: «Природа слишком сильна: она не знает оцепенения, свойственного полному отсутствию веры»[50]50
I. Berlin Introduction // The Age of Enlightenment: The Eighteenth Century Philosophers. Oxford University Press: Oxford & London, 1956. P. 163; E. C. Mossner Introduction. P. 41.
[Закрыть]. Опыт природного мира, с точки зрения Юма, должен направлять, формировать и подкреплять все наши искания.
В конце второго тома «Трактата о человеческой природе» Юм пытается обозначить различие между любовью к знаниям и естественным любопытством. Последнее, как он пишет, – это аффект, происходящий «из совершенно иного принципа». Яркие идеи оживляют восприятие и вызывают чувство удовольствия, относительно близкое к тому, что можно назвать «умеренной страстью». Зато сомнение становится источником «разнообразия мысли», перенося нас от одной идеи к другой. И это, по мнению Юма, «должно быть поводом к страданию». Возможно, невольно вторя процитированным выше строкам из Книги Премудрости Иисуса, Юм утверждает, что не каждый факт вызывает наше любопытство, но рано или поздно один из них покажется достаточно важным, «если идея поражает нас с такой силой и так близко нас касается, что ее неустойчивость и непостоянство доставляют нам неудовольствие». Фома Аквинский, чье представление о причинности Юм всерьез оспаривал и считал неубедительным, имел в виду то же различие, говоря, что «любомудрие непосредственно связано не с самим знанием, а с желанием и усердием в стремлении к знанию»[51]51
D. Hume Treatise of Human Nature / ed. E. C. Mossner. P. 499–500. Перевод С. Церетели; Thomas Aquinas, Summa Theologica. Vol. 4. P. 1870.
[Закрыть].
Эта острая потребность знать истину, – «любовь к истине», по выражению Юма, – в действительности имеет ту же двойную природу, которую мы уже рассматривали, говоря о любознательности в целом. «Истина, – писал Юм, – бывает двух родов: она состоит или в открытии отношений между идеями как таковыми, или же в открытии соответствия наших идей объектов реальному существованию последних. Несомненно, что к истине первого рода мы стремимся не только как к таковой и что не сама по себе правильность наших заключений доставляет нам удовольствие». Одной погони за истиной для Юма недостаточно. «Но кроме той деятельности духа, которая является главным основанием нашего удовольствия, требуется также некоторая доля успеха в достижении цели, то есть в открытии той истины, которую мы исследуем»[52]52
D. Hume Treatise of Human Nature. P. 495, 497. Перевод С. Церетели.
[Закрыть].
Не прошло и десяти лет после опубликования трактата Юма, когда Дени Дидро и Жан Лерон Д’Аламбер начали издавать во Франции свою «Энциклопедию». Предложенное Юмом определение любознательности, раскрывавшееся с точки зрения конечного результата, оказалось изящно переиначено: истоки импульса (а не цели) объяснялись «нетерпеливым желанием обучаться, узнавать новое», которое, однако, «не является феноменом, характерным для индивида и присущим ему от рождения, независимо от свойств восприятия, как это представляли некоторые». Автор статьи, шевалье де Жокур, одобряет в этом смысле «некоторых здравомыслящих философов», определявших любознательность как «порыв души, взбудораженной впечатлениями или ощущениями от предметов, знакомых нам лишь в самых общих чертах». То есть энциклопедисты считали, что любознательность рождается из осознания собственного невежества и побуждает нас овладевать по возможности «более точным и полным знанием о предмете, который оно представляет»: это все равно что разглядывать корпус часов, желая знать, как они тикают[53]53
Chevalier de Jaucourt Curiosité // Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. P., 1751. Vol. 4. P. 577–578.
[Закрыть]. «Как?» в этом случае – форма вопроса «почему?».
То, что Данте относил к вопросам причинности, зависящей от божественной воли, энциклопедисты превратили в вопросы функционального свойства, зависящие от опыта индивида. Юм предлагал исследовать процесс «раскрытия истины», что для Жокура, например, означало понимание устройства вещей в практическом, если не в механическом смысле. Данте интересовала побудительная сила любопытства как такового, процесс, который через вопросы ведет к утверждению собственной индивидуальности и неизменно приближает к высшему благу. Проистекающее из понимания собственного неведения и из стремления к вознаграждению знанием (вполне желанному), любопытство во всех его проявлениях преподносится в «Божественной комедии» как средство продвижения от неведомого к тому, чего мы еще просто не знаем, – сквозь сплетение философских, общественных и этических преград, которые страннику надлежит преодолеть, собственной волей сделав правильный выбор.
Полагаю, что один эпизод поэмы сполна иллюстрирует всю сложность многогранного явления любопытства. Когда Данте, следуя за Вергилием, собирается покинуть девятый ров восьмого круга Ада, где терпят наказание зачинщики раздора, необъяснимое любопытство заставляет его, оглянувшись, созерцать отвратительное зрелище: грешники, которые на этом свете сеяли разлад, теперь подвергаются растерзанию, обезглавливанию и расчленению. Последний дух, заговоривший с Данте в этой сцене, – поэт Бертран де Борн, который, «как фонарь», держит за волосы свою отрубленную голову.
При виде такого зрелища Данте обливается слезами, но Вергилий сурово корит его, напоминая, что когда они проходили через другие рвы восьмого круга, поэт так не горевал, и нет причин для большего внимания к тому, что происходит здесь. И тут Данте едва ли не впервые возражает духовному наставнику: если бы Вергилий попытался дознаться, чем вызвано его любопытство, то сам, возможно, позволил бы Данте задержаться, поскольку в толпе грешников поэт, кажется, увидел своего родственника, Джери дель Белло, убитого выходцем из другой флорентийской семьи, но так и не отомщенного. Потому, – добавляет Данте, – Джери, видимо, и удалился, не вымолвив ни слова. Всевышняя справедливость не должна ставиться под сомнение, а идея личной мести противоречит христианскому догмату о прощении. Данте тем самым пытается оправдать свое любопытство.
Так что же вызвало слезы Данте? Жаль ли ему терзаемую душу Бертрана или стыдно, что Джери от него отвернулся? Скрыта ли за его любопытством дерзкая мысль, будто он лучше самого Бога знает, что есть справедливость, или это низменное чувство, отвлекающее его от искания блага, или сочувствие к неотмщенному кровному родичу, а может, всего-навсего уязвленная гордыня? Боккаччо, как правило тонко чувствующий глубинный смысл повествования, замечал, что жалость, которую Данте порой испытывает в пути, обращена не столько к стенающим душам, чьи голоса он слышит, сколько к самому себе[55]55
См.: G. Boccaccio Trattatello in laude di Dante. P. 51.
[Закрыть]. Данте ответа не дает.
Но выше он обращался к читателю:
Вергилий отвечает протестующему Данте молчанием, но подводит его к краю новой бездны – последней на пути к центру Ада; болезнью, напоминающей водянку, здесь карают фальсификаторов: в полостях их тел и в тканях скапливается жидкость, но при этом они мучимы жестокой жаждой. Тело одного из грешников, который «совсем как лютня был устроен», фальшивомонетчика мастера Адамо, – гротескный образ Распятия, которое в средневековой иконографии сравнивали со струнным инструментом[57]57
См.: D. Heilbronn Master Adam and the Fat-Bellied Lute // Dante Studies. № 101 (1983). P. 51–65.
[Закрыть]. Другой грешник, терзающийся в горячке, – это грек Синон: во второй книге «Энеиды» он сдается в плен троянцам, а затем убеждает их ввезти с город деревянного коня. Синон, по-видимому разозленный тем, что Адамо называет его имя, бьет мастера во вздувшийся живот, и между ними начинается перепалка, за которой увлеченно наблюдает Данте. Тогда Вергилий, словно ждавший повода для упрека, гневно его бранит:
Что ты нашел за диво?
Я рассердиться на тебя готов.
Но, видя, как устыдился Данте, наставник прощает его, произнеся напоследок: «Позыв их слушать – низменный позыв»[58]58
«Or pur mira! / che per poco è teco non mi risso» (Inf., XXX, 131–132); «Ché voler ciò udire è bassa voglia» (Inf., XXX, 148).
[Закрыть]. То есть тщетный. Не всякое любопытство ведет нас по верному пути.
Но все же…
«Природа наделила нас врожденной любознательностью и, зная о собственном мастерстве и красоте, потрудилась превратить нас в зрителей восхитительного действа, которое являет собой мир; ведь труд был бы напрасным, если бы явления столь величественные, блестящие, столь тонко обрисованные, великолепные и прекрасные в своем разнообразии демонстрировались в пустом зале», – писал в защиту любознательности Сенека[59]59
Seneca On Leisure // Moral Essays / trans. J. W. Basore. Cambridge: Harvard University Press, 1990. P. 190–191.
[Закрыть].
Великое искание, начинающееся на половине земного пути и заканчивающееся созерцанием истины, которую не выразить словами, наполнено бесконечными отступлениями, ответвлениями, воспоминаниями, ментальными и осязаемыми препятствиями, опасными блужданиями – в том числе и такими, которые кажутся мнимыми, но при этом реальны. Сосредоточенность или отвлечение, попытка понять «почему» или разобраться «как», постановка вопросов внутри границ, дозволенных обществом, или поиск ответов за этими пределами: подобная дихотомия, неизменно скрытая в феномене любопытства, каждый раз затрудняет наши поиски и одновременно движет их вперед. Впрочем, даже когда мы, несмотря на стойкость и благие намерения, отступаем перед непреодолимыми препятствиями и терпим неудачу, остается позыв к поиску, описанный Данте (и интуитивно угаданный Юмом). Не потому ли из всех возможных модальностей, которые предлагает нам язык, наиболее естественна вопросительная?
Глава 2. Что мы хотим знать?
Мое детство, проведенное в Тель-Авиве, проходило по большей части в молчании: вопросов я почти не задавал. Не то чтобы я не был любопытным. Конечно же, мне хотелось выяснить, что заперто в шкатулке с выжженным орнаментом у постели моей воспитательницы, или кто живет в трейлерах с занавешенными окнами – их словно выбросило на берег в Герцлии, где мне строжайше запрещалось гулять. Моя воспитательница на любые вопросы отвечала с осторожностью, излишне долго, как мне казалось, обдумывала ответы, и они всегда были короткими, точными, не допускали возражений или обсуждения. Когда мне захотелось узнать, из чего сделан песок, она ответила: «Из ракушек и камней». Вздумалось расширить познания об ужасном Лесном царе из баллады Гете, которую я должен был выучить наизусть, – объяснение прозвучало так: «Это страшный сон». (Поскольку в немецком языке понятие «страшный сон» выражено словом Alpentraum, я решил, что кошмары могут сниться только в горах[60]60
Alpen – Альпы (нем.). Слово Alpentraum образовано от Alp (в современном значении – «кошмар, удушье») и Traum – «сон, сновидение». Название горного массива Альпы, Alpen, этимологически связано с Alp (Alm) – от кельтского «высокая гора». Alpentraum можно также перевести как «альпийская греза» (поэтому слово часто используется в качестве названия отелей и ресторанов).
[Закрыть].) Когда я задумался, почему так темно ночью и светло днем, она нарисовала на листе бумаги несколько пунктирных окружностей – предполагаемую Солнечную систему, – а затем заставила заучить названия планет. Она никогда не отказывалась отвечать на вопросы и… не поощряла их.
Лишь много позже я обнаружил, что в вопросах может быть нечто большее, сродни волнующему поиску, ожиданию чего-то такого, что именно в ходе поиска обретает форму, – поступательный процесс изучения, переходящий в диалог и не требующий финальной точки. Невозможно переоценить, сколь важна сама возможность такого исследования. Для ума ребенка оно так же необходимо, как движение – для тела. Жан-Жак Руссо утверждал, что школа должна стать местом, в котором воображение и рефлексия ничем не ограничены даже при отсутствии какой бы то ни было практической пользы или утилитарной цели. «Человек-гражданин родится, живет и умирает в рабстве, – писал он, – при рождении его затягивают в свивальник, по смерти заколачивают в гроб; а пока он сохраняет человеческий образ, он скован нашими учреждениями». Приучая детей браться за любое дело, востребованное обществом, – настаивает Руссо, – мы не добьемся, чтобы они успешно с ним справлялись. Они должны достичь свободы воображения, прежде чем смогут привнести в бытие нечто действительно стоящее.
Однажды новый учитель истории начал урок с вопроса, о чем бы нам хотелось узнать. Имелось ли в виду то, что хотели узнать именно мы? Да. О чем? Обо всем, что придет в голову, о чем бы ни захотелось спросить. Сначала была испуганная тишина, затем кто-то поднял руку и задал вопрос. О чем, я не помню (более полувека разделяет меня и этого любознательного храбреца), но помню, что начал учитель не с ответа – скорее, он подсказал следующий вопрос. Возможно, мы первым делом захотели выяснить, отчего работает мотор; а под конец удивлялись, как Ганнибалу удалось перейти через Альпы, как он додумался использовать уксус для раскалывания мерзлых каменных глыб и пытались представить, что мог чувствовать слон, умиравший в снегу. В тот вечер каждый из нас рисовал в своих фантазиях собственный тайный Alpentraum.[61]61
J.-J. Rousseau Emile, ou De l’éducation / éd. Ch. Wirz and P. Burgelin. P.: Gallimard, 1969. P. 89. Перевод П. Перова.
[Закрыть]
Вопросительная модальность несет в себе ожидание ответа, которое не всегда оправдывается: при всей неопределенности это главный инструмент любопытства. Конфликт любопытства, ведущего к открытию или обрекающего нас на проклятие, проходит через все наши начинания. Искушение горизонтом непреходяще, и даже если по достижении края света, как верили древние, страннику суждено упасть в бездну, это не удерживает нас от исканий, о чем и говорит в «Божественной комедии», обращаясь к Данте, Улисс.
В двадцать шестой песни «Ада», преодолев кишащий змеями седьмой ров, в котором терпят наказание воры, Данте добирается до восьмого рва и как будто «…селянин, на холме отдыхая… / Долину видит полной светляками»: это души грешников, навек заключенных в «рогатые» языки пламени. Заинтересовавшись одним из огненных языков, «что там, вдали возник», Данте узнает, что это соединенные вместе души Улисса и его спутника Диомеда (который, по легенде, распространившейся уже после Гомера, помог Улиссу похитить Палладий, священное изваяние Афины, охранявшее благополучие Трои). Поэта так влечет раздвоенное пламя, что он невольно всем телом подается к нему и просит у Вергилия позволения обратиться к пылающей сущности. Вергилий понимает, что огненные духи греков могут счесть недостойным общение с простым флорентинцем и обращается к пламени как поэт, который «в мире» слагал «высокий сказ»: он просит, чтобы одна из двух душ рассказала, как они встретили свою кончину. Более широкий язык пламени откликается и сообщает, что он – Улисс, который своими речами умел подчинять волю слушающих. Герой эпоса, чьи похождения послужили источником Вергилиевой «Энеиды» (ведь Улисс покинул волшебницу Цирцею на острове Гаэта, куда, по его же словам, потом «пристал Эней, так этот край назвавший»), начинает говорить с поэтом, которого некогда вдохновил. Во вселенной Данте творцы и творения творят собственную хронологию[63]63
«Quante ’l villan ch’al poggio si riposa, / <…> vede lucciole giù per la vallea» (Inf., XXVI, 25, 29); «Chi è ’n quel foco che vien sì diviso / di sopra» (Inf., XXVI, 52–53); «Quando nel mondo li alti verse scrissi» (Inf., XXVI, 82); «Prima che sí Enea la nomasse» (Inf., XXVI, 93).
[Закрыть].
Образ Улисса в «Божественной комедии» отчасти можно считать олицетворением запретного любопытства, но на наших книжных полках он начинает жить (притом что мог быть старше придуманных о нем историй) как изображенный Гомером хитроумный и гонимый царь Одиссей. Затем, претерпевая ряд сложных перевоплощений, он становится то жестоким полководцем, то верным супругом или ловким обманщиком, человеколюбивым героем, находчивым искателем приключений, опасным магом, кровавым злодеем, плутом, человеком в поисках своего «я» и джойсовским Всяким[64]64
У Джеймса Джойса в романе «Улисс» – Everyman. Перевод В. Хинкиса и С. Хоружего.
[Закрыть]. Дантовская версия сюжета о легендарном Улиссе показывает человека, не удовлетворенного своей и без того незаурядной судьбой: он хочет большего. В отличие от Фауста, который отчаивается, что так мало может почерпнуть из книг, и понимает, что его библиотека иссякла, Улисс стремится к тому, что лежит за последней чертой познанного мира. Вырвавшись с острова Кирки из пут ее страсти, он ощущает в себе нечто более сильное, чем любовь к покинутому сыну, престарелому отцу и верной жене, оставшимся дома на Итаке: ardore, или «пламенную страсть», влекущую еще глубже постичь этот мир, а заодно – человеческие пороки и добродетели. Всего в пятидесяти двух блестящих строках Улисс пытается объяснить причины, заставившие его пуститься в последнее странствие: это желание заглянуть за Геркулесовы столбы, поставленные для обозначения границ этого мира и предупреждающие людей, чтобы не плыли дальше; это решимость не отказывать себе в познании необитаемых сфер по ту сторону солнца и, наконец, стремление достичь добродетели и мудрости – словом, как и в трактовке Теннисона, никакие доводы «Не возмогли смирить мой голод знойный / Изведать мира дальний кругозор»[65]65
«Dentro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto» (Inf., XXVI, 97–98); A. Tennyson Ulysses // Selected Poems / ed. M. Millgate. Oxford: Oxford University Press, 1963. P. 88. Перевод Г. Кружкова.
[Закрыть].
Столбы, обозначавшие пределы мира, как и любые утвержденные границы, дразнят того, кто жаждет приключений. Через триста лет после завершения «Божественной комедии» в поэме «Освобожденный Иерусалим» у Торквато Тассо, преданного читателя Данте, богиня Фортуна ведет товарищей злосчастного Ринальдо (которого необходимо спасти, прежде чем Иерусалим будет захвачен) по пути Улисса к Геркулесовым столбам. За столбами простирается безбрежное море, и один из странников спрашивает, отваживался ли кто-нибудь его пересечь. Фортуна отвечает, что сам Геркулес, не смея пуститься вдаль по незнакомым водам, «тесные пределы положил / И мужеству, и гению людскому». Но, – добавляет она, – «любопытству дань платя, решился / Улисс разумный их переступить». Пересказав изложенную Данте версию кончины героя, Фортуна добавляет, что придет время, «и станут Геркулесовы столбы / Тогда пустой для морехода сказкой. / Далекие моря и страны имя / В Европе достославное стяжают»[66]66
T. Tasso Gerusalemme liberate / ed. Lanfranco Caretti. Milano: Mondadori, 1957. P. 277. Перевод В. Лихачева.
[Закрыть]. Тассо воспринял описанное Данте прегрешение как указание на пределы дозволенного и одновременно надежду на осуществление смелой мечты.
Представление о двоякости любопытства, которое побуждает либо к странствиям, либо к поиску скрытых знаний, сохраняется со времен «Одиссеи» вплоть до эпохи путешествий по Европе, ставших популярными в XVIII и XIX веках. Мыслитель четырнадцатого века, известный нам под именем Ибн Хальдун, в своем труде «Аль-мукаддима», или «Введение о превосходстве науки истории», отмечал, что путешествовать совершенно необходимо, чтобы учиться и формировать свой ум, поскольку это позволяет школяру встречать великих учителей и светил науки. Цитируя Коран – «Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь» – Ибн Хальдун настаивал на том, что путь к знанию зависит не от овладения понятийным вокабулярием, как это виделось ученым мужам, а от пытливого духа искателя. Обучаясь у разных наставников в разных местах, школяру предстоит увидеть, что суть вещей не в том, как их называет тот или иной язык. «Это позволит ему не путать науку и ее вокабулярий» и поможет осознать, что «точные понятия – суть лишь средство, метод»[67]67
Коран, сура 2, аят 142; ‘Abd-ar-Rahmân b. Khaldûn Al-Hadramî Al-Muqaddina: Discours sur l’Histoire Universelle / éd. et trad. V. Monteil. P.: Sindbad / Actes Sud, 1997. P. 948.
[Закрыть].
Знание Улисса заложено в его языке и красноречии: язык и красноречие дарованы ему создателями – от Гомера до Данте и Шекспира, от Джойса до Дерека Уолкотта. Обычно прегрешения Улисса совершаются именно через дарованный ему язык: сначала он убеждает Ахилла, укрывавшегося от Троянской войны в стенах царского дворца на Скиросе, присоединиться к войску греков, отчего в отчаянии умирает полюбившая его царская дочь Деидамия; затем он советует грекам построить деревянного коня, с помощью которого была взята Троя. Троя в латинской образной традиции, унаследованной средневековой Европой, представляла собой фактическую колыбель Рима, ведь троянец Эней, бежав из павшего города, основал полис, которому много веков спустя предстояло стать центром христианского мира. Улисс в христианском представлении уподоблен Адаму, виновному в грехе, влекущем за собой утрату «рая», но впоследствии приводящем к искуплению. Без потерянного Эдема напрасны были бы Страсти Христовы. Без губительного совета Улисса не пала бы Троя и не был бы рожден Рим.
Но все же, за какой грех наказаны Улисс и Диомед, «Божественная комедия» умалчивает. В одиннадцатой песни «Ада» Вергилий подробно поясняет Данте, в чем природа каждой разновидности обмана и где место наказания за этот грех, но, справедливо назвав лицемеров, льстецов, кудесников, мошенников, воров, «симонистов», сводников и мздоимцев, он при этом упоминает просто как «другую грязь» грешников в восьмом и девятом рвах. Позднее, в двадцать шестой песни, говоря о вине Улисса и Диомеда, Вергилий перечисляет три эпизода: хитрость с троянским конем, горе Деидамии и похищение Палладия. Но все это не имеет непосредственной связи с грехом, который наказывается в этом рве. Лия Швебель, исследователь творчества Данте, предложила практический обзор «всего спектра вероятных преступлений падшего героя, от первородного греха до языческой гордыни», приходивших на ум разным поколениям читателей «Божественной комедии», и сделала вывод, что ни одну из допустимых трактовок нельзя признать исчерпывающей[68]68
«E simile lordura» (Inf., XI, 60); «E dentro da la lor fiamma si geme / l’agguato del caval che fé la porta / onde uscì de’ Romani il gentil seme. // Piangesvisi entro l’arte per che, morta, / Deîdemìa ancor si duol d’Achille, / e del Palladio pena vi si porta» (Inf., XXVI, 58–63); L. Schwebel «Simile lordura», Altra Bolgia: Authorial Conflation in Inferno 26 // Dante Studies. № 133 (2012). P. 47–65.
[Закрыть]. И все же, если считать, что грех Улисса – в любопытстве, дантовское видение образа хитроумного путешественника отчасти проясняется.
Данте – поэт и должен словами изображать характер Улисса, его похождения, да и тот многоплановый контекст, в котором царь Итаки рассказывает о своей судьбе, но в то же время автору нельзя оставлять своему пылкому повествователю возможность достижения желанного блага. Странствие – это еще не все, и слова – не все: Улисс неизбежно терпит крах, потому что, поддавшись всепоглощающему любопытству, спутал вокабулярий, которым обладал, с истинным знанием.
Ремесло Данте требовало подчинить конструкцию поэмы незыблемым принципам устроения христианского потустороннего мира, так что по большому счету Улиссу в Аду положено место, отведенное для душ, повинных в воровстве духовном: он пользовался дарованным ему умом, вводя других в заблуждение. Но что разжигало в нем страсть к обману? Подобно Сократу, Улисс уравнивает добродетель и знание, создавая средствами риторики иллюзию, будто представление о добродетели по сути то же, что и наделенность ею[69]69
См.: G. Mazzotta Dante, Poet of the Desert: History and Allegory in the «Divine Comedy». Princeton: Princeton University Press, 1979. P. 66–106.
[Закрыть]. Но Данте интересно вовсе не раскрыть «грех от ума». Важнее другое: он хочет услышать от Улисса, что заставило его после всех опасностей, уготованных Посейдоном на обратном пути из Трои, плыть не к домашнему очагу, не к Пенелопе, а в неведомую даль[70]70
Остается неясным, отправился ли дантовский Улисс в последнее роковое странствие уже после возвращения на Итаку (как полагает Теннисон), или он и вовсе туда не возвращался и продолжил похождения, начало которых описано у Гомера.
[Закрыть]. Поэт хочет знать, в чем источник любознательности Улисса. И ведет свой рассказ, чтобы в этом разобраться.
Так повелось, что от витка к витку исторической спирали сюжеты повторяются в различных формах и видах: мы не знаем, когда тот или иной рассказ прозвучал впервые, но можно не сомневаться, что он прозвучит еще не раз. До первой известной хроники странствия Улисса наверняка была другая «Одиссея», о которой мы ничего не знаем, а до появления первой батальной эпопеи стихи «Илиады», верно, пел поэт, чья фигура выглядит еще более туманно, чем сам Гомер. Раз уж воображение, как мы отметили выше, стало для нашего вида средством выживания в этом мире, и все мы, хорошо это или плохо, рождены со свойственной Улиссу ardore, а благодаря историям, звучавшим вечерами у первых бивачных костров, наша фантазия служит горению этой страсти, ни один рассказ не может по праву считаться первозданным или уникальным. Какой сюжет ни возьми, возникает ощущение déjà lu[71]71
Буквально – «уже прочитанного» (фр.), по аналогии с «уже виденным», «дежавю».
[Закрыть]. Искусство повествования, которому, похоже, не будет конца, в сущности не имеет и начала. Раз нет первого из рассказов, сюжеты в ретроспективе даруют нам своего рода бессмертие.
Мы придумываем истории, чтобы придать форму нашим вопросам; читаем или слушаем их, чтобы понять, что мы хотим узнать. Перелистывая страницы, мы будем улавливать все тот же вопросительный импульс и интересоваться, кто и что сделал, зачем и как, – так что и себя, в свою очередь, можем спросить, чем это мы занимаемся, как и зачем и что будет, если некое событие свершится или не свершится. В этом смысле все сюжеты – отражение того, о чем, кажется, мы еще не знаем. Если история хороша, читатель загорится желанием узнать продолжение; но одновременно, противореча самому себе, захочет, чтобы она не кончалась: такая путаница оправдывает нашу тягу к рассказыванию и не позволяет угаснуть нашему любопытству.
Но даже если мы это понимаем, нас больше заботит начало, нежели финал. Финал – нечто само собой разумеющееся; порой мы даже готовы до бесконечности его откладывать. Финалы обычно служат нам утешением: они позволяют подвести призрачный итог; потому мы и нуждаемся в memento mori[72]72
Помни о смерти (лат.). Латинское крылатое выражение, служащее символическим напоминанием о бренности всего сущего.
[Закрыть] – чтобы не забывать, что мы и сами не вечны. Проблема начала волнует нас изо дня в день. Мы хотим знать, где и как все начинается, ищем смысл в этимологии, нам нравится быть свидетелями рождения: видимо, причина этому в чувстве, будто пришедшее в этот мир первым оправдывает или объясняет все, что появляется следом. И мы создаем истории, в которых находим отправную точку, и, оглядываясь на нее, чувствуем себя увереннее, каким бы трудным и спорным ни был дальнейший ход событий. Зато всегда бытовало мнение, что сочинять финалы проще. «Для хороших там все кончалось хорошо, а для плохих – плохо. Это называется беллетристикой», – сообщает нам мисс Призм в пьесе «Как важно быть серьезным»[73]73
O. Wilde The Importance of Being Earnest. L.: Nick Hern Books, 1995. P. 32. Перевод И. Кашкина.
[Закрыть].
Придумывание начала – сложный процесс воображения. К примеру, несмотря на то что Библия сразу же открывает возможность для бесчисленных повествовательных вариаций, начало в Священном Писании задано иными, более определенными сюжетами. На первых страницах Книги Бытия одна за другой приводятся две картины происхождения мира. Одна изложена так: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (1, 27). Вторая показывает, как Бог, чтобы дать Адаму «помощника», погрузил его в глубокий сон и извлек его ребро, из которого «создал жену» (2, 18, 21–25). Божественный акт творения подразумевает подчиненную роль женщины. Многочисленные библейские толкователи объясняют, что именно поэтому женщина, низшее существо, должна подчиняться мужчине; к счастью, есть другие трактовки, в которых патриархальное прочтение переосмысливается в пользу большего равноправия.
В I веке н. э. еврейский мыслитель Филон Александрийский, рассматривая парную нарративную структуру Книги Бытия, предложил считать самой ранней библейской интерпретацией платоновское ви́дение, согласно которому Бог сотворил первого человека гермафродитом («мужчину и женщину сотворил его»), а следом упоминал мизогинический, «женоненавистнический» подход, в котором мужская половина, по замыслу, превыше женской. Филон отождествлял мужскую половину (Адама) с духом (nous), а женскую (Еву) с чувственностью (aesthesis). Отделенная от Адама, словно олицетворяющая разделение чувств и разума, Ева в акте творения лишена изначальной невинности Адама, что становится существенным в эпизоде грехопадения[74]74
См.: Philo // L. Jacob The Jewish Religion: A Companion. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 377.
[Закрыть]. Два века спустя блаженный Августин в своем буквалистском толковании Книги Бытия признает изначальную невинность Евы, утверждая, что в первом изложении Адам и Ева, у которых еще нет имен, при сотворении получают все свои духовные и телесные черты in potentia[75]75
Потенциально (лат.).
[Закрыть], то есть в скрытой данности, которая проявится в плотском существовании, как следует из другого изложения[76]76
См.: Saint Augustine On Genesis. Hyde Park, N. Y.: New City Press, 2002. P. 83.
[Закрыть]. Вот что значит «съесть пирог дважды»![77]77
От английской пословицы You can’t have your cake and eat it («Нельзя и сохранить пирог и съесть его»).
[Закрыть]
Ученые сходятся во мнении, что Книга Бытия была написана около VI века до н. э. Примерно на три века раньше, в Греции, Гесиод описал другую версию истории женского греха. Зевс, пишет Гесиод, разгневанный на Прометея, который похитил у богов огонь с Олимпа и принес его людям, решил отомстить, послав на землю прекрасную деву, выкованную Гефестом, в одеждах Афины, золотых ожерельях Пейто и гирляндах Ор; Гермес наполнил ее сердце ложью и научил притворным обещаниям. Наконец, Зевс даровал ей речь и имя Пандора, а затем привел к Эпиметею, брату Прометея. Забыв о предостережении Прометея, просившего, чтобы тот не принимал дары от Зевса Олимпийского, влюбившийся в Пандору Эпиметей взял ее к себе в дом.
До той поры человечество не знало ни забот, ни недугов – все они хранились в закрытом сосуде. Пандора, которой стало любопытно, что там внутри, открыла крышку и выпустила на волю все бедствия и страдания, какие только возможны, а еще болезни, днем и ночью преследующие нас, безмолвно, ибо пользоваться языком Зевс им не дал. Испугавшись, Пандора попыталась водрузить крышку на место, но все страдания уже вырвались наружу, на дне осталась одна Надежда. В нашем представлении о противоречивых мотивах любопытства образ Пандоры со временем настолько вышел на первый план, что в XVI веке Жоашен дю Белле даже сравнил ее ни больше ни меньше, как с Римом, архетипическим Вечным городом, и всем, что он символизирует, как благим, так и пагубным[78]78
Hesiod Theogony & Works and Days / trans. D. Wender. Harmondsworth, U. K.: Penguin, 1973. P. 42, 61; J. du Bellay Les Antiquites de Rome. Цит. по: D. and E. Panofsky Pandora’s Box: The Changing Aspects of a Mythical Symbol. N. Y.: Harper and Row, 1962. P. 58–59.
[Закрыть].
Любопытство и наказание за любопытство: христианское типологическое ви́дение историй Евы и Пандоры оформляется во II веке в трудах Тертуллиана и святого Иринея Лионского. Оба автора говорят о дарованном человечеству свыше желании расширять свои знания и о наказании за такие попытки. Если оставить пока в стороне аспект нелюбви ко всему женскому, получается, что оба сюжета затрагивают вопрос о границах честолюбия. Любопытство отчасти дозволительно, но необузданное – наказуемо. Вот только почему?









































