Текст книги "Олимпия Клевская"
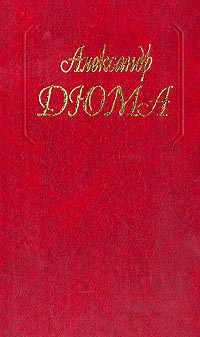
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 66 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
XXXV. КОНТРАКТ
На следующий день Баньер, в самом деле, лежал на соломе и в потемках, когда тюремщик возвестил узнику, что к нему пришли.
Мы не сумеем описать, до какого беспредельного уныния довели Баньера одиночество и мысли о том, что он всеми забыт.
Это был один из тех нервных узников, которые через неделю заточения начинают неистовствовать, а через шесть недель умирают, изможденные более, чем иные за шесть десятилетий.
Он уже успел пройти все мыслимые степени надежды, сомнения, отчаяния, какие другой познал бы не ранее, чем после всех ужасов суда, заточения и пыток.
Жесточайшую из всех мук причиняли ему подозрения и ревность.
Он предполагал, что был ввергнут в заточение по доносу Олимпии. Подозревал он ее и в том, что она назначила свидание драгунскому полковнику.
К тому же, продолжая после этой встречи свой путь под конвоем стражников, он слышал, как они говорили, что тот полковник не кто иной, как г-н де Майи.
Нетрудно вообразить его гнев и ревнивую недоверчивость.
Именно в таком настроении он услышал весть о приходе Олимпии.
Но следует сказать, что при виде ее он кинулся навстречу с безумным восторгом, который она тотчас умерила, ибо вооружилась для этого визита не только всем присущим ей собственным достоинством, но и ледяной холодностью.
– Ах! – сказал Баньер. – Вот и вы наконец!
– Вы меня не ждали?
– Я не думал, мадемуазель, что вы, столкнув меня в эту пропасть, еще найдете в себе смелость явиться сюда и оскорблять меня.
– Не нужно бесполезных фраз, господин Баньер. В этом мире не стоит играть с бедой.
– О! Вы мне очень помогли проиграть эту партию!
– Что вы имеете в виду?
– Не правда ли, ведь это вам я обязан тем, что угодил в тюрьму?
– Если это упрек в том, что, полюбив меня, вы пренебрегли своим прежним званием, вы правы: меня можно назвать виновницей вашего заточения.
– Я говорил о другом: я любил вас, а вы на меня донесли – вот что я хочу сказать.
– О! На подобную низость, вы это прекрасно знаете, я неспособна.
– И тот драгунский полковник, что искал вас вчера и, несомненно, нашел, он тоже неспособен на такое?
Олимпия побледнела: она хотя и ждала этого выпада, но чувствовала, что довольно слабо от него защищена.
– Вы видели господина де Майи, не так ли? – спросила она, и голос ее дрогнул от жалости.
Баньер принял это болезненное проявление чувства за раскаяние или страх.
– Что ж, вот вы и уличены! – сказал он. – Теперь вполне доказано, что вы со своим прежним любовником устроили заговор, чтобы меня погубить.
– Это настолько далеко от истины, господин Баньер, что я пришла сюда от имени полковника де Майи, чтобы принести вам свободу.
– Свободу? Мне? – вскричал изумленный юноша.
– Вы взяты по требованию иезуитов, они имеют на вас права. Так вот, господин де Майи придумал предложить вам подписать контракт о поступлении в его полк. Таким образом права на вас перейдут к королю, он в свою очередь предъявит их, и это поможет вызволить вас отсюда.
– Куда как великодушно! – с иронией вставил Баньер.
– Напрасно вы отзываетесь о добром поступке в столь язвительном тоне, ведь господин де Майи был властен не оказывать вам такой поддержки.
– А! Так вы его защищаете от меня! По-вашему, его благородство значит больше, чем мое несчастье?
– Ваше несчастье, господин Баньер, вами заслужено, – сурово отвечала Олимпия. – Но сейчас не время для обвинений. Контракт, что спасет вас от иезуитов, то есть от вечного заточения и духовного звания, которое столь мало вам подходит, этот контракт – вот он, еще без подписи. Угодно вам ее поставить?
– Прежде всего скажите, как вы намерены поступить со мной. В ваших словах слышится некая решительность, которая меня удивляет. Объясните мне…
– Пока вы не подпишете эту бумагу, не будет никаких объяснений.
– Но между тем для меня невозможно принять милость от человека, которого, может быть, вы еще любите.
– Господин Баньер, это вас совершенно не касается; сначала подпишитесь!
– Да какая вам корысть толкать меня на это?
– Моя корысть в том, чтобы вас спасти, чтобы доказать, что не я подстроила ваш арест, коль скоро я пришла, чтобы открыть вам двери. Подписывайте!
Баньер взял перо, протянутое Олимпией: она все подготовила заранее. Он подписал спасительный контракт не читая.
Дав чернилам просохнуть, она сложила бумагу и спрятала ее в карман.
– А теперь, – промолвил он, целуя руку Олимпии, – скажите мне, что вы меня по-прежнему любите.
Но она, не отвечая, продолжала:
– С этим контрактом господин де Майи потребует вас выпустить сегодня. Вы выйдете на свободу уже в четыре часа дня: этот срок – в точности тот, что потребуется, чтобы принять нужные меры и исполнить необходимые формальности.
– Вы мне не ответили, Олимпия, – с нежностью прервал ее слова Баньер. – Я спросил, любите ли вы меня по-прежнему.
– И не беспокойтесь, если произойдет некоторая задержка, – тем же непреклонным тоном продолжала мадемуазель де Клев. – Официал попытается не выпустить из рук свою добычу, однако господин де Майи решился действовать как облеченный властью.
– Олимпия! – снова, уже с большей силой прервал ее Баньер.
– Я также подумала, – она, казалось, не замечала, как узнику не терпится придать беседе иное направление, – что вам здесь должно быть не по себе без всякой поддержки и опоры. Я принесла вам денег, чтобы, выйдя на свободу, вы тотчас могли обрести необходимую солдату уверенность и соответственно экипироваться.
– Ну же, Олимпия, – взмолился доведенный до крайности Баньер, – вы что, не хотите мне ответить? Я спрашиваю вас: вы по-прежнему любите меня?
– Мне в самом деле не хочется вам отвечать, господин Баньер.
– Но ведь я хочу, чтобы вы ответили!
– Тогда я скажу вам то, что думаю, прямо. Нет, господин Баньер, я больше вас не люблю.
– Вы меня разлюбили! – воскликнул Баньер, приходя в ужас от ее слов и особенно от тона, каким они были произнесены.
– Да, – подтвердила она.
– Но почему? – пролепетал несчастный.
– Потому что позолоченные узы этой любви распались. Вы их истрепали по ниточке, а прежде чем истрепать, сделали тусклыми, обесцветили, загрязнили. А ведь для женщины иллюзия – главная опора любви. Вы же обманывали меня, потом принялись высмеивать, а там дошли и до грубостей. Я не могла более сохранять иллюзии, следовательно, и любовь ушла.
– Олимпия! – простонал Баньер, падая к ее ногам. – Клянусь, что никогда вас не обманывал!
– Я вам не верю!
– Клянусь жизнью, Олимпия, жизнью своей и вашей, что не давал Каталонке вашего кольца.
– Я вам не верю.
– Послушайте, Олимпия, раз я выйду на свободу и смогу действовать, все разрешится очень просто. Если Каталонка является или прежде была моей любовницей, то ее на это должно было толкнуть какое-то чувство, не правда ли? Это был каприз, желание или слабость. Она меня завлекала или я ее упрашивал. В любом случае ложь не в интересах ее самолюбия. Я прошу вас пойти к ней вместе со мной, и она расскажет обо всем, что было между нами; если она подтвердит, что я был ее любовником, что я дал ей ваш перстень, тогда делайте со мной что хотите. Убейте… нет – хуже того – покиньте меня!
Несчастный произнес эти слова с такой силой, так искренне, он вложил в них столько души и любви и рухнул к ногам Олимпии в таком глубоком отчаянии и в такой смертельной тревоге, что она была тронута, и он это заметил.
– Как вы думаете, – продолжал он, – мог ли я влюбиться, хотя бы на миг, в другую женщину, если вы были для меня всем, что мне дорого в мире, всем, чем живо мое сердце? Заблуждения чувств… Мой Бог! Вы бы простили их, и я бы вам их простил, да! О! Судите сами, как я вас люблю! Знайте же: если бы вы пришли и сказали мне, что господин де Майи вернулся, что он вас умолял и смог уговорить, что вы поддались слабости… Олимпия! Воистину я несчастный человек, я трус, я жалкий, презренный любовник, но я бы вам все простил, если бы вы сказали, что еще любите меня!
Олимпия чувствовала, что сердце у нее замирает, она боялась не устоять, пошатнуться, малодушно отдать свою руку поцелуям этого человека, которому красноречие неподдельной страсти придавало такую неотразимую силу.
Ей, чтобы спастись, не оставалось ничего иного, кроме грубой резкости, жестокости. И она нашла в своем сердце ту беспощадную твердость, какую умеют обретать в себе женщины, когда они разлюбят или считают, что разлюбили.
– Что ж! – произнесла она. – Вы меня принуждаете сказать откровенно то, что я хотела от вас скрыть. Господин де Майи вернулся ко мне, он смог убедить меня в своей любви; я проявила слабость и более себе не принадлежу.
Едва она начала говорить, стало видно, как кровь постепенно отливает от щек, губ, шеи Баньера и непрерывно усиливающимся потоком хлынула к его сердцу.
И женщина, еще недавно заставлявшая его трепетать, сама содрогнулась, таким страшным, оледеневшим он ей показался.
– Ах! Олимпия! Олимпия! – прошептал он.
Дрожь потрясла все его члены, и ноги у него подкосились.
До того коленопреклоненный, он теперь сел, затем откинулся назад и упал бы навзничь, если бы за его спиной не оказалось деревянной скамейки – единственной мебели, полагающейся узникам официала.
Она хранила мрачное молчание. Он же, пытаясь удержать жизнь, уходившую от него, с большим усилием вымолвил:
– Вы не можете быть такой непреклонной, казня меня за преступление, которого я не совершал, в то время как я готов не судить вас за ошибку, в которой вы сами признаетесь. Я вас прощаю, Олимпия; верните же мне свою любовь, ведь все произошло, не правда ли, по малодушию?
– Баньер, – глухим голосом проговорила она, – если бы я не считала вас виновным, я никогда бы не нарушила клятвы, данной вам… Не прерывайте меня. Я вижу, вы раскаиваетесь, теперь вы понимаете, какой я была и какой осталась. Но слишком поздно.
Он глядел на нее с видом полного отупения.
– Отныне, Баньер, – собравшись с духом, продолжала она, – мы расстаемся; позвольте же мне сказать вам напоследок, что, если бы вы действительно этого хотели, я навеки осталась бы вам верна.
– О Боже мой! – пробормотал он так же, как накануне, когда увидел г-на де Майи.
– Не перебивайте меня, господин Баньер; я уже вам сказала, что больше себе не принадлежу. Живите, займитесь делом, забудьте обо мне, это у вас получится без труда, и подумайте о том, что из двух выпавших нам жребиев ваш, быть может, легче. Сегодня сожаления терзают вас, но кто знает, не придется ли мне пожалеть завтра?
Произнеся эти слова, свидетельствующие о нежности и великодушии ее сердца, Олимпия сделала шаг к двери.
Видя, что она уходит, Баньер бросился или, вернее, совсем было собрался броситься ей наперерез – и остановил себя, лишь прошептав:
– Нет, не стоит труда! Она не кокетка. Если она говорит, что больше не любит, – значит, вправду разлюбила.
Он снова опустился на пол, погрузившись в полную прострацию. Это слово в нашем современном языке истолковывается слишком пошло: человек якобы склонился перед судьбой. Те же, кто его придумал, имели в виду, что оно означает окончательную раздавленность, когда в человеке все убито.
Олимпия приблизилась к несчастному и, видя, что он впал в состояние, близкое к потере рассудка, протянула ему руку; он не заметил этого.
Она вложила ему в ладонь принесенный с собой кошелек, набитый золотом; он, казалось, оставил и это без внимания.
Тогда она начала отступать к двери, и он даже пальцем не пошевельнул, чтобы остановить ее.
Страшная тяжесть легла ей на сердце; не отрывая взгляда от бедного юноши, Олимпия вместе с тем чувствовала, что долг призывает ее покинуть его, ведь она дала обещание другому.
Одно лишь слово Баньера, слеза, вздох или хотя бы движение пробудили бы в ней, может быть, последний порыв чувства, память сердца, но этот человек уже не подавал признаков жизни и не просил к себе внимания.
Тюремные двери открылись перед ней, и она стремительно, подобно молнии, вышла из них, охваченная страхом, до сих пор ни разу не изведанным: ее страшило, что узник вот-вот опомнится, что стоит ей скрыться из виду, как ее настигнет вопль несчастного, взывающего к утраченной любимой, колотя в несокрушимую дверь, и это, возможно, подорвет в ней мужество и поколеблет решимость.
Но нет! Она не услышала ни единого звука, кроме шороха бумаги, которой Баньер подтверждал свою готовность вступить в драгуны и которая всеми своими углами боролась с плотным шелком платья.
XXXVI. КАК БАНЬЕР ПОСТУПИЛ В ДРАГУНСКИЙ ПОЛК ГОСПОДИНА ДЕ МАЙИ
Оставленный Олимпией, Баньер провел ночь своего лионского ареста в темнице: он корчился на соломе, вертелся с боку на бок и бился лбом об стены.
Существуют муки, описанием которых никогда не соблазнится и самое изощренное перо, поскольку ему известно, что любая выразительность имеет свои пределы, а страдание их не ведает.
Под утро Баньер, истерзанный, разбитый, окровавленный, впал в род забытья, напоминающего сон не больше, чем смерть может походить на отдых.
Часов около восьми сквозь туман, окутавший его дух и помутивший его разум, ему померещилось, будто двери темницы отворяются и к нему подходят несколько человек.
Вслед за тем ощущение уже вполне материальное помогло ему выйти из состояния оцепенелости.
Он почувствовал, что его энергично пытаются разбудить, открыл глаза, обвел камеру тусклым взглядом и ценой почти мучительного усилия различил то, что происходило вокруг.
Над ним склонились два драгуна и изо всех сил трясли его, пытаясь вывести из состояния оцепенелости, между тем как стоявший перед ним капрал, видя тщетность их трудов, при каждой новой напрасной встряске давал приказ расталкивать спящего сильнее, и все это тем же тоном и с тем же хладнокровием, как он мог бы командовать на войсковых маневрах.
Эти толчки показались Баньеру настолько неприятными, что он сделал над собой второе столь же решительное усилие: вместе с сознанием он вновь обрел голос и сумел пробормотать:
– Чего вы от меня хотите?
– Капрал, – закричали драгуны, – он заговорил!
– Ну да, – отозвался капрал, – но я ничего не разобрал из того, что он там бубнит.
– Мы тоже, – признались драгуны, – Эй, друг! – и они вновь потрясли Баньера. – Повторите-ка, будьте добры, что вы сейчас сказали, а то начальник ни слова не понял, да и мы тоже.
– Я спрашиваю, чего вы от меня хотите? – угасающим голосом повторил Баньер.
– Капрал, – доложили солдаты, – он спрашивает, чего мы от него хотим.
– Слышу, черт возьми! – проворчал капрал. – Я не глухой.
Потом, обернувшись к Баньеру, он сказал:
– Чего мы хотим, приятель? Прежде всего мы хотим поставить вас на ноги, если это возможно, и отвести в казарму, затем напялить на вас мундир вроде нашего, потом научить взбираться на лошадь, а затем – управляться с саблей и карабином, чтобы сделать из вас пригожего драгуна.
– Сделать из меня пригожего драгуна, – повторил Баньер, пытаясь осознать упорно ускользавший от него смысл этой фразы.
– По крайней мере настолько, насколько это будет возможно, – прибавил капрал, который при виде разбитой, окровавленной физиономии Баньера, по-видимому, составил себе не слишком выгодное представление о внешности нового их товарища, а если так, был вовсе не склонен, по любимой в армии поговорке, обещать Баньеру больше масла, чем тот сможет намазать на свой бутерброд.
– А! Ну да, – пробормотал Баньер, – да, верно. Я этой ночью завербовался в драгунский полк де Майи.
И он со вздохом добавил:
– Я об этом забыл.
– Э, черт побери! – нахмурился капрал. – Похоже, приятель, память у вас коротка. Поберегитесь: для военной службы это не годится, в уставе на этот счет есть один пунктик. Мой вам совет хорошенько о нем подумать.
Баньер не отвечал: он вновь погрузился в то мрачное забытье, из которого был на мгновение выведен двумя драгунами многократными и все усиливающимися встрясками; по всей вероятности, он не понял ни слова из того, что сейчас сказал капрал.
И это было совсем не к добру.
Тем не менее стоило узнику встать на ноги, как он пошел; стоило ему пойти, как он оказался за воротами тюрьмы; стоило ему очутиться за воротами, как он вдохнул свежий воздух; стоило же ему вдохнуть свежий воздух – ив голове у него мало-помалу прояснилось.
Итак, он драгун.
Зато он больше не иезуит.
Его ведут в казарму.
Однако у них нет никаких причин запретить ему увольнения.
И он выйдет из нее, из этой казармы, причем сделает это даже не со дня на день, а с часу на час.
Вероятно, он выйдет оттуда еще сегодня, до наступления ночи, и тогда он отправится к Каталонке, так или иначе заставит ее возвратить ему кольцо; затем он пойдет к Олимпии и, как бы она ни упрямилась, докажет ей свою невиновность.
Впрочем, если ему не удастся ее убедить, он у ее ног просто пустит себе пулю в лоб, и этим будет сказано все.
Этот маленький план, решительно и бесповоротно сложившись в уме Баньера, придал крепость его ногам и упругость – рукам.
На миг у него мелькнула даже мысль использовать эту упругость, чтобы руками оттолкнуть двух солдат, шагающих по обе стороны от него, а там, положившись на крепость ног, пуститься в лабиринт улочек, где преследовать беглеца – немыслимое дело. Но он сообразил, что его приметы тотчас будут объявлены и его не преминут схватить прежде, чем он нанесет задуманные им визиты Каталонке и Олимпии.
Куда лучше сначала осуществить эти оба визита, а уж после действовать, сообразуясь с обстоятельствами.
Итак, Баньер потряс головой, чтобы изгнать из нее эти планы, безумные в своей преждевременности, и продолжал путь в казарму, придав лицу более спокойное выражение.
Он прибыл туда почти что с улыбкой.
Часы пробили девять утра, когда он вошел в казарму.
Казарма располагалась в глубине большого прямоугольного двора, служившего для воинских учений полка.
В то время, когда Баньер входил во двор, полк упражнялся в приемах пешего боя.
Помнится, мы уже упоминали о том, что драгуны пользуются привилегией принадлежать одновременно и к кавалерии и к пехоте.
Перед лицом неприятеля, под огнем, каждый конный драгун являет собою часть кавалерии, но как только его лошадь убита, он мгновенно превращается в пехотинца, отбрасывает саблю и хватается за ружье.
Итак, полк отрабатывал приемы пешего боя.
Два драгуна и капрал привели Баньера в кладовые. Поскольку для того, чтобы быть зачисленным в драгуны, требовалось не менее пяти футов четырех дюймов и не более пяти футов шести дюймов росту, обмундирование, сшитое по этим меркам, никогда не бывало ни слишком длинным, ни слишком коротким.
Разве что подчас ему случалось оказываться излишне просторным или чересчур тесным.
Каптенармус прошелся вокруг Баньера и с самонадеянным видом заявил:
– С этим молодцом все ясно, считайте, что мерку с него я уже снял. Дайте ему умыться да подровняйте волосы, потом ведите сюда. А я уж займусь остальным.
Баньер вышел во двор, ополоснулся под рукомойником и предоставил свою голову ножницам, за пять минут остригшим его кудри сообразно уставным требованиям.
Затем он отправился примерять мундир.
Когда он его надел, все признали, что из него в самом деле, как позволил себе выразиться капрал, получился весьма пригожий драгун.
Баньер, сколь бы ни были серьезны занимающие его мысли, все же не преминул бросить взгляд на осколок зеркала, приставленный к стене и служивший полковым щеголям для придания окончательного блеска своему туалету.
Сколько лионских красавиц утратили душевное спокойствие по вине этого осколка зеркального стекла!
Вот и Баньер, в свою очередь взглянув в него, к немалому своему удовлетворению нашел, что мундир отнюдь его не портит, и это открытие внушило ему тайную надежду, что, пленив некогда сердце Олимпии в облачении иезуита, он имеет немало шансов завоевать его вновь в наряде драгуна.
Только проклятая мысль о г-не де Майи, застряв в глубине сознания, непрестанно отравляла все мечты Баньера.
Конечно, в доказательство того, что она ему более не принадлежит, Олимпия призналась Баньеру, что возвратилась к своему прежнему любовнику.
Но ведь она это сказала в гневе, быть может просто желая воздать той же монетой за боль, которую сам Баньер ей причинил?
Впрочем, как он и говорил ей, Баньер, подобно каждому истинно любящему мужчине, ослабел духом и был готов во имя любви пожертвовать всем, даже честью.
Недурно! Если Олимпия в самом деле совершила то, что она сказала, Баньер, сумев доказать, что никогда ее не обманывал, окажется ее судьей, ибо он предстанет невинным, она же – виновной, и тогда… что ж, тогда он простит.
Он совсем было погрузился в эти исполненные милосердия замыслы, но тут капрал-наставник сунул ему в руки ружье и затолкал его в шеренгу новобранцев, которые осваивали дюжину ружейных приемов.
Баньер провел час между командами «На плечо!» и «На караул!», после чего ему было объявлено, что до полудня он волен делать все, что ему заблагорассудится.
А в полдень ему надлежит вернуться, дабы приступить к занятиям верховой ездой.
У своего капрала Баньер осведомился, можно ли ему смело выходить в город, не боясь иезуитов.
Капрал отвечал ему, что под защитой мундира его величества он вправе ровным счетом ничего не опасаться и ходить где вздумается, хоть под самыми окнами своего коллегиума, причем делать людям в черных ризах самые что ни на есть дерзкие и презрительные жесты.
Баньер не заставил повторять себе это дважды: он отсалютовал своему начальнику и с саблей у пояса, в шлеме, слегка сдвинутом на одно ухо, пересек двор, направился к наружным воротам и начал с того, что тщательно рассмотрел их, на всякий случай запоминая топографию всего увиденного.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































