Текст книги "Олимпия Клевская"
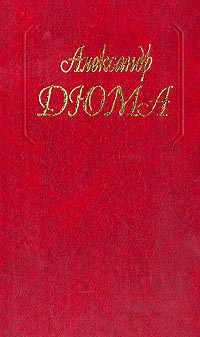
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 66 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
XVI. ДУША, СПАСЕННАЯ В ОБМЕН НА ДУШУ ЗАБЛУДШУЮ
Однако, наверное, так было предначертано свыше, в книге малых причин и великих следствий, чтобы в тот день происходило не меньше комических или трагичных происшествий, чем в нем содержалось часов.
Когда шел спектакль, во время последнего акта, в ту самую минуту, когда опустился занавес и все сгрудились вокруг дебютанта с поздравлениями, в еще безлюдный проход для актеров вошел бледный, мрачный, всклокоченный человек, медленно поднялся по крутым ступеням лестницы и, не глядя ни по сторонам, ни вперед, ни назад, повинуясь только заученной привычке, благодаря которой само наше естество, почти не прислушиваясь к душе или рассудку, выполняет то, что мы делали обычно, дошел до коридора, ведущего к актерским уборным.
Это был Шанмеле, обессиленный, разбитый, подавленный бессмысленным блужданием по самым темным и самым безлюдным улочкам Авиньона, Шанмеле, который, поднявшись и спустившись за вечер по добрым двум тысячам ступеней, истощив все грезы наяву, все страхи и все молитвы, а главное, все силы, решил, наконец, возвратиться, прежде всего чтобы узнать, что же все-таки без него произошло, а также чтобы испросить у своих сотоварищей прощения за то зло, какое он им причинил, оставив их без выручки, и, наконец, получив их прощение, уснуть, а при пробуждении обрести вместе со свежестью мыслей и наставление, внушенное Господом.
По правде сказать, издалека, со стороны сцены, до Шанмеле доносился какой-то шум, похожий на крики «браво», но долетев до него, все теряло свою определенность и на таком расстоянии могло бы сойти как за эхо стенаний и жалоб, так и за овацию.
И Шанмеле продолжал путь к своей гримерной.
Итак, именно с теми чувствами, что мы описали, он вступил в эту гримерную, вместилище собственной неправедности, будучи более чем когда-либо предрасположен к раскаянию.
Но едва он переступил порог, как ему в глаза бросилось сложенное на стуле аккуратной стопкой иезуитское одеяние; на стопке лежала треугольная иезуитская шляпа, с набожным тщанием вычищенная театральной прислугой.
Это зрелище исторгло у Шанмеле удивленный вопль: актер не верил собственным глазам. Он приблизился, потрогал одежду рукой и только тогда поверил, что она не нарисована, не бутафорская, как говорят в театре. После чего он воздел обе руки к Небесам и пал на колени.
Эти одеяния, ожидавшие его вместо Иродовых в собственной гримерной, послужили ему как бы указанием свыше той стези, по которой ему надлежало идти. Шанмеле даже не вспомнил, что видел Баньера в иезуитском облачении, он был далек от догадки, что юноша, силой затащенный в актерское фойе, попал в силки, приманкой в которых служили прекрасные глаза мадемуазель Олимпии, и сыграл Ирода. Он никого ни о чем не стал спрашивать. Эта одежда показалась ему знаком предначертания его новой жизни, свидетельством воли Всевышнего. Ряса иезуита, ниспосланная с Небес в гримерную комедианта, – указание гораздо более существенное, чем какой-то сон; Провидение сделало большой шаг вперед, если сравнивать с видениями в семье Шанмеле. Итак, сомнения прочь! Колебания прочь! Сменить, скорее сменить одеяние!
С этой минуты усталость покинула его вместе с нерешительностью. В мгновение ока Шанмеле сбросил то, что было на нем, схватил сутану и штаны Баньера, напялил его шляпу и, преисполненный воодушевления, вышел как раз тогда, когда все его товарищи направились в фойе воздать должное ужину г-на де Майи.
Но не прошел он и десяти шагов по темному коридору, бормоча предписанные ему отцом де ла Сайтом в качестве епитимьи пять «Pater» и пять «Ave», как служители отца Мордона, видя приближающегося к ним в сумраке иезуита и не ожидая, что в полночный час в городе может оказаться какой-либо иной послушник, кроме Баньера, бросились на актера, один проворно надвинул ему шляпу на самые глаза, другой завязал платком рот, оба основательно потрулились, осыпая ударами кулаков его бока, и под конец уволокли беднягу, словно две охотящиеся вместе пустельги – воробушка.
Через десять минут все трое были уже в коллегиуме, не попавшись на глаза никому из прохожих, весьма, впрочем, редких в столь поздний час ночи.
Поскольку их ожидали, то стоило им постучать, как дверь тотчас распахнулась и затворилась за ними.
В тот же миг торжествующие возгласы обоих служителей и брата-привратника оповестили всех, что Баньер пойман и водворен в обитель.
– Кто там? – спросил отец Морд он с порога кельи, где он ожидал их прибытия.
– Это он! Это беглец! Вот Баньер! – прокричало разом восемь или десять голосов.
– Отлично, – кивнул настоятель. – Тащите его в залу размышлений.
Приказ отца Морд она был исполнен буквально: беднягу Шанмеле, которого все еще принимали за Баньера, перенесли наверх в залу размышлений и положили на пол, после чего по данному им знаку служители удалились, унося с собой улыбку настоятеля и его «optime! note 32Note32
Превосходно! (лат.)
[Закрыть]».
Тем временем дотоле молчаливая жертва, связанная, завернутая словно тюк, со шляпой, надвинутой на глаза, не чувствуя на себе больше чужих рук, забилась, хрипя и силясь сорвать душивший ее платок. Де ла Сант, имевший доброе сердце, помог, как умел, страдальцу, так что сначала была сдернута шляпа, а затем и развязан платок.
– Но это не Баньер! – вскричал настоятель.
– Это Шанмеле! – воскликнул де ла Сант.
И оба в полнейшем недоумении смотрели на комедианта, который сидел на полу с блуждающим взглядом, с безвольно мотающимися руками, с уткнувшимся в колени носом, переводя глаза с отца Мордона на отца де ла Санта, не узнавая никого из них, не ведая, куда его притащили, вовсе не понимая, что же с ним произошло, и напрасно спрашивая себя, кто же эти два странных персонажа, сыгравших перед ним роли доброго и злого разбойника.
Наконец он узнал одежды, а по ним и окружавших его людей, и дом, где он очутился. Господь продолжал являть ему благоволение, ибо его привели силой туда, куда он мечтал попасть, если бы его допустили. Он подпрыгнул, упал на колени с ловкостью эквилибриста и, хватая святых отцов за руки, пролепетал:
– О, хвала Создателю, бросившему меня в ваши руки!
В ответ оба святых отца только скрестили свои руки, устремив друг на друга вопросительный взгляд.
Но, поскольку самые замысловатые хитросплетения даже в испанских комедиях-путаницах рано или поздно находят разъяснение, отцы-иезуиты в конце концов распутали нить этой интриги. Актера покинули в зале размышлений при открытых дверях, не опасаясь его бегства, и, в то время как де ла Сант остался в обители, получив четкие наставления, как поступать в чрезвычайных обстоятельствах, отец Мордон помчался к градоначальнику, чтобы пустить по следу Баньера более искусных и надежных ищеек, нежели те, какими располагал коллегиум.
Почтенный магистрат, которого немало развлек спектакль, повеселел еще больше, узнав, кто там дебютировал. Не переставая громко хохотать, он дал приказ найти и схватить метра Баньера, где бы тот ни оказался.
Как арестует градоначальник школяра – смеясь или не смеясь, – мало волновало отца Мордона, лишь бы только послушник был пойман. Поэтому он поблагодарил градоначальника за любезность, и тот, все еще посмеиваясь, проводил его до дверей.
Итак, в тот час каждый преуспел сообразно своим устремлениям. Баньер находился подле мадемуазель Олимпии; Шанмеле быстрым шагом продвигался по пути к спасению; отец Мордон питал надежду схватить послушника. Градоначальник, пустив стражников по следу беглеца, хохотал во все горло, так что Вольтер, виновник всего переполоха, увидев все это, вскричал бы, как он и сделает двадцать лет спустя, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров.
Первым, кто мог бы оспорить справедливость этой максимы, оказался бедняга Баньер.
Вспомним, что мы покинули его сияющим от счастья в покоях прелестной Олимпии, с устремленным на нее взором, молитвенно сложенными руками, готовым пасть на колени, когда громкий стук дверного молотка заставил его содрогнуться.
Новое вторжение несомненно предвещало события чрезвычайные, ибо Олимпия тоже вздрогнула и жестом приказала Баньеру прислушаться.
Почти тотчас раздался новый, еще более настойчивый стук.
Олимпия подбежала к окну, в то время как Баньер, поневоле догадываясь, что может оказаться причастным к этому ночному визиту, замер, окаменев в той же позе, в какой его застиг первый удар в дверь.
Актриса отодвинула уголок занавески, осторожно приоткрыла окно и глянула вниз сквозь щели решетчатых ставен.
Сквозь открытое окно до Баньера донеслось нечто похожее на мерный топот и шум приглушенных голосов.
Не говоря ни слова, Олимпия жестом пригласила юношу подойти поближе.
В три прыжка он оказался рядом с ней и посмотрел вниз через ту же щель, что и она.
У входной двери толпилась дюжина вооруженных и безоружных людей, а в нише ворот стояла карета, запряженная парой лошадей.
– Что вы об этом скажете? – спросила она так тихо, что Баньер угадал смысл произнесенного скорее по ее дыханию, ласково тронувшему его щеку, нежели по звуку голоса.
– Увы, мадемуазель! – тяжело вздохнул он. – Похоже, все на свете имеют зуб против царя Ирода.
– Да, – кивнула она. – Не правда ли, оттуда на целое льё разит иезуитом? Скажите, неужели у вас осталось хоть малейшее желание вернуться к этим гадким людям в черном?
– О мадемуазель! – вскричал Баньер громче, чем то допускала простая осторожность. – Я готов бежать от них хоть на край света!
– Тсс! – шикнула на него Олимпия. – Вас услышали.
И действительно, пристав, которого нетрудно было распознать по надменной чопорной осанке и недовольному лицу человека, поднятого с постели, противный пристав, весь в черном, среди своих одетых в серое приспешников, поднял голову и, отделившись от остальных, подошел почти под самый балкон.
– Быстрее, быстрее! – заторопилась Олимпия. – Нельзя терять время: они пришли за вами. К счастью, дверь крепкая и у нас есть в запасе минут десять, пока ее выломают.
– Думаете, они ее выломают? – спросил Баньер.
– Не преминут. Но за десять минут можно сделать немало, если, конечно, – тут она посмотрела на Баньера, – не терять головы.
– Мадемуазель, – зашептал Баньер, – только одно может заставить меня потерять голову: боязнь не понравиться вам; но, оставаясь уверенным и в вашем одобрении и в вашей симпатии, я готов схватиться хоть с целым светом.
– Отлично сказано, – отметила Олимпия. – Идемте!
– Но, – возразил Баньер, указывая на свой злополучный костюм царя Ирода, – эта одежда мне будет мешать.
– Переодевайтесь немедленно, – отвечала Олимпия, увлекая его в туалетный кабинет.
Подойдя к большому платяному шкафу, скрытому под обоями, она распахнула его, и Баньер увидел там целый гардероб.
– Переодевайтесь, не теряя ни секунды! – приказала актриса. – Я поступлю так же. У вас на все пять минут.
В тот же миг третий удар, еще мощнее предыдущих, потряс дверь и торжественно прозвучали слова:
– Именем короля, откройте!
XVII. ПОБЕГ
Эти слова пришпорили Баньера сильнее, чем совет Олимпии.
За пять минут он вполне покончил со своим туалетом и уже собрался с победительным видом вернуться в комнату Олимпии, когда на ее пороге столкнулся с очаровательным юным кавалером.
Баньер испустил возглас изумления, но уже со второго взгляда узнал под мужским нарядом Олимпию.
– О, как вы прекрасны! – воскликнул он.
– Вы поговорите об этом позже, любезный мой Баньер, и, признаюсь, я бы послушала такие речи с подлинным удовольствием, поскольку то, что у вас вырвалось, принадлежит к разряду фраз, что никогда не надоедают женщине. Но именно теперь нам нельзя расточать время на комплименты. Идемте!
– А куда?
– Откуда я знаю? Куда приведет нас случай.
– Приведет нас, говорите вы? Так вы идете со мной?
– Разумеется! – решительно отвечала актриса.
– Значит, вы меня любите? – не веря своим ушам, вскричал Баньер.
– Не знаю, люблю я вас или нет, но точно знаю, что мы сейчас уходим. Кстати, вы готовы?
– Готов ли я? – вскричал Баньер. – Конечно, готов!
– Тогда более ни звука. Следуйте за мной и делайте все, как я.
Она подошла к секретеру и открыла его. Две тысячи, оставленные г-ном де Майи, лежали там аккуратнейшим образом разложенные по ранжиру: одна – в свертках по сто луидоров в каждом, другая – в билетах на предъявителя.
– Берите золото! – приказала Олимпия. – Я же захвачу бумаги.
И пока она рассовывала кредитные билеты по карманам, Баньер набивал свои золотом.
– Готово? – спросила она.
– Да, – ответил он.
– Теперь возьмите это.
– Что еще?
– Мой футляр с украшениями. Отнеситесь к нему со вниманием.
– Он в верном месте, будьте покойны. Но что вы еще ищете?
– Перстень.
– Ах, да! – огорченно прошептал Баньер. – Перстень господина де Майи. Кажется, я видел его на камине.
Он протянул руку и, проведя ладонью по мраморной доске, промолвил:
– Вот он.
– Давайте сюда, – сказала она и надела перстень на палец.
– Вы слышите? – произнес Баньер.
– О, быстрее, быстрее! – вскрикнула Олимпия. – Дверь поддается!
– А как же мы, что нам делать?
– Поступим как эта дверь, – с очаровательной улыбкой произнесла актриса.
И, схватив послушника за руку, она повлекла его за собой.
– Куда вы? – в ужасе прошептал Баньер. – Не забывайте! Вы идете прямо им в руки!
– Доверьтесь мне, – успокоила его Олимпия.
И он покорно пошел за ней по коридору, ведущему к лестнице.
В коридор выходила дверь, Олимпия открыла ее, втолкнула юношу в какой-то кабинет и влетела туда вслед за ним.
Едва они затворили за собой дверь, как по лестнице послышался топот торопливых шагов пристава и его стражников, которые перебудили весь дом, вскоре огласившийся криками ужаса мадемуазель Клер и других слуг Олимпии.
После того как этот ураган пронесся, не задерживаясь, мимо двери их кабинета, актриса, задвинув за дверью все запоры, отворила другую дверцу, выходившую на узенькую лестницу; лестница заканчивалась темным проходом, ведущим в сад.
Только оказавшись на свежем воздухе, Баньер смог перевести дух. Беглецы скользнули под липами, добрались до калитки и очутились на крутой пустынной улочке – по ней и заспешила Олимпия, увлекая своего спутника.
Они бежали слишком быстро, чтобы завязать беседу, но держались за руки, и пальцы их были красноречивее уст. Не останавливаясь, они пробегали за улочкой улочку, за площадью площадь, за переулком переулок – вплоть до Ульских ворот, остававшихся открытыми на всю ночь.
Оказавшись за городской стеной, они спустились к реке, свежее дыхание которой напомнило о ее близости ранее, нежели перламутровый отблеск водной глади, мерцавшей за деревьями прогулочной аллеи.
Баньер метнулся было к деревянному мосту, но, вместо того чтобы последовать за ним, Олимпия потянула своего спутника вправо и начала спускаться по прибрежному откосу, словно школяр, отправившийся грабить огороды.
Он послушно следовал за ней. Бедняга! Держа на тоненькой шелковой нити, она могла бы привести его хоть в седьмой круг ада.
Молодые люди прошли по берегу Роны шагов сто, а затем Олимпия направилась прямо к маленькой лодке и отомкнула замок на ее цепи ключом, который она позаботилась прихватить, готовясь к бегству.
Вместе с ней прыгнул в лодку и Баньер.
– Умеете грести? – спросила его актриса.
– К счастью, да, – ответил он. – Когда мы отправлялись на прогулку, гребцом бывал я.
– Хорошо, – лаконично откликнулась Олимпия. – Так гребите.
Он сел на весла и рьяно принялся за работу.
А пришлось ему не сладко: Рона широка и быстра в том месте, где наши беглецы вознамерились ее пересечь. Но Баньер не солгал – он не только оказался сильным, упорным гребцом, но и умудрился выказать определенную ловкость во владении веслами.
Тяжело дыша, истекая потом, до крови стерев ладони, он сумел пересечь реку так, что их отнесло не слишком далеко.
За спиной беглецов ни единый звук не свидетельствовал о том, что их преследуют.
Когда они достигли противоположного берега, Олимпия, все это время выполнявшая роль лоцмана, привязала лодочную цепь к одной из причальных тумб, местоположение которой ей было известно, позволила Баньеру протянуть ей руку, спрыгнула на сушу и бросилась бегом в направлении Вильнёв-лез-Авиньона.
Баньер побежал с ней радом, все еще ни о чем не спрашивая.
Впрочем, нашим беглецам не было нужды бежать в темноте к белевшей на склоне холма деревеньке: в двух сотнях шагов от ее первых домов Олимпия, задыхаясь, изнемогая от усталости, но не переставая смеяться, остановилась около живописной хижины, полускрытой виноградными лозами.
Баньер застыл рядом.
– Постучитесь в этот ставень, – велела Олимпия. Баньер только и мог, что повиноваться. Он заколотил
так, что затрещала стена.
– Кричите: «Папаша Филемон!» – продолжала приказывать актриса.
И Баньер закричал голосом Стентора:
– Папаша Филемон!
Изнутри отозвался чей-то старческий голос.
– Он там. Подождем, – сказала Олимпия.
И она присела на деревянную скамью, прислоненную к стене.
Внутри дома раздалось тяжелое шарканье старческих ног в шлепанцах.
Олимпия тотчас три раза отрывисто постучала в ставень.
– А, это вы, мадемуазель Олимпия! – послышался блеющий голосок старика.
– Да, это я, папаша Филемон, – откликнулась актриса.
– Хорошо, сейчас открою.
– В этом нет нужды. Разбудите только Лорана, и пусть, не теряя ни минуты, он оседлает двух лошадей.
– А вы как же?
– Я подожду здесь.
– Очень хорошо, – ответил старик.
И шлепанцы зашаркали в глубь хижины.
– Олимпия, Олимпия! – прошептал Баньер, переводя дыхание лишь во второй раз с тех пор, как стражники постучали в дверь. – Что с нами происходит, Господь всемогущий! И что это за тайный ход, по которому нам удалось выбраться из дома?
– Да просто потайная дверь, любезный мой Баньер.
– И о ней никто не знал?
– Никто, кроме меня, Клер и господина де Майи. Баньер вздохнул.
– А лодка на реке?
– Лодка принадлежит одному маленькому кабачку, он называется «Прибрежный». Местопребывание его, как я подозреваю, послушникам неведомо, но известно всем влюбленным, которые приходят туда ужинать под сводами
беседок, а после ужина берут лодку, чтобы прогуляться к островам.
– И вы плавали к островам? – спросил Баньер, у которого от каждого нового откровения Олимпии становилось все тяжелее на сердце.
– Да, господин де Майи очень любил подобные прогулки, – невозмутимо ответила юная особа.
– А папаша Филемон, – все более печальным голосом продолжал Баньер, – кто такой папаша Филемон, если, конечно, этот вопрос не покажется вам нескромным?
– Нисколько. Папаша Филемон – старый слуга господина де Майи; хозяин подарил ему вот эту очаровательную хижину, два арпана виноградников и двух лошадей – время от времени мы их заимствовали у него для прогулок. Мы их позаимствуем и сейчас для нашего бегства.
И снова Баньер вздохнул, причем глубже, чем прежде.
– Что такое? – спросила Олимпия.
– А то, – печально потупился Баньер, разглядывая свои рукава, – а то, что я знаю: не к лицу мне вздыхать, поскольку все, что я имею, вплоть до костюма, – все позаимствовано у этого вельможи.
Говоря так, он смотрел на нее, и в его взгляде читалось: «Все-все, даже эта вот одежда, даже вы…»
Олимпия нахмурила бровки, словно для того, чтобы проложить в собственных мыслях такую же борозду, какую болезненная ревность проложила в сердце послушника.
Но Баньер, видя, как облачко набежало на ее лицо, не дал ей времени додумать и в порыве чувств бросился к ее ногам со словами:
– Ах, Олимпия, что бы ни случилось, примите мою клятву. Ради меня вы пожертвовали всем, моя жизнь принадлежит вам одной. Если вы меня любите – во что, по правде говоря, мне трудно поверить, ибо чем бы я мог вам понравиться, – если вы меня любите, то я вас просто боготворю! Тот день, когда вы разлюбите меня, станет несчастнейшим в моей жизни, но вы не перестанете быть для меня божеством, владычицей всей моей жизни. Вы подняли меня с самых низов, возвысили до себя; я буду достоин вас, и, клянусь, вам не придется раскаиваться, что предпочли жалкого послушника красивому благородному кавалеру…
– … который меня бросил, – с великодушной нежностью добавила Олимпия, подавая ему руку для поцелуя. – Пусть вас теперь ничто не беспокоит, – продолжала она. – И в будущем вам не следует ощущать на себе никаких уз, кроме тех, что наложит ваша любовь. У вас нет передо мной обязательств, и в день, когда вы, подобно господину де Майи, почувствуете, что вы не любите меня больше, вы будете свободны так же, как и он. Поверьте, мой милый Баньер, вы мне понравились. Думаю, я вас люблю, и я надеюсь любить вас и впредь. Останься господин де Майи по-прежнему моим покровителем, вы бы были для меня ничем. Но отныне я свободна. Любите меня, если вам так нравится, любите сколько вам угодно – это никогда дела не портит. Я считаю вас умным и решительным юношей и принимаю вас таковым. Все, что вам неизвестно в этом мире, в людях и обстоятельствах, вы узнаете. Будьте покойны: такие вещи познаются быстро. Если, набравшись знаний, вы не сделаетесь лучше, что ж, значит, я обманулась, моя ошибка – мне и расплачиваться. Тут все сказано, не будем больше касаться этих пустяков. Жизнь двух влюбленных должна начинаться только с того дня, когда они узнали друг друга: до того они просто не существовали, поскольку не были знакомы. А значит, прошлое для нас ничто. Смотрите: вот наступает теплый сияющий день, он станет первым в жизни нашей любви. Как говорят в театре, все остальное отправлено на задний план. Не будем поднимать задник, он скрывает лишь сломанные декорации и устаревший реквизит. Вы слышите: уже постукивают копыта. Лошади во дворе. Дайте мне вашу руку и посмотрите на меня. Вижу, вы меня любите. Так оставьте все заботы: когда вы перестанете меня любить, вам не придется мне об этом сообщать.
Баньер снова упал к ногам прелестной Олимпии, тысячу раз осыпал поцелуями ее ноги и руки, а папаша Филемон между тем, открыв ставень и дверь, вышел по-деревенски полуодетый, чтобы с гостеприимной улыбкой предложить гостье стакан кагора и кусок пирога.
Юноше же, который робко на нее поглядывал, хозяин оказал ту же любезность, разве что стакан был поменьше и кусок потоньше.
Актриса попросила Баньера вынуть один из свертков, отягощавших его карманы, разорвала бумагу, вложила в руку старика двойной луидор, дала один луидор Лорану, смело вскочила на коня, в то время как послушник робко вскарабкался на своего, и, получив подробнейшие разъяснения, они поскакали по дороге вверх вдоль правого берега Роны к Рокмору, предварительно договорившись с папашей Филемоном, в каком постоялом дворе будут оставлены его лошади.
И пока они галопом мчатся по прекрасным дорогам, еще не превращенным летним зноем в реки пыли, по прекрасным дорогам, обрамленным ровным дерном откосов, оливами с отливающей серебром листвой, зеленеющими садами; пока они, радостные, с растрепанными ветром волосами впивают свежесть утра и свободы, устремляясь навстречу неведомому будущему, которое никогда не дает к себе приблизиться, рассеиваясь, словно мираж, – мы возвратимся вспять, уделив несколько строк лицемерного сочувствия бедным стражникам и незадачливому приставу, наперегонки перевернувшим все вверх дном в комнатах, шкафах и укромных уголках, обыскавшим лестницы, подвалы, чердаки, конюшни, прочесавшим дворы, сады и сараи и, наконец, нашедшим, но, к счастью, с опозданием в целый час, потайную дверь. Обнаружение ее исторгло из их уст крики ярости, злобные проклятья и такую брань, какая могла бы привести в негодование даже иезуитов, для угождения которым они пустились в это скверное и так мало удавшееся им предприятие.
И почти излишне добавлять, что градоначальник, узнав, сколь неудачно сложились дела у отца Мордона, разразился новым залпом хохота.
К какому милому типу натур человеческих принадлежал градоначальник славного римско-католического апостолического города Авиньона!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































