Текст книги "Природа зла. Сырье и государство"
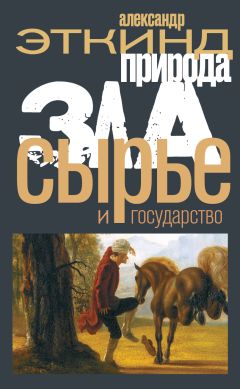
Автор книги: Александр Эткинд
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Белка
В Северной Европе меха были символом богатства и власти. Первым у восточных славян словом, обозначавшим денежную единицу, было «куна», куница. Предметом внешней торговли новгородских купцов была серая белка, которую они сначала собирали в качестве оброка с собственных владений, а потом ради нее колонизовали северо-восток Европы вплоть до Урала. Много раньше французских предпринимателей, освоивших пушное богатство Канады, русские промышленники научились использовать опыт и технологии северных народов. Сочетая бартерную торговлю с прямым принуждением, потомки Рюрика создали торговую систему, которая давала им неслыханные богатства, но уничтожала животных и людей, подрывая свои эколого-экономические основания. Потом Московское государство ликвидировало Новгородскую республику, чтобы продолжить пушную колонизацию. Продвигаясь все дальше на восток, московиты освоили в этих целях огромные пространства Северной Азии, а потом и Северной Америки. На изображениях московской знати мы видим шубы, шапки, опушки и оторочки, сделанные из соболя, бобра, ласки и куницы. Шапка Мономаха, соболиный символ верховной власти, прибыла в Москву со степного юга. Шотландская корона тоже была оторочена мехом горностая; для официальных портретов английские короли часто позировали в меховых мантиях; остров Манхэттен и река Гудзон осваивались голландцами и потом французами ради экспорта бобровых шкур в Европу; и очень долго символом принадлежности к британской элите оставался цилиндр, сделанный из бобра.
Открытие русского меха связывали с Александром Македонским. Одна запись «Повести временных лет» живо рассказывает об этом давнем событии: «Дивное чудо мы нашли, о котором не слыхивали раньше… в горах тех стоит крик великий и говор… И не понять языка их, но показывают на железо и делают знаки руками, прося железа, и если кто даст им нож ли, или секиру, они в обмен дают меха». Эти люди, народ югра, были нечисты, рассказывает «Повесть», и потому Александр с божьей помощью запер их в горах северного Урала. Они выйдут на свободу, когда придет конец света, а до тех пор их участь – торговать пушниной в обмен на железо. Немой обмен сырья на сырье был образцом для многих последовавших событий.
В лесах Евразии ареал серой белки практически совпадает с ареалом человека; неприхотливая белка только выигрывала от поджогов лесов и осушения болот, с помощью которых человек создавал свое жизненное пространство в долинах северных рек. Белка ест примерно то же, что ели древние люди-собиратели: орехи, семена, грибы, почки растений, яйца птиц. Она легко переносит близость к человеку и поддается приручению. Ничто не мешало человеку подкармливать белку летом, одомашнивая ее примерно так, как это случилось с тутовым шелкопрядом или с лесными кабанами; но, возможно, пушистого зверька было так много, что в этом не было нужды. Сухие, легкие и, при должном хранении, недоступные гнили, шкурки серой белки были идеальным товаром. В течение трех веков он устойчиво лидировал в новгородском экспорте; другие меха (горностай, бобер, соболь, лиса, ласка) ценились гораздо выше, но по объемам не составляли конкуренции белке. Относительная монополия Новгорода на торговлю этими товарами не была природной: естественный ареал белки покрывает всю Европу. Спрос на шкурки был результатом обезлесения, которое к концу Средних веков было свершившимся фактом на большой части континента. Северные реки, освоенные еще викингами, и Балтийское море давали удобные пути для масштабной торговли. Распределенный общинный ресурс, добываемый для массового потребления, являлся залогом общего богатства и относительного равенства. Пока Новгород торговал белкой, в нем сохранялось благополучие, независимость от князя и подобие демократии.
Охота была сезонной и потому не мешала аграрным занятиям. Белку били зимой, когда мех ее более плотный, луком с тупыми стрелами, чтобы не повредить шкурку; с таким промыслом мог справиться любой крестьянин. Шкурки очищали, промывали, сушили. Обработка требовала времени и умения; в ней, скорее всего, участвовали женщины. Потом шкурки доставляли в город санным путем. В Новгороде их сортировали и паковали для экспорта либо перерабатывали для местного потребления. Тонкие, легкие и гибкие шкурки легко сшивались; из них делали теплую одежду, чулки, шапки и многое другое. Даже с учетом транспортных расходов эти товары были дешевы.
Торговля пушниной была одним из главных занятий Ганзейского союза, в который входил Новгород. В XIV веке в городе был выстроен «Немецкий двор», крупная фактория со складами, причалами и бараками. После покупки и сортировки меха немцы перевязывали шкурки связками, а связки одного сорта упаковывали в бочки. Для этих операций в Новгороде держали десятки немецких служащих. Сортировка товара на несколько категорий, отличных по качеству и цене меха, была столь важным делом, что его не доверяли местным. Монопольный покупатель общинного ресурса, ганзейская фактория держала заниженные цены, получая сверхприбыль. В соответствии с меркантилистской логикой новгородские скорняки работали только на местный рынок, а в дальнюю торговлю шло лишь сырье.
Весной бочки меха, упакованные ганзейскими мастерами, переправляли речным путем по Волхову через северные озера в Неву и дальше по Балтийскому морю в Любек и Бремен. Оттуда русский мех доставлялся дальше – в Лондон, Париж, Флоренцию. В обмен новгородцы получали серебро, оружие, ткани, сельдь и цветные металлы. Когда в городе случался голод, импортировали и зерно. Пушной промысел обеспечивал значительную часть серебра, которое было необходимо торговой республике для оплаты наемников и выплаты дани татарскому хану. Ему, впрочем, платили и мехом. На огромных территориях, подвластных Новгороду, поставки беличьих шкур наряду с зерном зачитывались в крестьянский оброк.
К концу Новгородской республики экспорт белки приобрел огромные масштабы: одна партия белки состояла из 100 000 шкурок, а в целом новгородский экспорт оценивают в полмиллиона беличьих шкурок в год. В 1391 году один Лондон импортировал 350 960 беличьих шкурок. Только на один костюм для Генриха IV у лондонских скорняков ушло 12 000 беличьих шкурок, добытых за тысячи миль к востоку. Беличий мех, дешевый и легкий, был и товаром массового спроса.
По мере истощения белки и роста объемов экспорта новгородским отрядам приходилось двигаться в чужие земли, которые они считали ничейными, и заставлять местные племена добывать шкурки. Белка была распределенным ресурсом с широким ареалом, и все же ее ждал обычный для таких ресурсов конец – «трагедия общин». В отличие от людей, пушные звери – белки, бобры, соболя – не способны к миграции. Если их истребляли в местах их обитания, они исчезали навсегда.
Под Новгородом массовым промыслом занимались бояре и монастыри, которые сбывали шкурки через посредников-купцов. Но охота смещалась к востоку, и купцы отправлялись туда с вооруженными отрядами, исследуя обширные земли вплоть до Белого моря и Уральских гор. Промысел был опасен: в 1445 году племена Югры нанесли поражение трехтысячному отряду новгородцев. Смещаясь далеко на восток, промысел менял свой характер: из общинного он становился олигархическим. В этом состоял механизм возвышения новгородского купечества, которое стало необычно сильной, вооруженной корпорацией, независимой от родовой аристократии и имевшей свои, торговые представления о мире и власти.
В XV веке Лондон стал импортировать меньше пушнины. Вероятное объяснение кризиса новгородского экспорта в том, что беличьи шкурки не могли выдержать конкуренции с шерстяными тканями, производство которых в Англии росло благодаря испанскому импорту. Ресурсно-зависимое государство всегда боится истощения сырья, но больше страдает от новых технологий, делающих его ненужным. Пострадал и огромный Ганзейский союз: хотя Ганза торговала многим – зерном, древесиной, сушеной треской, селедкой, – ее распад произошел вслед за спадом меховой торговли. Падение прибылей повлекло за собой конфликты между русскими княжествами. Оккупация Новгорода московскими войсками в 1478 году происходила на фоне сырьевой катастрофы – падения цен и уменьшения экспорта меха.
Соболь
Тогда на смену новгородской белке и пришел московский соболь. Предмет роскоши, он не конкурировал с шерстью и имел устойчивый спрос в Европе. Путь в Сибирь, страну соболей, лежал через Казань. Московские войска захватили ее в 1552 году, что стало поворотным моментом в истории российской колонизации. В 1581-м Ермак с 800 казаками добрались до сибирского хана, перетаскивая лодки, выдолбленные из цельных стволов, между реками. На третьем году сибирского промысла Ермак погиб, но 24 000 соболиных, 2000 бобровых и 800 шкур черно-бурой лисы были отосланы в Москву.
Московские купцы создавали пушной промысел в несколько этапов. Во-первых, вооруженные отряды отнимали уже выделанные меха. Во-вторых, пришельцы накладывали на туземцев дань в виде определенного количества шкур в год, вынуждая их становиться трапперами. В-третьих, служивые люди создавали в городах и на дорогах таможенные посты, которые снимали пошлину – обычно десятину – с перевозок меха. Русские прибывали небольшими группами и сами редко охотились на пушных животных. Для ловли зверей и свежевания тушек – занятий, требовавших специальных навыков, – они нуждались в коренном населении, которое традиционно использовало меха для теплой одежды и строительства жилищ. Но интереса к добыче пушнины в массовых количествах у северных племен не было, как не было и понятий о справедливой цене, о выгоде и накоплении. Только принуждение могло превратить рыбаков или оленеводов в ловцов и охотников. Ясак пушниной брали только с нерусского и неправославного населения; русские в Сибири платили подушный налог, который взымался деньгами. Пока туземцы поставляли меха, чиновникам было выгоднее поддерживать их «в первобытном состоянии», а не крестить, создавать для них школы и собирать рекрутов. Впоследствии даже христианским общинам старообрядцев приходилось платить ясак, а не налог: государство пользовалось любой возможностью для того, чтобы сохранять меховые сверхдоходы с «неправославного» населения.
Со всей Сибири ясак поступал в Тобольский Кремль, где сортировался, оценивался и санными караванами перевозился в Московский Кремль. Наряду с ясаком, который шел прямо государству, процветала и частная торговля; ее обкладывали десятиной, которая тоже поступала в Сибирский приказ. Ловля зверя не имела длительных циклов, характерных для сельского хозяйства, и не нуждалась в участии женщин. Массовое насилие рутинно применялось в отношении животных и людей; в этих условиях бартерная торговля немногим отличалась от кабальной сделки. Русские обменивали меха на железные изделия и наркотики – алкоголь и табак, к которым быстро привыкали северяне. В начале ХV века московский монах Епифаний Премудрый, рассказывая о трудностях миссионерской работы в пермских лесах, так передавал слова местного шамана: «У вас, у христиан, один бог, а у нас много богов… Потому они дают нам добычу… белок, соболей, куниц, рысей – и всю прочую ловлю нашу, часть которой ныне достается и вам. Не нашей ли ловлей обогащаются и ваши князья, и бояре, и вельможи? В нее облачаются и ходят, и кичатся… Не наша ли ловля посылается и в Орду, и… даже в Царьград, и к немцам, и к литовцам, и в прочие города и страны, и к дальним народам?»
Ресурсная зависимость Московского государства все увеличивалась. В 1557 году каждый мужчина в Югре должен был сдать одну соболиную шкуру в год, в 1609 году – уже семь. По данным, которые приводит историк сибирской пушной торговли Олег Вилков, всего в Сибири за 1621–1690 годы было добыто более семи миллионов соболей. Среди немногих заимствований из русского в английском появилось слово «sable» – соболь. Российские источники оценивают доход от торговли пушниной в четверть валового дохода Московского государства. Правда, для средневековой экономики оценка валового дохода не имеет смысла: сюда входит огромная доля товаров, производившихся и потреблявшихся в натуральном хозяйстве, к которому государство не имело отношения. Для государства важен располагаемый им доход; в нем роль пушнины была доминирующей.
Охотясь на охотников, завоеватели встречали сопротивление со стороны многих племен, таких как чукчи, камчадалы и коряки. Сталкиваясь с вызовом, русские отвечали на него все более жестокими методами, от публичной порки до массовых убийств. Распространенным методом извлечения пушнины из туземцев был захват заложников-«аманатов». Русские держали у себя туземных женщин и детей, предъявляя их мужчинам в обмен на ясак. Если дети доживали до зрелого возраста, они осваивали русский язык; если их крестили, то они могли брать в жены русских женщин и вносили свой вклад в креолизацию местного населения. В 1788 году в «аманатах» находилось 500 алеутских детей. Российские императоры, включая просвещенную Екатерину, санкционировали такие методы в официальных документах, считая их верным способом «усмирить туземцев» и собрать ясак. Институт похищения заложников-аманатов широко использовался в российской колонизации Сибири и Аляски, но был неизвестен в британской, французской и испанской колонизации Америки. Слово «аманат», как «ясак» или «капкан», имело тюркское происхождение. Идеи и практики насилия расходились по Российской империи, двигаясь с Кавказа до Аляски.
История русской Сибири аналогична истории французской Канады, где многое было похоже, хотя происходило позже: исключительный интерес первооткрывателей к пушному зверю, быстрое его истощение, нужда европейцев в сотрудничестве с туземцами, открытие новых земель, рост промышленных городов из меховых факторий. В Канаде, однако, пушной промысел оставался в частных руках, как это было и в Новгороде. Прямое участие Московского государства, а потом Российской империи в организации сырьевого промысла в восточной колонии необычно в колониальной истории. Такая роль государства делала возможным неограниченное применение насилия. Ключом к успеху было огнестрельное оружие, хотя применялось оно только против людей, а для пушного промысла было бесполезным: портило шкуры. Постепенно казаки и промышленники научились приводить туземцев «под высокую руку великого государя», не применяя силу, а только демонстрируя ее. Когда вожди местных племен давали клятву служить русскому царю, в их присутствии палили из пушек и мушкетов, а туземцев выстраивали как лейб-гвардию. Приносить «дары» вождям племен, поддерживать дружбу с «шаманами», воспитывать и даже усыновлять «аманатов», вооружать одно племя против другого – таковы были обычные методы принуждать племена к выплате ясака. Во многих отношениях российское владение Северной Евразией было сопоставимо с другими зонами европейской колонизации. Правление было непрямым, а число колонистов ничтожно. Но местные племена уничтожались с размахом, который был невозможен в Индии. Потери коренного населения здесь скорее сопоставимы с тем, что происходило в Северной Америке.
Экономику, зависимую от ресурсов, определяет география. Пространства России и Канады, в их огромной протяженности на восток и запад, в равной мере сформированы пушным промыслом. С истощением популяций пушных животных казаки и трапперы двигались дальше и дальше, ища в новых землях все тех же зверьков, суливших богатство. Так русские достигали самых дальних северо-восточных концов Евразии – Чукотки и Камчатки и потом Аляски. Торговля пушниной привела многие племена на грань вымирания. В некоторых случаях это происходило настолько быстро, что стоит говорить о геноциде. В 1882 году сибиряк Николай Ядринцев перечислял народы Сибири, которые были уничтожены, но память о них еще сохранялась: камчадалы потеряли 90 % населения, вогулы – 50 % и так далее. На смену туземцам приходили русские трапперы; но тут началась депопуляция соболя. В начале XVII века хороший зверолов мог добыть 200 соболей в год, а к концу того же столетия – всего 15–20. Русский охотник мог выжить только соболями; белки, лисы и другие пушные звери оставались делом туземцев. В начале ХХ века Дерсу Узала, герой романов Владимира Арсеньева, все еще охотился на белок.
Сибирские меха питали демонстративное потребление по всей Европе. Серебро испанских колоний, чай и опиум английских колоний создали больше богатства и причинили больше страданий, чем меха; но с символической ценностью русского меха мало что могло сравниться. Спрос на пушнину на внутреннем рынке тоже был высок. Когда не хватало серебра, они играли роль московской валюты: были периоды, когда кремлевские чиновники и придворные доктора получали часть жалованья мехами. В начале XVI века польский наблюдатель, епископ Ян Лаский, сравнивал богатство, которое приносила Московии торговля пушниной, с успехом британской торговли индийскими пряностями. Объединяя страну, сибирские меха доставлялись в Москву сухопутным путем; оттуда они, тоже по суше, через Варшаву и Лейпциг, следовали в Европу. В 1560–1570-е годы объемы этой торговли резко упали, что совпало со Смутным временем. В ответ суверен монополизировал экспортную торговлю любым мехом и внутреннюю торговлю соболями. Но пушной промысел приходил в упадок. Когда в кремлевском казначействе соболиный мех сменился заячьим, московский период российской истории подошел к концу.
Государство экспериментировало и с другими товарами и институтами. Пенька, железо и, наконец, пшеница заменили меха в российском экспорте. Опричнина, крепостное право и, наконец, имперская бюрократия заменили континентальную сеть пушного промысла. Но государство стремилось сохранить свою сверхактивность. Его институты процветали, когда могли создать политическую экономию, обеспечивавшую доход, зависящий от ресурсов и не зависящий от труда. Были периоды, когда, по словам Ключевского, «государство пухло, а народ хирел». Были и такие времена, когда хирело государство. Установив торговлю с Архангельском в 1555 году, англичане интересовались древесиной, воском и другими лесными товарами; меха составляли небольшую долю в этой торговле. Английский король Яков ценил этот регион столь высоко, что в 1612–1613 годах, когда польские и казацкие войска захватили Москву, он обсуждал возможность прямой колонизации Архангельска. Волжский купец Кузьма Минин спас тогда Россию от поражения, финансируя войну из прибылей от солеварения: то была победа новой экономики, в которой ресурсы добывались не для элитного экспорта, а для внутреннего массового потребления. Когда смута наконец завершилась, притязания русского бизнеса переместились с северо-востока на юго-запад. Осторожная ранее политика Московского государства в отношении южной степи сменилась экспансионизмом. Что еще важнее, государство изобретало новые практики контроля и дисциплинирования населения. Зерно, массовый товар будущего, требовало большего труда, чем пушнина, и труда совсем иного качества.
Бобр
Открыв Ньюфаундленд в 1534 году, бретонский моряк Жак Картье был уверен, что находится в Азии, недалеко от Китая. Так он познакомился с ирокезами и увез во Францию двух сыновей их вождя и выделанные шкуры разных животных. Скромный, легкий для охоты бобр оказался главной приманкой для двух соперничавших тут империй, Французской и Британской. Ради этого промысла был основан Нью-Йорк.
Бобр был интересен не самой своей шкурой, но содержавшимся в подшерстке волокном, из которого при вычесывании и надлежащей обработке получалось легкое, прочное и водонепроницаемое сырье – фетр. В Средние века бобр водился по всей Европе, но к XVI веку остался только в Скандинавии. В Северной и Центральной России бобровые семейства содержали в запрудах как полудомашних животных, используя для боярской охоты. В Сибири его ценили, но к этому времени почти выбили; шкура бобра стоила там дороже соболиной.
Между тем после Тридцатилетней войны (1618–1648), которую выиграла Швеция, в моду по всей Европе вошли высокие шведские шляпы – жесткие цилиндры из бобрового фетра с широкими полями, которые сохраняли форму при любой погоде. Из того же материала делали и военные шляпы; треуголка Фридриха II и двууголка Наполеона были сделаны из бобра. В 1680-м Новая Франция отправила в Европу 140 000 бобровых шкур, а Новая Англия еще 40 000. Все они были куплены или выменяны у индейцев; скорняки ценили и ношеные шкуры, из них тоже вычесывали пух. Фетровые шляпы носили военные и штатские, католики и протестанты, но конечно богатые люди; материал был дорог. Только квакеры делали свои знаменитые шляпы, ни перед кем их не снимая, из шерсти. Форма бобровых цилиндров менялась, но мода на них удерживалась в течение трех столетий, приобретя глобальный характер. В 1830-х годах герой пушкинского романа, Евгений Онегин, выезжал на прогулку, «надев широкий боливар»: то был особо модный цилиндр, который в России назвали в честь южноамериканского политика. Впрочем, к тому времени бобровые шляпы уже вытеснялись шелковыми, еще более дорогими.
Перед вычесыванием мех часто обрабатывали ртутью, что было очень вредным процессом. Ремесло скорняка в то время было одним из самых опасных, наряду с ремеслом шахтера или металлурга – в них тоже употреблялась ртуть. Поливая мех ртутью, выбивая пух палками в закрытых помещениях и потом вываривая фетр в азотной кислоте, изготовители шляп болели неизвестными науке неврологическими заболеваниями, сходили с ума и рано умирали (отсюда фигура Безумного шляпника в «Алисе в Стране чудес»). Пух бобра такой обработки не требует; но по мере уничтожения бобра в далекой Канаде его ворс стали смешивать с кроличьим, который был в 50 раз дешевле. Похоже, даже самые дорогие шляпы делались из смешанного фетра: в них до сих пор столько ртути, что их опасно показывать в музеях. Бальзак иронизировал: есть же такие люди, которые гордятся тем, что носят на голове этот обломок печной трубы, покупая под видом бобрового фетра по 350 франков за фунт просто клок заячьей шерсти. В шляпах, которые хранятся в лондонском музее Виктории и Альберта, содержатся токсичные концентрации ртути, и их хранят в специальных пакетах. Ртуть содержится даже в пиратской треуголке середины XVIII века; а ведь чистая ртуть была открыта шведским химиком Георгом Брандтом только в 1730 году. До того алхимики учили, что ртуть является главной частью всех металлов, их женским началом. Превратить киноварь в золото не получалось, но ртуть помогала продать кроличий фетр как бобровый, так что золота получалось немало.
Все же эта индустрия поглощала огромные количества бобровых шкур. В Канаде французы освоили сложное искусство вовлечения индейцев в товарный обмен на своих условиях. Не ставя задачи заселения этих огромных территорий, они строили фактории, которые меняли бобровые шкуры на продукты цивилизации – оружие, спирт, порох, кастрюли. Конечные продукты труда менялись на предметы природной монополии. Главными партнерами стали индейцы племени гурон; по мере истощения бобра на своей территории гуроны стали посредниками между французами и другими индейцами. Бобровый промысел менял жизнь гуронов в большей степени, чем французов: сосредотачиваясь вокруг факторий и пользуясь железными орудиями, они переходили к оседлой жизни и сами торговали с бродячими племенами. В 1672 году один путешественник писал, что гуроны бросили свои прежние промыслы «из-за легкости получать новые орудия в обмен на шкуры, которые им практически ничего не стоили». Все же им пригодились и некоторые традиционные навыки, например умение делать каноэ, обтягивая легкую раму березовой корой; этими лодками пользовались и европейцы.
Устанавливая фактическую монополию на бобровый мех, Франция в союзе с гуронами препятствовала проникновению на эти берега Голландии, которой содействовали ирокезы. В 1670 году была основана английская Компания Гудзонова залива, которая с юга, через Великие озера, конкурировала с французскими факториями за торговлю с теми же племенами. Это поднимало закупочные цены и вело к новым проблемам. Традиционная вражда между индейскими племенами превращалась в войны посредников, обычный инструмент имперского влияния. Теперь племена использовали европейские ружья и преследовали коммерческие интересы. Сначала Европа была так же неизвестна им, как первым французам, попавшим в эти места, была неизвестна Америка. Но европейские обычаи, будь то чередование даров или кредитование под добычу следующего года, усваивались быстро. С 1675-го по 1687-й ежегодные поставки бобра в Европу удвоились. Меркантилистская политика препятствовала переработке сырья в колониях; шкуры лишь выделывались индейцами на месте, а колонистам оставалось рассортировать их, запаковать и отправить в Европу.
На рубеже XVIII века американские поставщики меха столкнулись с новым феноменом: цены на бобра стали падать. Причиной было появление новых сортов шерсти, которые стали подмешивать к бобровому пуху при изготовлении шляп. В моду стали входить и шелковые шляпы. С другой стороны, новые восточные рынки в Германии, Польше и России стали использовать бобровый мех для изготовления шуб. На рынке появилась специализация: мех белого бобра шел в Англию, где в моде были белые шляпы. Голландские фирмы сначала вычесывали пух, используя его для местных шляп, а шкуры с оставшимся мехом отправляли в Россию, где из них шили шубы. Часть бобровых шкур вывозилась для обработки в Россию, через Амстердам в Архангельск; поморки знали такой секрет вычесывания бобра, который был неизвестен в Западной Европе.
Британские, французские и голландские колонии в Америке пытались ограничить производство сырья и остановить падение цен. Им это не удавалось; невидимая рука двигала рынок в другую сторону. В 1720 году Нью-Йорк запретил торговлю с французскими колониями; в ответ ирокезы занялись контрабандой, продавая бобра на английские суда, обходя пошлины и снижая цены. Трапперы шли все дальше на север и запад, достигнув Тихого океана; там они встретились с трудностями снабжения, которые были знакомы русским колонистам. В Семилетней войне французы проиграли свои территории англичанам. «Вы знаете, эти две нации ведут войну из-за клочка обледенелой земли в Канаде и израсходовали на эту достойную войну гораздо больше, чем стоит вся Канада», – так описывал эту войну один из героев «Кандида». Англия получила монополию на бобровый мех; после Американской революции она сохранила торговые фактории в Канаде, но потеряла их на территории Штатов. В 1821 году британская Компания Гудзонова залива слилась с канадской Северо-Западной компанией, установив монополию на пушную торговлю по всей Северной Америке. Целью было удержание падавших цен; себестоимость бобровых шкур росла, а глобальный спрос падал. Этот промысел сокращался на протяжении всего XIX века.
Все же удивительно, что нишевый спрос цивилизованного мира на шляпы смог изменить жизнь огромного северного континента. По мере успеха промысла росло население; но там, где жил человек, вымирал бобер. Торговлю надо было вести во все более труднодоступных местах арктической части континента. Каноэ не могли достичь этих мест; они были доступны только пароходам. С их появлением канадцы – индейцы и белые – становились менее зависимы от бобрового промысла. Сельское хозяйство здесь оказалось вполне жизнеспособным. Еще больше рос экспорт древесины и изготовление бумаги.
Канадский социолог Харолд Иннис в основополагающей истории пушного промысла показал, что современные границы Канады совпадают с территорией бобрового промысла. Подобно тому как Сибирь в ее нынешних границах была создана соболем, Канада была создана бобром. Отношения между белым населением и туземными народами в истории Канады были более мирные, чем в истории США, потому что создавшая Канаду геополитэкономия основывалась на межрасовом сотрудничестве в добыче сырья, а не на конкуренции за землю. Иннис считает, что торговля сырьем разделила Северную Америку на три зоны: северную, которая производила мех; южную, которая производила хлопок; и центральную зону разнообразных производств, включавших рыбу Новой Англии и шахты Среднего Запада, но более всего зависевшую от труда своего населения. Меркантилистская политика Британской империи препятствовала развитию центра, замыкая на себя переработку северного меха и южного хлопка. Революция изменила эти отношения, и промышленный центр стал колонизировать окраины успешнее, чем это делала далекая меркантилистская империя. В свете своей теории менявших друг друга природных моноресурсов (staple theory) Иннис прослеживал, как бобровый промысел на рубеже XX века замещался поставками древесины. Лесопилки и бумажные фабрики использовали те же пути сообщения, что и бобровые фактории, и те же сельскохозяйственные земли поставляли им продовольствие. Теория моноресурсов показывает преемственность экономических укладов, зависящих от сменявшихся видов сырья, в историческом времени. Она показывает, как разработка других видов сырья, например зерна или калийных удобрений, оказывалась подчиненной центральному ресурсу, например древесине. Смена ресурсной парадигмы создавала новые эколого-экономические проблемы. Вырубка лесов и сплав сырой древесины приводили к заболачиванию рек. Бревен становилось все меньше, обрабатывать их становилось все труднее. Лесопилки, которые работали сначала на водных колесах, потом на паровых машинах и, наконец, на электромоторах, ставили все выше по течению. Все это требовало роста населения и увеличения площадей, распаханных под пшеницу. На месте бывших факторий и «рандеву» росли огромные города; там, где были леса с бобровыми запрудами, теперь работали плотины и фабрики. Чтобы спрямить пути доставки сырья, которые раньше подчинялись извивам рек, появились каналы, потом железные дороги. Экспорт дерева, бумаги и зерна шел в Европу и в США; атлантические порты, созданные сначала рыбным, а потом пушным промыслом, продолжали работать. Как писал Иннис, Канада развивалась не вопреки своей географии, а следуя ей; в такой же мере это справедливо для России. Политическая география – границы стран, а особенно бывших империй – больше зависит от экологии, чем от политики.
Калан
Упадку пушного промысла способствовали изменения в производстве и потреблении сырья. На международных рынках российские меха конкурировали с американскими, которые были дешевле за счет морской транспортировки и низких пошлин. В середине XVIII века доля пушнины в российском бюджете была небольшой, но меха все равно преобладали в российском экспорте в Китай. Доходы продолжали падать, и империя то закрывала, то вновь учреждала Сибирский приказ, собиравший ясак.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































