Текст книги "ТРИОН. Полёты биоробота в пространстве и времени. Историко-философский приключенческий роман"
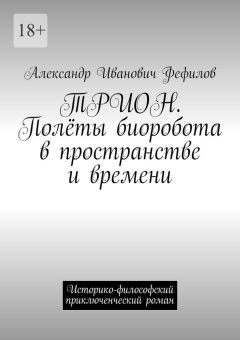
Автор книги: Александр Фефилов
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Второе перемещение
Первое, что увидел Глеб после того, как провалился в тишину, – это маленькая комнатушка и кровать, на которой лежал бледный человек, с закрытыми глазами. Глеб огляделся: «Из Киевской слободы и сразу в покойницкую? Но где я? Куда меня перебросили отцы создатели?». В комнате стоял смрад от гниющего тела. Сладенький гнилостный запах забивал ноздри. Было трудно дышать. У маленького оконца стоял столик, на котором стопкой лежали старинные книги и какие-то бумаги, исписанные мелким подчерком. Глеб открыл титульную страницу первой попавшейся книги. Гельвеций на французском языке. Из книги выпала записка: «Друг мой Фёдор, благодарю тебя! Гельвеция твоего возвращаю назад. У оного мыслить научаемся!» А. Радищев. «Оппа! Так-так. Фёдор, Радищев… Подключаем когниционный портал… Трион проснись! – «Ага! Успокойся, Глебушка, я не сплю! – Фёдор Ушаков – друг Александра Радищева. Учёба в Лейпцигском университете, 1766—1771». Глеб посмотрел сквозь мутное стекло оконной рамы. С верхнего этажа кто-то выплёскивал помои. На дворе куча мусора и пищевые отходы. «Вот откуда вонь! Нет… Форточка наглухо закрыта. А стойкий гнилостный запах исходит от лежащего тела. Память Триона подсказала нужную информацию – Ушаков Фёдор, сокурсник и друг Александра Радищева умер от гнилостной гангрены. Эта болезнь называлась в то время «Антонов огонь». Омертвление конечностей, тяжёлая интоксикация…
– Что ты тут делаешь? Ты кто? – послышался голос со стороны кровати, заставивший Глеба вздрогнуть. Ответ в голове Глеба всплыл мгновенно:
– Я монах-послушник из греческой домовой Троицкой церкви. Меня к тебе отец Павел приставить пожелал. Ежели уход тебе какой нужен…
– Из Троицкой говоришь? Не видел я в этой домовушке никаких монахов раньше. Ну, ладно уж, коли пришёл. Открой окно, послушник, свежим воздухом мне подышать надобно.
– Вообще-то я в монахах, по правде, пока не числюся. Я это… к настоятелю приехал, к родственнику. Он меня в университет определить обещал. Мне больше на заграничное житие повзирать захотелося. Сюда напросился, наслышан потому что… Познакомиться желаю с соотечественниками. Об учёбе университетской узнать… Ну и помочь, разумеется. Дядя мой отца Павла уговорил…
– То-то я вижу, не идут тебе одёжки монашеские. И говоришь ты странно как-то. Вроде по-русски, но с упором полунемецким.
– Так, у вас тут почти все так изъясняются…
– Все, да не все!
– Отец Павел, называет тебя богоотступником. Пошто?
– А, наш «духовный пастырь»? Однажды на богослужении мы ему, по моему побуждению, недостойный концерт учинили. Посмеялище. Больно кудряво спели. То тонко, то звонко. Другой раз из перчатки кукиш согнули, да на стол, что перед ним стоит, подложили. Он службу несёт, зажмурившись, – боится что-нибудь смешное увидеть – а когда поклон делает, глаза открывает. Глаза-то открыл и прямо перед собой наше посланьице из трёх пальцев и узрел. Не сдержался – громко захохотал. А мы его хохот поддержали. После службы он и назвал нас всех богоотступниками. А меня обругал «неграмматикально». Я даже поначалу вспылил, за шпагу схватился, закричал в ответ: «Забыл разве, батюшка, что я кирасирский офицер?». Вот с тех пор он на нас и ополчился. Несерьёзно это всё, дурачились мы… Звать-то тебя как?
– Григорием зовут.
– Ты, я вижу, ни сколь не младше меня будешь.
– Мне двадцать один. А тебе, сказывали, двадцать три исполняется.
– Не исполнилося пока. Дотянуть бы…
Ушаков замолчал, задумчиво глядя перед собой. Потом взглянул на Глеба:
– Окно-то изволь открыть, Григорий. Душно мне. Задыхаюсь я от собственного тления.
Глеб приоткрыл створку окна. С улицы послышались голоса, проходивших мимо поющих молодых людей. Ушаков улыбнулся:
– Любят немцы пиво хлебать допьяну.
– Заметил я так же, отдыхать они иначе и не умеют.
– Они не умеют, а мы не можем. Коли были у нашего брата лишние деньги, то по широте души русской, мы бы тоже из кабаков не вылазили.
Говорят, Фёдор Васильевич, ты себя не щадишь. Через чрезмерное напряжение здоровье себе подорвал.
– Здоровье нам гофмейстер Бокум подорвал, худой пищей. Вор и пьяница… Деньги за счёт дешёвого жилья и наших желудков экономит. Часто голод претерпеваем. Жалобы наши до канцелярии императрицы не доходят. А ты, Григорий, на родину-то когда отбываешь?
– Да, пока не знаю. Ежели дядя не пристроит, то недели через две, думаю.
– Вот и хорошо. Депешу от нас тайно в царскую канцелярию доставишь. Пущай прихвостни узнают, как мы тут гранит науки грызём, в голоде и в холоде проживая. Авось, императрице донесут. В оных коморках спать холодно. А как столуемся? – В кушаньях масло горькое, а если мясо, оное через раз – то жёсткое, то тухлое. Великая неопрятность в приготовлении… Домашние деньги, у кого они имеются, вынуждены на покупку дров и книг тратить. Хотел я Бокума на дуэль вызвать, да здоровье не позволило. Слёг, вот…
– Наказали бы тебя за это крепко. Не приведи господь, сослали бы… Наслышан я про нрав вашего Бокума…
– Бокум руки распустил. Одного из наших по лицу ударил. Мы с ним маленько поквитались. По морде его наглой прошлись рукой чешушейся. Многие из нас подумывать начали, по вольности мыслей своих, оставить Лейпциг, да в Голландию или в Англию податься, а оттуда сыскать случай в Ост-Индию или Америку ехать… А Бокум, как будто почувствовал неладное, возьми да и посади нас всех под арест. Может, оно и к лучшему…
Ушаков помолчал, потом спросил, глядя в потолок:
– И что это я тебе всю подноготную как на духу рассказываю? Как духовнику своему. Видать, ты человек хороший, к себе располагаешь. Ладно, скоро мне всё равно исповедоваться придётся. Пусть лучше ты…
Подумав и оглядев Глеба, Ушаков неожиданно предложил ему:
– Григорий, не в обиду скажу, ты эту рясину скинь. Ужо она у тебя больно ветхая. Возьми вон мою одёжу студенческую. Суконка, почти новая. Она тебе впору. И как раз по погоде. Носи, меня вспоминай, она мне не пригодится…
– Да что ты такое говоришь, Фёдор Васильевич!
– Бери-бери! Переодевайся, коль я тебе говорю.
Глеб подошёл к стене, на котором висел студенческий мундир Ушакова и стал медленно переодеваться. Внутренний голос Триона подсказывал ему последовательность действий. «Не торопись, иначе опростоволосишься, самозванец!».
– Башмаки у меня некудышные, исхудились, стоптанные. Пожалуй, те, что на тебе, лучше.
Наконец Глеб переоделся. Ему действительно всё было впору:
– Как на меня сшито! Спасибо тебе, Фёдор Васильевич. Век не забуду. Куда бы мой худой кафтан выбросить?
– Брось вон в тот дальний угол. У нас два раза в год авгиевы конюшни чистят. Выбросят… Что-то мне вовсе худо… Помолчим, давай. Скоро ко мне друг мой Радищев с нашим лекарем пожалует. Ушаков с трудом повернулся лицом к стене и замолчал.
Глеб сидел у стола и размышлял: «Не думал, что мне придётся воочию наблюдать, как умирает друг Александра Радищева. Есть в этом какой-то смысл моего пребывания в этой биожизни. Заговорил Трион: «Твоя биожизнь, как ты её именуешь, включает и моральную составляющую. Про интеллектуальную умолчу. Хочешь очеловечиться по-настоящему, научись сопереживать и понимать, ради чего живут тебе подобные. Помнишь, что говорил тебе Григорий Саввич про жизнь тленную и силу духа?»
Глеб услышал шаги в коридоре. Дверь открылась, и в комнату вошли двое. «Так вот он какой в свои семнадцать лет будущий „бунтовщик“ Радищев. Почти девичьи черты лица, крупные выразительные глаза». Ушаков повернулся и, предвидя вопрос Радищева, тихо сказал:
– Александр, позволь представить тебе моего нового знакомого. Его зовут Григорий. Мне кажется, сам Бог послал этого духовника-студиоза ко мне, чтобы я исповедовался… И я уж было начал это делать. Мне даже полегчало.
Врач начал осмотр. Глебу показалось, что он делает это скорее машинально, по долгу службы, зная наперёд, чем дело кончится. Ушаков молчал. Радищев отвернулся, по его лицу текли слёзы.
– Врач закончил осмотр:
– Сказать вынужден – положение серьёзное, болезнь прогрессирует. – И замолчал.
Ушаков болезненно улыбнулся:
– Не мни, что, возвещая мне смерть, встревожишь меня, и дух мой приведёшь в трепет. Нелицемерный твой ответ почитаю истинным знаком твоего расположения ко мне. Умереть нам должно; днем ранее или днем позже, какая соразмерность с вечностью? Как долго мне терпеть осталось?
– Не боле суток… Смерть стоит у твоего изголовья.
– Благодарю тебя за правду. У меня ещё есть время проститься с друзьями.
Врач, попрощавшись, ушел. Ушаков подозвал к себе Радищева.
Друг мой, Александр! Прежде чем призовёшь наших товарищей… Завещаю тебе все мои книги и записи. Тут в шкафу и на столе всё найдёшь. Употреби их, как тебе захочется. Особливо внимательно посмотри мои сочинения о смертной казни… Смертная казнь в обществе не токмо не нужна, но и бесполезна. Вот моя главная конклюзия… Люди по своей природе не злы, не добры… Человеческий характер зависит от физических и гражданских условий, в которых они воспитываются… Необходимо нагибать разум людей ко благу… А, прежде чем наказывать, дóлжно до того, уничтожить причины, порождающие зло. Вот и вся моя философия жизни… А сейчас иди, созови наших друзей, скажи, что Ушаков просит…
Постой! Свой студенческий мундир я подарил Григорию, он в него и сразу облачился. Уж больно нелепая на нём одёжа была, лейпцигскому обществу на смех.
Радищев быстро вышел.
Ушаков посмотрел в сторону Глеба:
– Просвещённая Европа завшивела и утопает в фекалиях – сам зришь – а ведёт себя высокомерно и поучительно. Они нас за варваров полагают. Да что там… А мы-то яко хамелеоны, принимаем на себя цвет предметов, нас окружающих… Своих мыслей мало… Великие подражатели…
Григорий! Только тебе скажу откровенно. Мне трудно оставаться твёрдым в мыслях. Я готов умереть бестрепетно. Да. Но не выдерживаю тяжесть «антонова огня». Слаб человек перед лицом смерти. Но ещё слабее он перед болью телесной. Я готов поменять боль на яд, чтобы освободить душу от смердящего тела.
– Фёдор Васильевич! Это большой грех. Самоубийство – для тебя недостойный уход из жизни. Приняв яд, ты отравишь не тело, а душу. Маленький огонь души не сольётся с большим светом. Не иди супротив предписанной человеку природы. Тебя будут чтить последующие поколения. Ты останешься в их памяти, благодаря Радищеву и твоим друзьям, как мужественный и светлый человек.
– Григорий, ты ангел, спустившийся с небес. Ты делаешь меня блаженным. Утешение страждущего есть надежда. И она будет со мной до последнего издыхания… Глеб подошёл к кровати. Ушаков взял его руку и крепко пожал. В комнату один за другим входили друзья Ушакова, взъерошенные, настороженные.

Шаг назад
Работы по восстановлению МВ-3 продолжались, но безуспешно. Лаборатория А. Г. Боголюбова объединила усилия с Новосибирской академией наук. Оттуда по просьбе руководства прибыли молодые специалисты, «поднаторевшие в сфере искусственного биоинтеллекта». Но что-то не ладилось. Было принято решение продолжить работу по восстановлению МВ-3 на базе Новосибирской академии наук. Как и ожидалось, академик Стригун сдержал своё слово – лаборатория А. Г. Боголюбова была на самом деле «вежливо» свёрнута. Научный коллектив переориентировали на более прикладную научную тему в области биоинженерии и биоинформатики. Можно сказать – опустили на грешную землю, заставили заниматься метагеномикой. Для соратников Боголюбова А. Г. было очевидно, что это проблемы вчерашнего дня. И.Ф.Осипинский с горечью пошутил: «Профессиональная старость стучится в дверь!». Д.В.Гаинский спросил: «Нам намекают на пенсионный возраст?». Ответ последовал незамедлительно: «Нет! Нас возвращают в нашу научную молодость!».
К удивлению А. Г. Боголюбова его дочь Сабрина изъявила желание отправиться вместе с лабораторией в Сибирь. Через несколько дней после исчезновения Триона она успешно защитила свою дипломную работу и выпустилась из университета. Отец не стал препятствовать дочери. Оставалась хоть какая-то надежда, что его проект по искусственному биоинтеллекту не закроют окончательно и доведут до логического конца – хотя бы возвратят Триона. По крайней мере, он будет знать от дочери, как продвигаются работы в этом направлении.
Через месяц Сабрина сообщила радостную весть – установка МВ восстановлена по изначальным образцам. Запуск планируется в ближайшее время:
– Правда, ребята….
– Что с ребятами?.. – забеспокоился Боголюбов.
– Они кое-что там изменили… Не существенно, но сказали, что необходимо было уточнить временные и пространственные параметры.
– Какие ещё параметры? Они хотя бы посоветовались с нашими специалистами?
– Ну, что-ты, папа! У них велись параллельные разработки… Они в этом разбираются ничуть не хуже твоих бывших сотрудников. Кстати, многие из наших, как и я, переехали сюда вместе с лабораторией. Мне сказали, что машина времени сможет перемещать в пространстве не только главный объект, т. е. Триона, но предметы, находящиеся с ним в тесном контакте.
– Совершенно излишняя функция!
– Почему же? Например, рюкзак, или сумка в руках… Наконец, одежда на нём.
Экие изменения! Одежду на теле и все эти атрибуты мы тоже предусматривали. Не летать же ему голым! Это только в голливудских фильмах… Ну, да бог с ним. Уточнили, усовершенствовали. Лишь бы наши наработки не попортили. Ты-то как? Замуж не собираешься?
– Я как-то об этом ещё не подумала… Но, если ты настаиваешь…
– Надумаешь – нас с мамой в известность поставь. Шучу…

Скачкѝ во времени
Глеб, мрачный, возвращался с похорон. Сокурсники Радищева попрощались и быстро разошлись, кто куда. Радищев стоял некоторое время рядом с Глебом и молчал. Он был сильно расстроен. Видно было, что общество Глеба-Григория было ему в тягость. Потом сказал: «Григорий, если свидеться пожелаешь, заходи…». Повернулся и ушёл.
Внутри заговорил недовольный Трион.
– Скажи-ка, Глебушка, кто тебя надоумил называть себя Григорием? Откуда тебе мысль-то такая на язык скатилась?
– Я тут не при чём! Себя спроси! Я покамест наполовину твоим умом живу! Сдаётся мне, ты мысль эту мне подал, не подумав, или не рассчитав. Ты явно имел в виду Алёшу Бобринского – сына Григория Орлова, плод внебрачной любви его и императрицы Екатерины Второй? А этот Алексей ещё ребенок… Вот я и…
– Пожалуй, ты прав! У нас сейчас на дворе 1770 год. Июнь. Значит, Алёшка Бобринский находится здесь, в Лейпциге, в закрытом пансионе. И ему… ему всего восемь лет отроду. Сбагрили бедного пацана к немчуре в научение. Я первоначально хотел выдать нас с тобой за него. Русские студиозы об этом, скорее всего, не в курсе. Об Алёшеньке даже при Екатерининском дворе особо не распространялись.
– Лучше скажи, что дальше делать будем. Шляться неприкаянно по старинному Лейпцигу, без денег в кармане?
– Тебе, кажись, Фёдор Васильевич одежонку свою соблаговолил. Пошарь в карманах камзола, авось найдёшь пару талеров или гульденов. Прибеднялся Ушаков, на Бокума всю вину свалил. И своё недомогание объяснял плохим питанием, да усердием в работе. А то, что императрица Екатерина выплачивала им на житьё-бытьё сначала по 800, а потом по 1000 рублей в месяц, – об этом ни слова не сказал. Ты думаешь, откуда он подхватил Антонову болезнь? – Да это последствия, что ни на есть, элементарной венерической болезни. По злачным местам студиозы таскались! С девками лёгкого поведения сношались! Сейчас поднапрягусь и озвучу тебе оригинальную цитату из трудов Радищева: «…просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в представительстве Федора Васильевича, провидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и преуспела. Сими и сим подобными случаями подсек Федор Васильевич корень своего здравия и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных услаждений». Витиевато, но понятно!
– Про покойников плохо не говорят…
Глеб засунул руку во внутренний карман сюртука и нащупал какой-то свёрток.
– Кошелёк? Деньги?
– А ты думал! У русского человека всегда загашник имеется. Не зря он подарил тебе свою одежду. Одним словом – добрый был человек. Если мне память не изменяет, согласно австрийско-баварской монетной конвенции, один талер приравнивается двум гульденам. Сколько их у тебя тут? У-у-у! По нынешним Лейпцигским меркам ты, Глебушка, богатый человек. Можешь себе позволить, так сказать… Посмотри-ка перед собой и оглядись. Нужно знать, где мы находимся… Черт, возьми! Куда ты забрёл? Мы с тобой на окраине Лейпцига! Тут ещё просматривается сербо-лужицкое поселение со старыми спиленными липами! Прусские войска спалили старые городские укрепления славянского липового города во время пресловутой семилетней войны!
– Что ты мелешь? Я и ста шагов не сделал! Как мы могли оказаться на окраине?
– Как-как? – Через как! Помнится, так изъяснялся личный водитель нашего батюшки Боголюбова. Этот водила, будь он неладен, отправил нас путешествовать раньше запланированного времени. Мало того лишил меня способности управлять телом.
– Я управляю! Тебе этого мало?
– А как ты думал? Хотелось бы совершенства… Давай бери извозчика! Топать пешком долго придётся! Пусть докатит нас до ратуши. А пока подумаем, что дальше делать… Не нравятся мне эти метаморфозы. Не экспериментируют ли вновь наши отцы? Что-то у них там случилось. Уж не война ли опять какая?

Явление двухгодичной давности
Через час, когда послеобеденное солнце уже пряталось за шпилями церквей, извозчик остановился у Томаскирхе. Глеб нашёл мелочь, расплатился и пошел по направлению к центральной площади города. Всюду, уже на подходах к центру шла бойкая торговля. Площадь превратилась в большой рынок. Продавали поросят, овец, кур. Яйцо в корзинках. Молочники аккуратно раскладывали кринки со свежим молоком. Разливали из бочек жидкий липовый мёд.
Трион рассуждал:
– Надо найти приличный постоялый двор, где столуются студиозы и бюргеры среднего достатка. Шиковать нам ни к чему.
Глеб свернул в знакомый переулок, где он недавно расстался с Радищевым и его друзьями. К ним приближалась веселая толпа молодых людей.
Глеб остолбенел. Впереди всех навстречу ему шёл улыбающийся Фёдор Васильевич Ушаков!
Трион встрепенулся:
– Опаньки! Не падай, Глебушка, в обморок! Это ещё не покойник! Так, так… Кажется, нас с тобой отбросили назад, в то время, когда наш новый знакомый Фёдор Васильевич ещё не собирался умирать. Отцы наши, создатели маленько просчитались. Но отрадно, что работают… Хотят нас вернуть! Знакомимся по новой! Заговори с ними по-русски! Смело выдавай себя за странствующего студиоза под старым именем Григорий. Авось что-нибудь выгорит!
Глеб шагнул навстречу Ушакову:
– Господа! Вы русские? Приятно встретить в чужом городе соотечественников!
– А ты? Ты из России? Из каких краёв?
– Я из Малороссии.
– Посланник новоиспечённого гетмана, графа Разумовского?
Из толпы выступил Радищев:
– Фёдор Васильевич, позволь тебя поправить. Матушка императрица Екатерина своим манифестом два года назад заменила гетманство на коллегию!
Ушаков шутливо взметнул брови:
– Ах, Александр! Как мог ты упрекнуть меня в незнании? Ужель мне неизвестно, что «гетман» заменён на «президента»? Звучит по-иному, а суть одна. И сделано это было для того, чтобы «волки смотрящие в лес», леса не увидели! Вот я и проверяю… Как тебя, странник, кличут?
– Григорий… Бобринский.
– Фамилия до боли знакомая! Кутузов, подойди-ка ко мне!
Из круга вышел парень с красивыми, почти девичьими чертами лица.
Внутренний Трион нежно возгласил: «С таким и дружить не страшно! Красавец…».
Ушаков что-то шепнул Кутузову на ухо. Тот выразил недоумение:
– Не могу точно сказать, Фёдор Васильевич! Понеже я не сведущ…
Ушаков повернулся к Глебу:
– Ну, что ж, Григорий, русский человек, мы принимаем тебя в компанию. Присоединяйся к нам! Мы на пути к нашему любимому погребку Ауербах, где вздымаются выше стола пупки и развязываются языки. Там и поговорим о жизни и о России. Расскажешь нам, как там у нас на родине.
Внутри заговорил Трион:
«Кажется, тебя не до конца раскусили. Тайны царского двора, остаются тайнами для народа. Студиозы не в курсе. Но вот бывший придворный в чине коллежского асессора Ушаков, которого здесь вежливо величают Фёдором Васильевичем, по-видимому, что-то слышал краем уха о настоящем сыне Григория Орлова, и что его звали Алексеем. Поэтому усомнился. Но, вряд ли, он начнёт первым этот разговор. И почему это он такую славную должность на жизнь студиоза поменял? Не поверю, что он так поступил исключительно из-за тяги к знаниям…»
Вываливающиеся из подвала пьяные бюргеры, в основном молодые, не стесняясь, мочились на стены близ расположенного здания, и громко гоготали, выпуская газы из вздутых кишечников. В Ауербахскеллере было накурено и душно. Глеб брезгливо поморщился.
Трион выразил недовольство: «Не будь чистоплюем, окунись в историю. Такой возможности у тебя больше не будет. А если и будет, то пить будешь уже в Гётевском келлере. Этот подвальчик основательно перестроят в 1912—1914 годах. От средневековых зданий здесь ни одного камня не останется. Построят пассаж Медлера с множеством цивилизованных пивных заведений и декоративных магазинчиков».

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































