Текст книги "ТРИОН. Полёты биоробота в пространстве и времени. Историко-философский приключенческий роман"
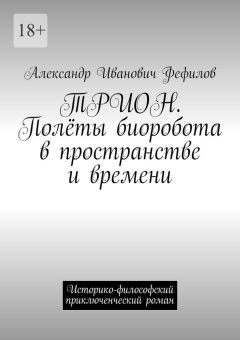
Автор книги: Александр Фефилов
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Исповедь «дитяти сердца»
Трион огляделся. Увидел, что он стоит на узкой тропинке, которая вела на какую-то гору. Последний луч заходящего солнца пробивался сквозь деревья. «Куда я иду, глядя на ночь? Зачем? Это сон или явь? Ничего не понимаю. Надо увидеть что-нибудь, чтобы вспомнить. Тени деревьев и надвигающиеся сумерки не возбуждают в памяти ничего. Единственные воспоминания – это русские студенты в Лейпциге, Гёте, лазарет, сиделка, монах… Басманная. Эпизоды из восемнадцатого и девятнадцатого века… Мой мозг опознаёт только некоторые предметы, и известных в истории людей. О некоторых из них всплывают в голове определённые сведения. Откуда я знаю что-то о них? Почему мой мозг активизирует информацию о мире, в котором я себя не помню? Кто я?..»
Трион вышел на какую-то площадку, посредине которой возвышалась фигура из каменных блоков. Площадка, обрамленная полукруглой подпорной стенкой, была облицована барельефами двух голов, обращённых друг к другу.
А вот и надпись: «Здесь в 1827 г. юноши А. Герцен и Н. Огарев, ставшие великими революционерами-демократами, дали клятву, не щадя жизни, бороться с самодержавием». Ах вот я где! На Воробьёвых горах. Место клятвы двух великих российских людей, которых родина вытолкнула за границу. А, может быть, они сами стремились туда, чтоб там творить и умереть?
Вдруг Трион ощутил всем телом, что позади него кто-то стоит. Тень от фигуры стоящего человека затемнила надпись. Послышался голос: «Ну, вот… Я опять здесь. На родине. Николай, это ты?»
Трион оглянулся. Да, так и есть… Перед ним стоял Александр Герцен, одетый по моде первой трети XIX века. Значит, это не легенда, распространявшиеся поколениями студентов Московского государственного университета, что призраки Герцена и Огарёва периодически появляются на Воробьёвых горах. Откуда у меня эта информация? Почему «явление Герцена» меня не пугает и даже не удивляет? Человек – это не только ум, но и чувства. Неужели человеческие чувства мне чужды?..
Призрак Герцена смотрел сквозь Триона. Взгляд был какой-то мертвенный. В голове Триона «взбудоражилась» вся информация о Герцене, его жизни и о его друзьях.
– Это не ты. – разочарованно вздохнул Герцен.
– Вы хотели видеть Николая Огарёва, Вашего друга?
– Да, именно, так. Я хотел видеть его. – Герцен-призрак погладил рукой бронзовую голову Огарёва.
– Он не приходит тогда, когда я здесь. Почему? Не понимаю. Мы не можем встретиться. Я хотел многое ему сказать…
Герцен-призрак замолчал и привалился к стенке, выставив вперёд левую ногу. Трион подумал – «Почему он не спрашивает кто я, и, как будто не видит меня – разговаривает с пустотой. Он умер раньше, чем Огарёв. Тот пережил его, кажется на семь лет. Может, ему рассказать, как и где умер его друг?»
– Огарёв на Вас в обиде. Вы когда-то клялись здесь, на этом месте в вечной дружбе – «Вместе идём! Вместе идём!» Но Вы его предали. Вероятно, поэтому он и не приходит…
– Я его не предавал… Между нами не было вражды. Правда, он не приехал проститься со мной. А я его ждал…
Неожиданно для себя самого Трион вдруг выпалил:
– Какая может быть дружба, Александр Иванович, если Вы открыто сожительствовали с его женой, Натальей Алексеевной, а потом и вовсе «увели» её?
Герцен был спокоен:
– Никто никого не уводил! Мы жили втроём в Лондоне… Всё произошло по взаимной договорённости.
– И вы, конечно, не замечали, что Ваш друг страдал, что он принёс себя в жертву Ваших дружеских отношений. Он начал сильно пить.
– Я виноват в этом косвенно. Пить он начал значительно раньше и по другой причине, и это пагубно сказалось на их отношениях с Натальей Алексеевной и на его творчестве.
– Вы сейчас говорите неправду! Вы выкручиваетесь, лжёте, пытаясь представить себя в выгодном свете.
– Мне нет необходимости оправдываться. Может быть, я в чём-то и был не прав, но я никогда не врал своему другу… А что касается Натальи… Я всегда полагал, что свести отношения мужчины и женщины на случайную половую встречу так же невозможно, как поднять и свинтить их до гробовой доски в неразрывном браке. Она не любила его. Они не были в официальном браке. Поэтому я сблизился с Натальей Алексеевной.
– Да, Вы также говорили, что любой брак – это победа над любовью. Ваша вторая жена после нескольких лет совместной жизни также была недовольна Вами, как и первая. Позднее она скажет, что Ваше чувство к ней было «вспышкой усталого сердца».
– Мне неизвестно, что она говорила обо мне после того, как я ушёл из жизни. Я до самой смерти любил свою первую жену Наталью Александровну. Даже написал в завещании, чтобы меня похоронили рядом с ней в Ницце.
– Несмотря на то, что она изменила Вам с поэтом Гервегом?
– Я был в то время слеп. Пригрел у себя в доме змею. Я был весь в работе и не уделял своей жене должного внимания…
– Как Вы могли простить ей желание «жить в браке втроём»? Так может желать только неудовлетворённая женщина… Ваша жена писала Гервегу: «О, никогда и никому я так не принадлежала, как тебе, тебе, жизнь моя, моя вторая жизнь… Мне необходим был ты! Я искала тебя на небе, искала среди людей – и повсюду, повсюду, всегда, всегда… Милый, как обнимаю я тебя, когда о тебе думаю… О, только бы коснуться тебя…».
– Мне известна большая часть переписки моей жены с Гервегом. Но об это письме я слышу впервые…
Трион проговорил монотонно:
– Представьте, что я Ваш ангел-хранитель. Мне известно о Вас больше, чем Вам. И я буду говорить Вам, исповедующемуся, нелицеприятные вещи, задавать неудобные вопросы.
– Мне всё равно, кто Вы. Мне самому хотелось снять с себя груз недосказанности… Что случилось, то случилось. Я часто воспринимал свою первую жену как сестру. Она на самом деле была моей двоюродной сестрой, поэтому отец был против этого брака. Возможно, я сам привил ей осознание брака как семейного ярма.
– А потом спохватились. Дело доходило до смертоубийства.
– Когда она призналась, что отдалась этому поэтишке, я чувствовал себя раздавленным; дикие порывы мести, ревности, оскорблённого самолюбия сотрясали меня. Жизнь свою в то время я не ставил ни на грош. Я ходил по комнате, кровь стучала в висках, я не мог дышать.
– Смешно, но Вы вынесли вашу семейную трагедию на всеобщее «международное» обсуждение. И чего добились?
– Добился того, что меня осудили, за то, что я стал неволить свою жену, и не позволил ей быть счастливой со своим любовником, как во французских романах того времени…

– Вы, как западник, начали жить по их меркам.
– Нет! Я не был западником в полной мере. Я, как и всякий русский человек, руководствовался внутренней совестью. Иногда проявлял нравственные слабости, будучи молодым человеком.
– Вы имеете в виду Вашу первую плотскую любовь к замужней женщине во время ссылки в Вятке?
– Да. Но это были лучшие минуты наслаждения.
– Самое безнравственное в этой истории то, что Вы занимались любовью с женщиной, муж которой лежал за стеной и готовился отдать Богу душу.
– Да, я поступил безнравственно. Я был молод. Сближение с женщиной – дело чисто личное, основанное на ином, тайно-физиологическом сродстве, безотчетном, страстном. Мы не были монахи, мы жили во все стороны. Что касается того случая… Позднее меня стало теснить присутствие старика, мне было с ним неловко, противно. Не то чтоб я чувствовал себя неправым перед граждански-церковным собственником женщины, которая его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унизительной: лицемерие и двоедушие – два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чём, но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье.
– Вы не гнушались однажды по утру совокупляться со служанкой. Возможно, любовные стоны слышала Ваша жена из своей спальни. Не отомстила ли она Вам, сблизившись с Гервегом?
– Не знаю. Я откровенно признался ей, что не устоял перед женскими прелестями прислуги.
– Сняли с себя боль от угрызений совести?
– Угрызений никаких не было. На уровне ума я понимал только, что поступил неправильно по отношению к жене. Но я до конца жизни вспоминал тело этой служанки, её обнажённую грудь. Как хороша природа, когда человек, забываясь, отдаётся ей, теряется в ней!
– Настолько хороша, что Вы написали об этом и всем поведали…
– Поведал людям о счастливейших моментах моей жизни. Люди моего времени, революционеры были больше умны и меньше счастливы. Я подумал и решил, что об этом должны узнать все. Нераскрытые тайны – тяжёлое бремя. Тяжело было осознавать, что с моей смертью умрёт истина.
– И вы простили свою первую жену?
– Простил, но не забыл. И эта боль оставалась со мной до конца жизни.
– Вы бы не простили Наталью Александровну никогда, если бы прочитали её предсмертные записи, адресованные Гервегу.
– Не щадите меня. В любом мучении есть истина. И она доставляет наслаждение.
Трион без заминки, воспроизвёл по памяти заметки из записной книжки влюблённой Натали, удивляясь этой своей способности, сознательно акцентируя самые больные места:
«Не надо ни революций, ни республик: мир будет спасен, если он нас поймет. Впрочем, если он и погибнет, мне это безразлично, ты всегда для меня будешь тем же, чем теперь. О приди же, приди и скажи одно лишь слово!..»
На удивление Триона Герцен был спокоен:
Эта запись в записной книжке Натали мне известна. Здесь речь идёт о гибели мира, а не о моей. Её витиеватый слог и мысль о конце мира мне были предельно понятны. Бог наказал нас за эти слова. Наш сын Николенька и моя мать погибли во время кораблекрушения во Франции. Даже тела их не нашли. Некого было хоронить. Это окончательно подорвало здоровье Натальи Александровны.
Трион пожалел, что решил «добить» Герцена последней информацией. Он прошёлся вдоль выгнутой стены с барельефами Герцена и Огарёва. Снова подошёл к опершемуся на стену Герцену, смотрящему куда-то в темноту. Сумерки сгустились. Зажглись дальние фонари. Трион вдруг вспомнил знаменитый этюд Огарёва и процитировал… Слова озвучивались громко и чётко, независимо от него:
«Солнце уходило на запад и лучами прощальными купалось в светлых водах реки величаво-спокойной. А она, извиваясь подковой, с ропотом тайным проходила у подножия крутого высокого берега. А на другой стороне вдали расстилался город огромный, и главы его храмов сверкали в огненном блеске вечернего солнца».
Герцен тихо выговорил:
– Это «Три мгновения», этюд Николая Огарева. Почему время появления его здесь не совпадает с моим? Или он действительно не хочет со мной встретиться?
– Николай Огарёв страдал от эпилептических припадков, как Вам известно.
– Да, это мне известно.
– После того, как Вы скончались, он стал пить ещё больше, связал свою жизнь с уличной проституткой. Воспитывал её сына и внебрачного, незаконного сына Вашего Александра, о чём Вы ещё знали. Он жил в крайней нужде, медленно угасая, как поэт и как мыслитель. Однажды у него случился припадок прямо на улице, он упал в канаву и повредил себе позвоночник. Умер, не приходя в сознание. Добрейший был человек! В прочем о его душевной доброте и почти женственной притягательности Вы писали в своих воспоминаниях.
– Боже мой! Какая смерть! В Николае всегда было что-то трагическое. Он, как и я, жаждал великих дел. Единственное моё оправдание перед ним – я поддерживал его материально всю жизнь. В завещании я назначил ему пожизненную пенсию из своих сбережений. Человек не может жить полноценно, постоянно думая только о хлебе насущном.
Герцен замолчал, глядя в пустоту. Потом сказал:
– Моего незаконно рождённого внука звали, кажется, Тутс. Скорее всего это прозвище. Мне писали, что он очень упрямый и капризный ребёнок. Его мать, Шарлотта Гетсон, покончила с собой, бросившись в воды Женевского озера. Это какой-то рок!
– Аналогичная судьба постигла и Вашу дочь Лизу.
– Что с ней случилось?
– Она покончила с собой из-за неразделённой любви…
– Для мёртвых не существует границ. Я обязательно с ней встречусь когда-нибудь, хотя сделать это не легко. Боже мой, моя Лизхен, Лизхен! Если бы я мог всё исправить! Но это уже не в моих силах!
– В Ваших силах, господин Герцен, было возможно изменить многое… Ваши последователи сделали из Вас пламенного революционера, борца против крепостного права, призывающего Россию к топору. Но Вы предпочли в своё время покинуть Россию («дома жить нельзя») и, будучи богатым эмигрантом, стали бороться не только против угнетателей, таких же помещиков, как Вы, но и начали поливать грязью всё русское. Вы так увлеклись обличениями, что не увидели из своей Европы настоящую Россию. Даже Белинский, Ваш соратник по критике российских пороков, не выдержал и назвал Вас «не нашим», а потом обвинил в измене отечеству.
– Меня невзлюбили, когда я поддержал польское восстание 1863—1864 годов.
– Вы не просто ратовали за восстановление Речи Посполитой до Днепра, но и призвали русских солдат переходить на сторону поляков. Ваша пропольская позиция откинула Вас от прогрессивной, но патриотической части российского общества.
– Что было, то было. Среди польских революционеров у меня было много друзей…
– Ваш лондонский рупор свободы – основанный Вами журнал «Колокол», замолчал, перестал звонить. «Полярная звезда» не стала светить. От Вас отвернулись. Вы видели всё в превратном свете.
– Потомки рассудят, где я был прав, а где виноват. Как сказал французский романист Мишель Уельбек, «человеческая жизнь – в сущности не бог весть что. Ограниченное число значимых событий». Не все деяния в моей жизни были значимыми…
– Потомки уже рассудили… Признание Ваших заслуг перед отечеством вот на этом памятнике-барельефе и в многочисленных памятниках в Вашу честь.
– Я стремился воплотиться не в каменных изваяниях в мою честь, а в умах моих соотечественников, в сердцах последующих поколений российского народа. – Глаза Герцена оживились. Он устремил глубокомысленный взгляд на Триона:
– Критикуя самодержавие, я всегда прочил великое будущее моему народу. Я осознавал в полной мере, как трудно хвалить русского человека, задавленного, замордованного, униженного, приученного к поклонению и взяткам; склоняемого к воровству; лишённого какой-то бы ни было самостоятельности. Царскому правительству всегда было противно, что делалось само собою по воле народа. Императорской власти надобно было, чтоб всё делалось из-под палки.
– Крепостническая кровь течёт в жилах российского народа до сих пор. – вставил Трион.
В глазах Герцена застыл немой вопрос.
Трион уточнил:
– Я имею в виду не только двадцатый, но и двадцать первый век.
Герцен замолчал, как бы обдумывая услышанное, и продолжил:
– Да, я критиковал помещичий уклад жизни… Хотя сам не гнушался использовать его преимущества – бесшабашность, удаль, даже распущенность.
Трион продолжил:
– Александр Иванович! Вы не гнушались не только русской безрассудностью. Вы использовали своё положение представителя высшего света, когда отбывали в Перми и в Вятке так называемую ссылку. Держали тройку лошадей, ездили к губернаторам на обеды.
– Вы думаете, что первый русский революционер Александр Радищев, осуждённый на каторгу, ходил по Сибири в кандалах? Или декабристы, которых я вознёс, трудились в рудниках, закованные в цепи?
– Зачем же Вы возвышали этих людей, которые отправляли на рудники вместо себя своих слуг, а сами предавались пьянству и разврату?
– Про разврат не знаю. А, что касается пьянства – это было. И не только у них, но и у нас. Русская слабость пить с горя – совсем не так дурна, как говорят. Тяжелый сон лучше тяжелой бессонницы, и головная боль утром с похмелья лучше мертвящей печали натощак.
Возвышал я не конкретных декабристов за их деяния, многие из которых со временем стали мне противны. Я возвышал их свободолюбивые идеи. Особенно в юности… Тогда мы с Николаем Огарёвым заразились вольнодумством. Мы поклялись бороться против деспотизма. Мы уже тогда видели, что государством правят вороватые чиновники, улаживающие дела за деньги.
– Они вынуждены были это делать. К этому их подталкивала система.
– Это так. Все знали, что всякий, находящийся на службе в России ворует. Всякий начальствующий чиновник, чтобы выслужиться, имел обыкновение представлять время от времени какой-нибудь проект, чтобы отвлечь также продажное надзорное начальство от истинного положения дел.
Трион горько улыбнулся:
– С тех пор мало что изменилось. К сожалению…
Герцен, как будто не расслышал то, что сказал Трион, и продолжил:
– Все эти новые проекты приводили к худшему. Болезнь проектов захватила в то время всю Россию. Это показное, как мне казалось, коренилось в характере русского народа. Пышные сени, ведущие в скромное жильё, совершенно в русском народном духе.
Трион возразил:
– Можно согласиться с тем, что человек выставляет всё лучшее на показ, а плохое старается скрыть. Но когда Вы говорите о народе, вы лукавите. Понятие народ придумали западники. Были крепостники и крепостные, богатые и бедные. Это не единый народ…
– Всё правильно! Сведение к единству и единообразию необходимо, чтобы скрыть различия и противоречия. Мундир и однообразие – страсть деспотизма. А что касается подражания Европе… В Европе люди одеваются, а мы рядимся. Началось это подобострастие со времён Петра Первого, со времени обрития первой бороды и введения терроризма образования. Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей, – просвещенных рабов. Некоторые славянофилы активно призывали вернуться к допетровским временам, возвратиться к народу, с которым нас разобщило иностранное образование. Но я всегда говорил – история не возвращается, ей не нужны старые платья! Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами. Ошибка славянофилов состояла в том, что им казалось, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и не могла иметь!
Трион слушал, предвосхищая наперёд, что скажет Герцен. «Как не интересно, как тяжело находиться в состоянии всезнайства, не восхищаться, не удивляться. Почему я такой? Остаётся только лицемерить, поддакивать или провоцировать собеседника на что-то неординарное, не заложенное в моей памяти»:
– И мы должны вечно жить с этим?
– Не знаю, я не пророк… Нужно принять во внимание как данность, что у русского народа восприимчивый характер. У него недостаток самостоятельности и большая способность усвоения и пластицизма. Это делает русских, да и вообще всех славян, народом, нуждающимся в других народах.
– Нас слепили на западный манер?
– Нет! Совсем не так! Нет другого такого народа, который бы глубже и полнее усваивал себе мысль других народов, чем русские, оставаясь самим собою. В натуре русских лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.
– «С верёвкой на шее»? Это Ваши слова!
– Наша русская цивилизация накожна, мы грубы, у нас из-под пудры колет щетина и из-под белил виден загар, у нас есть лукавство диких, разврат животных, уклончивость рабов, у нас везде являются кулаки и деньги – но мы далеко отстали от наследственной, летучей тонкости западного растления. У нас умственное развитие служит чистилищем и порукой.
– И больше мы ничем не отличаемся от западных людей?
– Отличаемся! И ещё как! На Западе это не так. Мы легко отдаемся человеку, касающемуся наших святынь, понимающему наши заветные мысли, смело говорящему то, о чем мы привыкли молчать или говорить шепотом на ухо другу. Мы не берем в расчет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами. Мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих напутано в душе современного человека, принадлежащего к этой выжившей западной цивилизации.
К сожалению, мы до сих пор смотрим на европейцев, как провинциалы смотрят на столичных жителей. С унизительным подобострастием, с чувством собственного несовершенства, оправдываемся и подражаем.
– И где же наш, свой, русский путь развития?
– Самое русское народонаселение в Сибири сибиряки, вовсе не знали помещичьей власти. Дворянства в Сибири не было. За сибиряками будущее. Сибирь имеет большие перспективы. К сожалению, на нее смотрят пока только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно.
Будущее за народом, который излечился от крепостничества!
– Долго ещё лечиться придётся. Как бы не утратить способность самоидентифицироваться и не раствориться окончательно. Европеизация в двадцать первом веке идёт полным ходом, несмотря на «загнивающую западную цивилизацию».
– Жаль, что будущее впитало все негативы прошлого. Наш русский человек, получив удар, другой, часто не видя откуда, оглушенный им, долго не приходит в себя, а потом бросается, как раненый медведь, и ломает кругом деревья, и ревет, и взметает землю, – но поздно, – и его противник уже указывает ему пальцем… Много еще разовьется ненависти и прольется крови из-за этих двух разных миров и воспитаний.
– Уже пролилось… – Трион устал стоять и тоже прислонился к стене, рядом с барельефом головы Герцена:
– Запад – далеко не единое целое, хотя в одно время он позиционировал себя как «коллективный Запад».
– Полностью согласен… Западные люди часто бывают недалёкими и оттого кажутся простыми, недогадливыми. Но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан – простота от нерасторопности ума, оттого что они все как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнью из-за актерства, и жертва их все-таки была ложь. Это страшные вещи, многие негодуют когда о них говорят открыто. Но обманываться еще страшнее.
Англо-германская порода гораздо грубее франко-романской. С этим делать нечего, это ее физиологический признак, сердиться на него смешно. Пора понять раз и навсегда, что разные породы людей, как разные породы зверей, имеют разные характеры и не виноваты в этом. Никто не сердится на быка за то, что он не имеет ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекает лошадь за то, что ее мясо не так вкусно, как у быка.
– Значит, не приходится ждать единения?
– По-видимому, рано так опрометчиво толковать о солидарности и братстве народов. А всякое насильственное прикрытие вражды станет одним лицемерным перемирием.
Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованной среде. Но для того, чтобы это воспитание проникло во всю глубину народных масс, понадобится много времени.
Наше классическое незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения.
– Только ли национальная разобщённость тому виной?
– Не только. Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми были утрачены, но нового сознания настоящих отношений между людьми не появилось. Вся нравственность свелась к тому, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий – хранить и увеличивать свою собственность. Флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал знаменем нового общества. Человек de facto сделался принадлежностью собственности. Жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег.
Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки – редакции журналов, избирательные собрания. С одной стороны, скупость, с другой – зависть. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, то есть собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений. Она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов для достижения своих личных целей.
– И нам не выпрыгнуть из этого беличьего колеса истории никогда?
– Увы! Пока есть лицемерие и скрытность, показ и хвастовство. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, казаться, вместо того чтобы быть, вести себя прилично, вместо того чтобы вести себя хорошо; хранить внешнюю благопристойность вместо внутреннего достоинства. Это европейская болезнь!
Европа изживёт свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии.
– И Америка?
– До Северо-Американских Штатов было рабство и крепостное состояние, неправая война и неправое стяжание… Но этот цинизм, эта наглость, эта преступная простота, это бесстыдное обнажение, – всё это ново и принадлежит Америке и ею распространяется.
Герцен кашлянул. Огляделся и, кажется, снова впал в оцепенение:
– Вероятно, мы с Николаем сегодня снова не встретимся. Где ты мой друг, родная душа?
Трион почувствовал дуновение ветра. Кусты зашелестели. Снизу доносился гул вечернего города, скрытого за деревьями. Он взглянул на то место, где стоял призрак Герцена. Там никого не было. В ушах появился сильный звон. «Почему я один? Человек с потерянной душой! Без собственного «Я». Куда идти? Что делать? Кто-нибудь есть здесь?! Никто не отозвался. Молчание.
***
«Нужно определить, в какое время меня занесло в Москву. Барельеф и стела Герцену и Огарёву были построены в 1978 году. Значит ли это, что я попал во времена Советского Союза… Памятник стоит давно… Нужно спуститься вниз, в город».
Трион осмотрел себя. – «На мне лазаретное тряпьё. Одежда, не приемлемая в общественном месте для всех времён и народов». В моей голове болью отдаются вопросы: «Кто я? Энциклопедический истукан, воспроизводящий чужие мысли? Бездушный Голем из Средневековья? Я не знаю, откуда и куда я иду? И зачем? С какой целью?»

Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































