Текст книги "ТРИОН. Полёты биоробота в пространстве и времени. Историко-философский приключенческий роман"
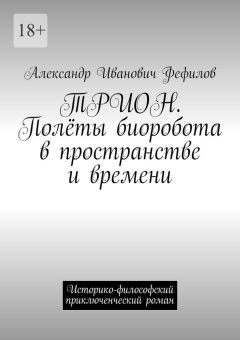
Автор книги: Александр Фефилов
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Встреча с И. Кантом
Трион увидел себя идущим по какой-то аккуратно вымощенной улочке. «Где это я? Глеб, отзовись! Куда мы угодили?». Молчание. «Выходит, я один… Улетучился Глебушка. О, как трещит голова… И почему это я наблюдаю за своим шагающим телом со стороны? Спросить бы надо кого-нибудь, куда меня занесло… И куда это моё телесное воплощение так уверенно шагает? А-а-а, понятно. Это мой молчаливый двойник. Глебушка, остановись, послушай утробного биобратца. Молодец, не разучился повиноваться, безропотный ты мой! Вон, какой-то господин важно вышагивает тебе навстречу. Похоже немец… Я ему пару вопросиков задам твоими устами.
– Прошу прощения. Как называется этот городок?
Прохожий взметнул вопросительный взгляд:
– Странно! С кем имею честь?
– Да какая там честь… Странник я. Странствующий студиозус, если хотите. Заблудился я. Понимаете? Простите, как Вас по имени, если можно.
– Что за обращение, заблудший студиозус – «если хотите», «если можно»? Перед Вами Иммануил Кант!
– Боже мой! Ваше философское величество, господин Кант! Ординарный профессор по кафедре логики и метафизики в Кенигсбергском университете! Я в Кенигсберге! Как мне повезло! Первый встречный – и сразу знаменитый немецкий философ, который в письме на имя российской императрицы Елизаветы писал: «готов умереть в своей глубочайшей преданности Вам»! Там была Ваша подпись: «В. и. в. наивернейший раб Эммануэль Кант»
– Господин студент! Вы ведёте себя развязно по отношению к профессору! Кстати, откуда у Вас такие сведения?
– Простите, профессор! Я студент из России, и, можно сказать, приближённый ко двору императрицы Екатерины. Избалован светским воспитанием… Мне и самому неудобно… Кроме того, у меня обнаружились способности перемещаться во времени… Вас, как представителя субъективного идеализма, это не должно пугать.
– Ах, вот как!.. Конечно, всё зависит от нашей воли и сознания. Да… Мы тут стоим уже минут пять. Мне пора завершать прогулку…
Видно было, что великий философ обескуражен. Но Трион продолжил разговор:
– Знаю, знаю, господин Кант! По вам жители Кенигсберга сверяют часы. Ваша прогулка строго регламентирована по времени… Если позволите, я сопровожу Вас до дома.
– Не возражаю, господин русский студент… Не знаю Вашего имени…
– Моё имя – Григорий. Фамилия – Бобринский.
Какое-то время Трион и Кант шли молча. Потом философ прервал неловкое молчание:
– Господин Бобринский! Поскольку Вы, как выясняется, сведующий человек… Почему Ваша императрица вернула оккупированную русскими Пруссию обратно Фридриху Второму? Я действительно присягал русскому престолу, и вдруг… Впрочем, Вашей императрице присягнула вся наша университетская корпорация. Я тогда занимал скромную должность доцента.
– Простите за откровенность, но наша матушка не хотела вести дорогостоящую войну за Пруссию. К тому же она понимала в то время шаткость своих прав на престол… Вы, конечно, в курсе о дворцовом перевороте в России… Не буду распространяться, хотя это не секрет, да и нас никто не слышит.
– Да-да. Это интересно. Мы могли бы с Вами побеседовать у меня за чашкой кофе или по-русски за чашкой чая. Я позволю себе впервые за последние годы нарушить свой рабочий распорядок. К тому же солнце уже высоко и становится жарко.
– Понимаю, господин Кант! Потеря жидкости из организма в виде пота – это для Вас неприемлемо. Дом Ваш не обласкан женской заботой по той же причине – человек должен сохранять живительную влагу в своём организме и не расплёскивать её понапрасну.
Э. Кант недоверчиво взглянул на Триона:
– О! И это Вам известно?
Они вошли в просторный дом. Кант провёл Триона в свой кабинет, где было много книг, и предложил гостю сесть за столик, который стоял между двумя креслами у самого окна. Слуга принёс чай и какие-то сладости.
Трион с несколько наигранным восхищением произнёс вслух:
– Вот здесь и создавался Ваш эпохальный труд «Критика чистого разума»? Почему Вы так назвали свою философскую работу?
– Я разумел под этим не критику книг и существующих систем, а критику способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта…
– Иными словами, мой разум знает a priori, что может произойти от совершения того или иного действия. У меня в этой связи возникает вопрос: А принадлежит ли этот чистый разум мне? Может быть, это разум Бога во мне?
– Вы так глубоко изучали мою философию? Поразительно!
– Изучал, если можно так выразиться. Скорее всего – усваивал. Ваши «антиномии» и многое другое… Больше всего мне симпатизирует Ваша концепция о «вещи в себе» и о «вещи для нас». Первая «вещь», которая «в себе», она непознаваема, поэтому потомки определили Вас в стан агностиков. Вторая «вещь», которая «для нас» – зависит от нашего практического сознания…
– Не совсем так, хотя в целом Вы понимаете мою философию достаточно адекватно… Человек – существо, ограниченное по природе. Поэтому познание неполно… Нет объекта без субъекта. Наше познание обусловлено и ограничено формами человеческого интеллекта. Объект это всего лишь явление в мировидении познающего субъекта. Вот откуда и «вещь в себе». Она не раскрывается для нас. Мы пытаемся проникнуть внутрь вещи и начинаем приписывать ей некую составляющую её сущность, которой она не обладает на самом деле. Восприятие обусловлено намерениями субъекта. В этом вся беда и наши страдания…
– Господин Кант! Вот я совершенно незнакомый Вам одушевлённый объект восприятия. Вы смотрите на меня и видите лишь некоторые представления обо мне, которые сложились в Вашем сознании за время нашего общения. Я не говорю, что я не существую для Вас. Потомки приклеили Вам ярлык субъективного идеалиста и с позиций воинствующего материализма исказили Ваше учение. Так, вот… Я воздействую на Вас – предстаю перед Вами, являю себя Вам. Вы ведь утверждаете, насколько я Вас правильно понял, что субъект являет себя в объекте…
– Вы всё верно поняли. Мы оба субъекта и проявляем себя друг в друге как в объектах. Но мы две «вещи в себе». Мы не раскрываемся, а лишь облекаемся в пелену несобственных понятий. Вокруг меня ареол Ваших представлений, а вокруг Вас – оболочка моих практических знаний о Вас. Пытаясь познать Вас, я навешиваю на Вас атрибуты, продукты моего интеллекта, которые могут и не отражать Вашу сущность. То же самое делаете Вы. И хотя Ваш понятийный арсенал, касающийся меня, намного богаче, чем мой, – я же Вас практически не знаю, а Вы знакомы с моими трудами – я формирую о Вас свое мнение. А именно: Вы – студент из России, невесть как оказавшийся здесь, и случайно встретившийся мне на пути…
Кант пристально посмотрел на Триона:
– Вы говорили о перемещении во времени… И о потомках… Странно… Вы человек из другого пространства? Я не верю в фантазии, но…
– Не буду утаивать. Я из будущего! А если уж совсем быть точным – я из двадцать первого века. Считаю, что благодаря Вашей философии учёные того мира, из которого я «выпал» в восемнадцатый век, нашли определение будущего человечества в Вашем «чистом разуме», в формах пространства и времени. И поняли, что будущее человека предопределено. Оно присутствует как в прошлом, так и в настоящем.
Кант задумался:
– Ваши представления о времени построены на принципах линейности и поступательности. Как будто прошлое переливается в настоящее, а настоящее – в будущее. Это обусловленный практикой взгляд на мир. Такое догматическое истолкование подтверждает мой тезис, что время всего лишь априорная форма восприятия, присущая рассудку изначально, т.е. не исходящая из опыта. Философы могут толковать время по-разному. Но все эти толкования будут субъективны. Можно ведь предположить, что для человека не существует ни прошлого, ни будущего, так как прошлое уже прошло, а будущее ещё не наступило. Настоящее же преходяще, оно мимолётно. Вот то, что мы с Вами только что обсуждали, является только условно настоящим, а, по сути, оно уже прошлое, так как мы его «пережили», оно осталось лишь в нашей памяти.
– Но я действительно прилетел из другого пространства и нахожусь в прошлом.
Кант улыбнулся:
– Это Вам только кажется, поскольку Вы находитесь в плену своих субъективных представлений. Перестаньте измерять время пространственными мерками, и всё станет намного понятнее…
Трион задумался, витая в своей энциклопедической памяти, потом снова заговорил:
– Удивительно! То, что Вы сказали, подтверждается языковыми примерами. Я нахожусь где? – В Кёнигсберге. А прилетел я сюда когда? – В мае. В последнем примере в пространственную грамматическую форму упаковано время. Без пространства нельзя осмыслить время даже в языке!
– Оригинально, молодой человек! Люди могут себя мыслить в пространстве и времени. Эти понятия даны человеческому рассудку изначально. Поэтому невозможно человеку объективно размыслить само пространство и время. Вы можете представить эти понятия в перспективе планетарной вселенной. Например, заявить, что время циклично и представляет собой кругооборот. Помните – Всё приходит на круги своя? В соответствии с эти взглядом, не только прошлое переходит в настоящее, а настоящее – в будущее. Но и будущее переходит в прошлое. Вот Вам подтверждение того, каким образом Вы оказались для Вас в прошлом, а для меня в настоящем. Ваше прошлое, из которого Вы прибыли – неизвестно каким образом – это для меня перспектива будущего. Всё относительно, потому что мы живём в иллюзиях субъективного мира. Жаль, что ничего нельзя поправить. И мои труды тоже… Они уже написаны здесь. Их, как Вы сказали, читают там… Откровенно говоря, Ваши слова о значении моей философии льстят моему самолюбию.
– Вы заслужили признание своими трудами. Ваш последователь Артур Шопенгауер…
– Кто-кто?
– Шопенгауер… Он ещё не родился… Какой сегодня год? – Извините это не столь важно. Так вот этот философ, блестяще интерпретируя Ваше учение, заявляет: «Мир – это я!»..
– Очень удачная формулировка. Я вижу в этом мире только то, что есть во мне. А во мне присутствуют мои субъективные представления об этом мире, т.е. то, что и как я понимаю, осознаю.
Трион оживился:
– Я понимаю это так: субъект заменяет внешний мир, миром, находящимся в нём самом. Это не противоречит миропониманию Аристотеля, в основе которого лежит понятие тождества. Мой и внешний мир сосуществуют и могут пересекаться.
Кант сосредоточился на мгновение:
– Что-то я такого у Аристотеля не припомню… Все его доступные мне труды у меня на полке… Он показал рукой в сторону огромной, через всю стену книжной полки.
Трион не стал вдаваться в детали:
– Человек не смог бы ориентироваться во внешнем мире, если бы полагался на свои субъективные ощущения. Значит эти ощущения, или представления – если хотите «идеи», по Платону – не столь уж субъективны. Человек живёт в оболочке объективного мира постольку, поскольку он воспринимает его объективно. Его понятия о «вещах для нас» постоянно совершенствуются, и он выходит за пределы своего субъективного опыта.
Кант многозначительно улыбнулся:
– Юноша! За красотой Вашего изложения скрывается и другой смысл – Вы совершенствуете свои субъективные представления, но освободиться от них основательно вряд ли удастся.
Трион стал искать в своей памяти антиаргументы:
– Выходит прав Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю»? Но ведь моё незнание предполагает наличие истинного, совершенного знания, которое находится вне меня?
Кант тронул левой рукой подбородок, как бы торопясь, сказать что-то:
– Во-первых, Сократа выдумал Платон. У нас нет точных сведений, что это был живой человек, а не персонаж из диалогов Платона… А, во-вторых, как я неоднократно указывал в своих работах, истинное знание не зависит от опыта. Мы видим модусы, а не атрибуты!
Триону захотелось поменять тему разговора:
– Да, я тоже где-то читал, что Сократ говорит устами Платона. Есть даже мнение, что вся античная литература, дошедшая до нас, является подделкой эпохи Возрождения.
Кант встал из кресла, глядя на массивные полки с книгами, как будто хотел подтвердить данный факт источником, потом опять уселся в кресло:
– Меня больше беспокоит – не извратили ли меня мои последователи?
Трион ответил, пытаясь не обострять общий положительный настрой разговора:
– Я уже говорил, что материалисты обвиняют Вас незаслуженно в агностицизме, заявляя, что Вы преградили дорогу к познанию объекта, превратив его в «вещь в себе».
Кант перебил:
– Это скорее проблема восприятия, а не объективного существования мира. Последнее я никогда не отрицал.
Трион попытался окончательно перевести разговор на другую тему:
– Философов последующих поколений больше будет интересовать инструментальность познания. Но и здесь они не смогут отойти от Ваших взглядов на мир. Ваша философия переживёт Вас на долгие-долгие годы, несмотря на общественные катаклизмы и межнациональные войны. Пруссия снова войдёт в состав России. Вам воздвигнут памятники…
– Не продолжайте! Надгробные памятники – это пустое. Это языческие идолы. Главное Вы уже сказали. У меня ещё один вопрос, последний. – Как долго я буду жить? Мне предстоит ещё многое сделать… Хочется успеть. Хотя я и так отрёкся почти от всей житейской суеты, соблюдаю строгий распорядок дня, и… Но чувствую, что все равно не успею.
Трион заметил, что философ дал волю чувству:
– Но Вы же сами сказали, господин Кант, что все в этом мире предопределено. Возможно, что главное в жизни Вы уже совершили…
Кант удивлённо взглянул на Триона:
Да. Возможно… Больше всего боюсь старческого слабоумия.
Трион вспомнил:
Что касается Вашего вопроса – Вы долгожитель. Вы проживёте почти 80 лет. Мы могли бы ещё раз прогуляться по Кенигсбергу… И я показал бы Вам, в каком месте Вас захоронят. Но… знаю, что Вы не будете нарушать свой рабочий режим…
На лице Канта ничего не отразилось. Однако видно было, что он с трудом сдерживал свои эмоции. Трион понял, что время его вышло:
– Кажется, мне пора и честь знать. Благодарю Вас за гостеприимство! Не знал, не ведал, что мне посчастливится пообщаться с живым Эммануэлем Кантом!
Трион откланялся и покинул дом философа. Не успел он сделать и десяти шагов, как услышал внутри себя знакомый голос:
– Почему ты не рассказал Канту, что он лежит в могиле без головы?
Трион обрадовался.
– А-а-а, это ты, Глебушка? Очнулся? Ты считаешь, что я должен был рассказать великому философу о бомбардировке Кенигсберга во время второй мировой войны? И, что авиационная бомба разворотила его могилу? И, что какой-то советский интеллигентный офицер, обожавший философию Канта, забрал череп Канта себе?
– Нужно быть до конца правдивым!
– А если бы Кант от этой жуткой информации преставился раньше времени? Ты понимаешь, какое преступление я совершил бы перед лицом истории? Наше присутствие в восемнадцатом веке и без того нарушает объективное течение дел, уже свершившихся! Давай-ка определимся по отношению к нам самим. Что-то я понять не могу, нам это снится или происходит на самом деле?
Голос Глеба был какой-то вялый, нечёткий:
– Сон или действительность?
Глеб, этим вопросом задавался в своё время Артур Шопенгауэр. Если ты был свидетелем моего разговора, то знаешь, что я уже говорил об этом философе, как о поклоннике Канта. Хотя умолчал, что он отмечает нечитабельность кантовских трудов, их замысловатость и тяжёлый слог. Зачем огорчать великого философа этими мелочами. Так, вот, по поводу реальности и сна. Шопенгауэр пишет: «есть ли верное мерило для различения между сновидениями и действительностью, между грезами и реальными объектами?» Лично я считаю, что сон – это виртуальная жизнь.
– Ты считаешь, или кто-то?
– Ну, я же биоробот, что с меня взять! Глеб, ты на полном серьёзе думаешь, что твои встречи с русскими студентами и с немецким поэтом Гёте в Лейпциге были реальными? Для кого?
Трион услышал удаляющийся голос Глеба:
– Ну, вот и договорились до …, докопались до истины!
Трион закричал:
– Глеб, не уходи!..
Его крик эхом отозвался в его голове.
– О! Как мне пить хочется! – Авель, Авель! Где ты?

Лечение
Через несколько дней в больницу пожаловал тот самый молодой «богатый господин», уже знакомый монаху. Он был не один. Его сопровождал какой-то аккуратно одетый пожилой мужчина с кожаным саквояжем. Посетители подошли к нарам, на которых лежал больной. Молодой господин тихо сказал пожилому:
– Буду Вам безмерно благодарен, если Вы поможете этому человеку. Я уже Вам говорил, что у него сотрясение мозга.
– Благочестивый! – он обратился к монаху, – Принесите нам стул или табурет!
Пожилой господин осмотрел голову больного:
– Череп в порядке, но тупой удар был, по-видимому, очень сильный. Мозговая жидкость повредила сосуды мозга, произошло кровоизлияние. Скорее всего, в теменно-затылочной части мозга… Это непременно должно отразиться на зрении и на двигательных реакциях…
Монах встрял в рассуждения господина:
– Его глаза неподвижны…
Господин закивал головой:
– Вот-вот, о чём я и говорю! Благочестивый, скажите-ка мне, ваш больной пытался вставать самостоятельно?
– Нет! Он даже не может повернуться на бок. Я его приподнимаю, чтобы…
В разговор вмешался молодой господин, обращаясь к пожилому:
– Помнится, Вы мне говорили о каком-то универсальном таинственном средстве, которое Вы изобрели «от всех болезней…»
Пожилой господин улыбнулся:
– Ах, Вольфганг, бросьте! Моя алхимия не всесильна. Вряд ли в этом случае она будет чудодейственной… – он на мгновение задумался – хотя… Ничего не остаётся. Нужно испытать, хуже не станет. – Потом повернулся к монаху:
– Вы в курсе, что больному прописал лекарь? Хотя…
– Я пою его три раза в день отваром трав, по рецепту лекаря…
– Да-да, понятно. Отвар из цветков ромашки, боярышника, пустырника и сушеницы. Наш традиционный метод лечения. Продолжайте это делать. Лекарю скáжете, что я просил присовокупить к его лечению ещё одно снадобье. Впрочем, я сообщу ему об этом сам – не беспокойтесь. Он порылся в саквояже и протянул монаху баночку с каким-то белым порошком. На мою ответственность, так сказать… Но прошу Вас строго соблюдать дозировку! Я сейчас Вам всё объясню и распишу… Да, между нами… Если больной пойдёт на поправку, а порошок останется, Вы этот порошок ни в коем случае не отдавайте Вашему лекарю! Содержимое баночки следует высыпать в отхожее место.
Взглянув на удивлённого монаха, он нахмурил брови:
– Это снадобье, так сказать, моё личное изобретение… Поэтому… Не хочу, чтобы им злоупотребляли…
Уладив формальности, оба господина удалились.

На пути к выздоровлению
Монах радовался, что «русский студент» быстро пошёл на поправку. Он стал живо реагировать на команды, научился самостоятельно сидеть и принимать пищу, однако не мог вспомнить, кто он и как его зовут.
Монах сожалел, что не имел возможности постоянно находится с русским. В монастырской лечебнице находилось много других больных. По просьбе настоятеля монастыря к больному «русскому студенту» приставили монахиню из Русской православной церкви в Лейпциге. Она была родом из России.
Однажды к нему пожаловали земляки. Они представились монахине как русские студенты, знавшие больного до того, как с ним случилось несчастье:
– Я – Радищев Александр, а это мой друг Кутузов Алексей. Вспомни, мы недавно в Ауербахскеллере сидели и ты сначала Бобринским назвался, а потом вдруг заявил, что ты странствующий монах Василий. Там в келлере ещё был Гёте. Кстати, о тебе он нам через своего друга Бериша сообщил. Наш надзиратель Бокум нам допрос учинил. Допытывался, откуда ты и какое твоё настоящее имя. Мы ему сказали, что тебя Григорием кличут, что ты, вроде бы, сюда на учёбу прибыл. Про твоё второе имя мы ему ничего не сказали… Ни к чему это. Бокум доложил о тебе в русское представительство в Дрездене.
Больной с удивлением смотрел на пришедших:
– Ничего о нашей встрече не помню. Забыл, что меня Григорием зовут… Я только могу вспомнить ваши имена и всё что с ними связано. Но вас вижу в первый раз. Во всяком случае мне так кажется. Ко мне приходил немецкий студент Гёте. Я его тоже не узнал, а вспомнил лишь, что он будущий знаменитый германский поэт, когда он своё имя назвал.
Русские земляки переглянулись. Тот, кого звали Кутузовым, внимательно посмотрел на Григория:
– Как же ты можешь будущее помнить, не помня прошлое? Хотя… Ты тогда тоже утверждал, что предсказывать способен.
– Я не знаю, почему я это могу делать… Не знаю, кто я… Вот вы меня Григорием назвали. Я помню из прошлого только моё пребывание здесь, в монастырской лечебнице. Тут вот за мной один монах ухаживал, а сейчас ещё русскую сиделку определили, сестру милосердия. Марией зовут. Я их знаю. Впрочем я могу даже вспомнить, как мою болезнь будут именовать в двадцатом веке. Это – амнезия, частичная или полная потеря памяти вследствие черепно-мозговой травмы. А сейчас, судя по вашим личностям я могу даже определить год. На дворе 1767 год. В России вот уже как пять лет у власти Екатерина Великая… Вы, Александр Радищев и Вы, Алексей Кутузов, скоро закончите учёбу в Лейпцигском университете и отправитесь в Россию. Но до этого произойдут печальные события и ваш друг, Фёдор Ушаков, умрёт… Простите…
Радищев схватился за голову:
Ужасно! Этого не может быть! В пору сойти с ума от твоих предсказаний!
А. Кутузов воскликнул:
– Мистика какая-то! Однако в этом что-то есть, что моё любопытство возбуждает. Фёдор Васильевич, наш друг, действительно неизлечимо болен. И скрывать ему это всё тяжелее становится.
После некоторого молчания он продолжил:
– Я не боюсь, если ты нужным сочтёшь, и обо мне что-нибудь не очень печальное поведаешь.
Григорий проглотил накатившуюся слюну и с трудом, делая паузы, заговорил:
– Ты Алексей Михайлович, баловень судьбы. Тебе всё будет удаваться, потому что твой род связан с верхушкой дворянского общества, которая тебя будет продвигать по карьерной лестнице. Ты станешь мартинистом, членом масонского кружка. Твой друг, стоящий рядом с тобой, назовёт это «бредоумствованием». В прочем разность ваша будет находиться в головах, а не в сердце.
Твой мистицизм, Алексей Михайлович, выльется в утопию о прекрасной православной стране, которая управляется святыми людьми. Эта страна будет лишена атрибутов полицейского государства. В ней не будет ни рабов, ни наёмников. Люди будут жить мирно, возвышенно. Они будут очищены от скверны. Народом будет руководить единая вера в бога. Не будет государственных законов, наступит всепоглощающая гармония.
Однажды ты напишешь: «Горе земле, в которой подчиненные, начальники и судьи, управляют гражданами и делами!.. Коль скоро позволяется человеку судить о намерениях человека и догадки свои равнять действительному деянию, толь скоро исчезает личная безопасность, ослабевает доверенность законов, да и сами законы теряют силу… Граждане соделываются нерешительными, твердость и мужество уступают место робости и ползающему духу, правда и праводушие отступают от сердец наших; коварство, хитрость и лукавство воздымают смело главу свою, попирая всё своими мерзкими ногами, истребляя все добродетели, всё похвальное и великое, которое делает человека человеком; отечество наше становится нам чуждо, ибо соделывается жилищем нашего душевного мучения».
Твоё масонство, опираясь на благие намерения, захочет искоренить деспотизм императрицы Екатерины, направленный против русского народа. Оно будет пытаться изгнать зло, которое вершит самодержавие, мирным путём… Вы не сможете срубить сук, на котором так уютно сидите.
– Бунтарские вещи, озвучиваешь, Григорий. Ты вроде как говорящая книга из нашего будущего. Однако, как я такое сказать-то смогу противу нашей Великой императрицы?
Радищев недовольно заметил:
– И слог изложения у тебя не наш, не такой…
Григорий перебил:
– Эх, господа, господа! Вы уже не замечаете, как онемечились не только в своих мыслях, но и в своём языке. Ты, Александр Николаевич, по возвращению на родину будешь нанимать себе учителя русского языка. Но так и до конца жизни будешь изъясняться на витиеватом полурусском языке…
Не обижайтесь на меня за правду, если даже она вам глаза колет…
Ваше дворянство предало интересы русского народа. Приход к власти Екатерины (фрейлейн Фике из города Штеттина), провозгласившей себя Великой, это даже не столько государственный переворот, сколько завуалированное завоевание России Германией. Вы посмотрите, кто правит нашей страной и её армией, кто руководит новоиспечённой Российской академией наук. На все ведущие государственные посты поставлены немцы или их приспешники. Истинную историю России навсегда похоронил Пётр Первый, незаконно объявивший себя императором. Он изъял все русские исторические летописи из православных церквей и уничтожил их руками немцев, которых завёз в Россию.
Масоны не поймут, почему «отечество становится нам чуждо». (Твои слова, Алексей Михайлович!). Они и не заметят, или сознательно закроют глаза на то, что их страну превратили в полуколонию, из которой выкачивают несметные богатства благодаря рабскому труду крестьян, а потом переправляют эти богатства прусским правителям, Фридриху Второму, например…
А. Радищев вскочил и возбуждённо заговорил:
– Я всем нутром чувствую, что ты прав, но разума мне не достаёт, чтобы понять, тобою сказанное!
Григорий закашлялся, ему не хватало свежего воздуха:
– Ты, Александр Николаевич, поймёшь это очень скоро и будешь костить «стозевное» самодержавие в своих общественно-политических статьях. Достаточно привести здесь одну из твоих фраз: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Ты потеряешь веру в возможность появления на троне просвещенного монарха. Будешь критиковать бюрократический аппарат, на который опирается монарх, отмечая необразованность, развращенность и продажность чиновников, окружающих трон.
Революционные потомки вознесут тебя до небес. Настанет время, и ты станешь знаменем революционного движения в России. Грядущее своего отечества ты увидишь в «свободном труде». В своей главной книге, всколыхнувшей соотечественников, заявишь: В будущем обществе «неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие… Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем… Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий».
А. Радищев снова сел на лавку:
– Странно своим словам внимать, которые ещё не писал и не произносил. Я буду бороться за равноправие… Ты не перестаёшь нас удивлять. Поверить можно в предсказание событий – на Руси вещателей много имеется. Но чтобы пророк твои печатные мысли воспроизводил, поверить неможно…
Наступило молчание. Потом А. Радищев заговорил снова:
Григорий, как выздоровеешь, тебя на перекладных в Россию отправят. А там снова в лазарет или – не приведи, Господь – в «жёлтый дом» угодишь. Я буду хлопотать, чтобы тебя в имение к моему отцу отправили, поживёшь на природе, придёшь в себя… Если, конечно, ты…
– Спасибо, Александр! Я согласен ехать в твою вотчину, в Верхнее Аблязово.
– Откуда ты знаешь, что…?
– Я знаю.., а откуда – не знаю. Я ведь ещё не совсем здоров. Знаю, что ты там провел свое детство и жил семь лет с родителями. Но мне неизвестно, откуда я беру эти сведения. Я не знаю, как выглядит твоя родовая усадьба. Я её никогда не видел.
А. Радищев встал с лавки, подошёл ближе к Григорию и, улыбаясь, сказал:
– В одном ты ошибаешься, Григорий. Сведения твои о том, что я провёл свое детство в Верхнем Аблязово, правде не соответствуют. Да, я семь лет жил с родителями, но в имении Немцово под Малоярославцем. И жил я там до самого того времени, пока меня в Пажеский корпус не определили…
Григорий выглядел обескураженным:
– Извини меня, Александр, но о том, что детство твоё прошло в Верхнем Аблязово…, об этом написали в воспоминаниях твои сыновья…
Молчавший всё время А. Кутузов громко расхохотался и протянул руку А. Радищеву для пожатия:
– Поздравляю тебя, Александр! Когда это ты успел?.. Ха! И главное – мне, своему близкому другу, ничего об этом не поведал… Господи, прости меня грешного!
А. Радищев на какое-то время впал в задумчивость. А. Кутузов замолчал, посерьёзнел, потом тихо сказал, глядя в сторону:
– Что-то мне страшновато сделалось… Да убоюся я бездны нашего будущего. Не потребно больше любопытствовать…
Когда молодые люди ушли, монахиня Мария, свидетельница разговоров, сидевшая поодаль, подошла к Григорию:
– Барин, пора принимать лекарство и отдыхать. Вы сегодня много рассуждали, сильно притомились.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































