Текст книги "Воображение мира"
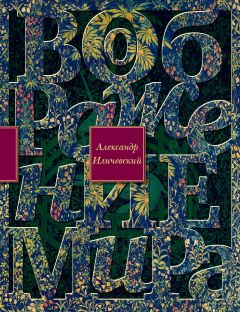
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Тающие облака
Кино и гобелен
В Москве стояло жаркое лето 2010 года. Дым горящих лесов наползал на город со всех сторон. Я понял всю серьезность положения, когда однажды выехал на Новодевичью набережную и из-за дыма едва различил противоположный берег, на котором здания, еле угадывавшиеся за пеленой смрада, были похожи на призраков.
Жизнь в ослепшем городе стала бедствием. По ночам подсвеченные снизу уличными фонарями клубы дыма в полнейшей тишине сползали со скатов крыш. От бессонницы я спасался тем, что смотрел кино, и это было бегством в иное пространство, в другое, извлеченное из календаря время. Странные ощущения преследовали меня в те ночи. Жара, приличествовавшая скорее пустыне, и заволакивающий реальность дым вытеснили пространство города, так что побег по ту сторону киноэкрана в существенно большей мере, чем при обычных обстоятельствах, был особого рода спасением – новой жизнью.
В одну из ночей я кадр за кадром пересматривал сцену погони из «Китайского квартала», которая интересовала меня по простой причине: герой, частный детектив (Джек Николсон), едет на кабриолете и пытается избежать столкновения с вооруженными до зубов владельцами апельсиновых плантаций. Я случайно наткнулся на этот фильм и на эту сцену, чтобы припомнить семейные легенды и осознать, что мой прадед, живший в Лос-Анджелесе, тоже владел апельсиновой рощей. В героя, нарушившего границы частных владений («Keep Out. No Trespassing»[7]7
«Не входить. Посторонним вход воспрещен» (англ.).
[Закрыть]), стреляют, он мчится задним ходом между рядов деревьев, на него сыплются золотые яблоки, он разворачивается, пуля пробивает радиатор, вырывается облако пара, автомобиль останавливается, и детектива избивают.
Подобная жара стояла в Лос-Анджелесе, когда после долгих лет поисков я наконец узнал адрес прадеда и приехал из Сан-Франциско, чтобы оказаться на Плезант-авеню, в районе, бывшем когда-то довольно респектабельным. Высокие температуры никогда не были редкостью для Южной Калифорнии, но в то время пожары окружали город, теснили жителей окраин, хотя пламя я видел только в новостях по телевизору, висевшему в номере мотеля, где я остановился, да и дыма не чувствовалось вовсе. Реальность словно бы не дотягивалась до меня, бушуя где-то рядом, но незримо, и это придавало моему пребыванию в городе особенное ощущение вытесненной в чужую жизнь действительности, которая в полной мере настигла меня жарким московским летом.
Плезант-авеню тянется всего около километра, рядом с 101-м шоссе, идущим через всю Калифорнию и почти вдоль всего западного побережья и построенным еще во времена Великой депрессии, когда правительство такими гигантскими инфраструктурными проектами, как дорожные работы, старалось создать рабочие места, пусть и низкооплачиваемые, зато многочисленные. О временах застройки этого района можно судить не только по архитектурным особенностям домов, но и по тому, что разгонные полосы, предназначенные для того, чтобы автомобили могли безопасно присоединиться к попутному потоку, слишком короткие для нынешних скоростей, они напоминают о временах, когда по дорогам передвигались в основном на Ford Model T, предельная скорость которых не превышала сорока миль в час. Сейчас по шоссе мчатся куда более быстрые машины, и потому время вхождения в поток и, следовательно, принятия решения из-за небольшой длины полосы оказывается столь малым, что при выезде с тихоходных улиц мне каждый раз становилось не по себе от гонки с таким диким ускорением.
По дорогам до сих пор катятся призраки стареньких «фордов» и будто переносят тебя в такие вечные фильмы», как «Китайский квартал». Лос-Анджелес отстраивался в те легендарные времена, когда звуковое кино сменяло немое, когда Голливуд достиг зенита, а ар-деко окончательно воцарилось по обе стороны континента: тяжеленные двери города высотой в две сажени казались обитыми листами латуни, а сливные бачки в туалетах отелей в центре до сих пор оснащены цепочками и низвергают воду с высоты человеческого роста.
Занавес, завеса, экран – окутывает этот город мнимостью, плотной тканью, на которой строится цивилизация иллюзии. В 1920-х годах в богатых домах Голливуда, часто еврейских, киноэкран завешивали гобеленами, которые перед самым показом фильма сворачивали под взглядами собравшихся. Первые киноэкраны, спрятанные за бесценными средневековыми полотнищами, освобождали на стене новой платоновской пещеры место для искусства подвижных картинок. Вместе с появлением кино и истории модифицировалась поверхность пещеры – теперь действительностью признавались не тени проецируемых творцами идей, не силуэты на камне, а ткань, колышущаяся под лучами проектора: она оказывается так убедительна, что давление света изменяет рельеф экрана и само изображение. Идея, рожденная пониманием того, что забвение может стать истоком, помогала мне по крупицам собирать знание о жизни прадеда, вплетать его в пустоту, тем самым восстанавливая ткань гобелена судьбы. На нем вскоре появился город, созданный ради производства иллюзий, город, где декорации величественней самих зданий, город, не раз воссоздававший Мемфис, Рим, великие эпохи цивилизации. Нереальность, торговля искусной великолепной фикцией приносила доход, сравнимый с прибылями промышленных предприятий. Такой город не мог не стать воронкой между действительностью и несуществованием, ангелы обязаны населять его вместе с духами надежд и разочарований. Метафизический экран, образующий сотканный по воле провидения гобелен, – символ города; все в нем зыблется и колышется, и, если подняться на холмы Западного Голливуда, можно увидеть, как огни города, раскинувшегося внизу, дрожат и струятся в восходящих потоках теплого воздуха. Лос-Анджелес, как Иерусалим, рожден воображением.
«Бульвар Сансет» – еще один фильм, который я смотрел во время московской жары 2010 года. Первый кадр ленты: тело молодого сценариста Джо Гиллиса распластано в бассейне особняка на бульваре Сансет. Гиллис безуспешно пытался найти свое место в Голливуде и однажды случайно попал в заброшенный с виду особняк на бульваре Сансет, принадлежащий звезде немого кино Норме Десмонд, стареющей актрисе, которая отказывается признавать, что давно забыта публикой и не нужна современному кино: она живет в выдуманном мире, где по-прежнему остается великой актрисой и кумиром миллионов. Особняк этот – печальный белый дом, похожий на декорации, в которых снимают гимн большим надеждам, завешанный гобеленами, построенный в безумные 1920-е годы безумными киношниками, сведенными с ума заработками и успехом. Этот дом – эмблема Лос-Анджелеса с его сумрачными тускло-медными лепестками, арками и изгибающимися спиралью лестницами.
Дом прадеда, с момента его гибели в 1952 году сменивший несколько владельцев, был построен во времена Гриффита и стоял в одичалом саду среди зарослей бугенвиллей, вившихся между пальмами, и драценой; над окном, забитым фанерой, виднелась сажа. В этом доме, выставленном на продажу, в этом жилище диббуков, рождающих и обрушающих надежды, которыми полнится город, таилась загадка, частица общей заколдованности, и что-то подсказывало, что и прадед вплел свою нить в экран, зыбко укрывший весь объем города, в окрестностях которого можно было снимать все: и море, и джунгли, и каньоны, – любая натурная съемка могла состояться, для нее не требовались, как в фотостудиях, тканые задники, изображавшие различные уголки мира.
Мне интересны задники картин, искусство складок дальнего плана, искусство ландшафта, потому что настоящая трагедия – это гибель хора, а хор всегда избегает рампы.
Без теней
В Замоскворечье бывают мартовские дни, когда ни солнца, ни неба, ни теней, и весь район наполнен слегка покаркивающей воронами тоской, отчего кажется, что настоящее пропало, и вы теперь одной ногой обретаетесь в забвении, шаг еще больше вязнет в слякоти и в старой купеческой Москве, ветшающей в этих кварталах не первое столетие: штукатурка крошится, и все более обнажается кирпичное барокко. Может быть, поэтому, однажды выйдя к реке, я взглянул окрест, и мне показалось, что вместе с чернеными льдинами город, увлекаемый течением реки, воздухом над ней, уплывает в безвестность, и само имя его постепенно стирается, тает в белесом непроглядном небе. В тот же день, чуть позже, я стоял где-то в переулках и смотрел, как ворона, сидевшая на проводе, вдруг кивала и переворачивалась полным оборотом, сцепив лапками воздушную линию. И снова замирала над Москвой. Не было сомнений, что я – единственный во всем этом городе вижу, как эта ворона развлекается. Я не сразу поверил своим глазам и продолжал следить. Ворона точно так же сидела какое-то время неподвижно, а потом переворачивалась через голову. Так неотрывно смотрят на часовую стрелку, чтобы заметить малейшее движение. Через какое-то время взгляд мой и взгляд вороны совместились, и я не заметил различия, только в какое-то мгновение город перебросился через темя, и на секунду смерклось в глазах.
Нет времени
Вопрос, почему Чехов не написал романа, настолько обширный, что кажется бессмысленным. Однако, кроме глубокомысленных интерпретаций, имеют право существовать и несложные, из области здравого смысла. Роман – дело нешуточное, отнимает огромное количество времени (да и рассказы Антон Павлович писал не на коленке). Чехов трудился на исходе XIX века, стоя обеими ногами в прибывающем течении века XX. Даже если люди нисколько не задумывались о грядущей катастрофе, не почувствовать ветер времени, то, как оно сжимается, было невозможно. Рубеж века скачкообразно сократил длину текстов. Вдобавок человек с чахоткой живет словно бы в обнимку со смертью. Постоянный цейтнот – ничуть не менее серьезное обстоятельство, чем ощущение сжатия исторического времени. С легочным кровотечением дописать рассказ намного вероятней, чем роман. К тому же, покуда пишется роман, мир может измениться так, что мчащееся время выскользнет из него. Толстой еще мог быть уверен, что, пока он пишет «Войну и мир», все не изменится настолько, что человек потеряет свое место в мироздании. Чехов такой роскоши позволить себе не мог. Но обстоятельства болезни, конечно, главная из этих двух причин.
Тайна словесности
Библейский текст питается тайной, как и поэзия. С Богом можно говорить только в поэтическом ключе, поскольку именно поэзия есть то ремесло, которое дольше любых других занятий homo sapiens позволяет ему иметь дело с тайной, невыразимостью; пусть метафорически и лексически незамысловато или наоборот, но именно поэзия обучает слова обращаться к незримому. Поэзия, как и священные тексты, сочиняется под особый камертон: все слова в нем подлежат прочтению Богом. С появления библейских и поэтических столбцов текст цивилизации претендует на священность и потому пригоден для выстраивания канонизирующей иерархии. Текст постепенно становится царем истории и цивилизации, и это главное изобретение обеих. Культура потому и способна заменять религию, что ее собеседник, третье лицо, присутствующее при беседе, – Бог, а не человек. Но как именно эфир, делающий людей способными существовать как общность, слепляющий их пониманием, сотрудничеством, законом, отождествляется с Богом? Откуда берется этот третий собеседник, отвечающий за критерий общезначимости послания, ее направленности в вечность, к потомкам? Он возникает, когда происходит акт самовыражения. Я сажусь писать дневник, который «никогда никому не покажу». Однако в моих записях, хоть они и обращены в никуда, немедленно возникает Бог – как некий источник смысла, рожденный моими собственными словами. Разве это обстоятельство не свидетельствует о том, что Бог и сознание одной природы? Ни вечности, ни Бога, ни времени без человека не существует. Как только между личностью и молчанием снимается преграда – тут же возникает Бог. Потому и страшно говорить с самим собой, ведь Богу слышно.
Зверобой
В детстве в походе по лесу непременно заваривали зверобой – его стебельки с желтыми цветками, прямые, до колена, стойкие. Настой получался янтарный, слегка будоражащий, после него легче было ломиться через бурелом, бесконечно спускаться и выбираться из оврагов, идти по бедро в росе через ковры папоротника, напоминающего силуэт парящего орла. Несколько раз в лесу меня посещало чувство острого беспричинного страха. Это почти непередаваемое ощущение. Я вообще любил ходить в лес один. Было что-то волнующее в том, чтобы остаться наедине со стихией лесов, глухих и баснословных в преддверии Мещеры, как сказочные леса из «Аленького цветочка». Этот таинственный цветок – нечто вроде горнего эдельвейса или цветущего папоротника – занимал нас, как и лешие, русалки и кикиморы. Всю эту живность в том или ином обличье детское воображение доставляло нам с охотой, тем более что в глухом лесу в окрестностях Шатуры происходило много необъяснимого. Как мы не сгинули в торфяных болотах, собирая грибы, которых в иную пору там было косой косить, – неизвестно. Светлый лес и мягкий мох по щиколотку с озерцами черничников, с линзами черной воды, которые приходилось обходить по топким раскачивающимся берегам с торчащими облезлыми елками. Стадо кабанов не раз загоняло нас на деревья, но больше всего я боялся вот этих острых, разрывающих сердце приступов страха, когда вдруг в траве мелькнут капли не то каких-то ягод, не то аленький цветочек, но почудится кровь или просто что-то шелохнется во всей толще воздуха над дремучим оврагом с замшелыми поваленными стволами, – и рванешь, не чуя под собой ног, так что вокруг от встречного напора загудит воздух, – только бы исчезнуть из этого ничем не примечательного вроде места. Вот этот бег сквозь чащу до упаду, до момента, когда биение сердца готово разорвать горло, когда дыхание распирает не только грудь, но и все тело, когда валишься в изнеможении на опушке и постепенно приходишь в себя, сознавая, что лес вновь испытал тебя и принял, что снова и всегда за тобой будет присматривать хорошая грубая сила, только что столкнувшая тебя с места – так поворачивают ладонь, чтобы муравей бежал и бежал в направлении солнца; вот этот момент и остался со мной, как нечто необходимое для поправки реальности. Только чувство безопасности с годами становилось все тоньше и сейчас почти исчезло, так что непонятно, куда и зачем падать, на какой опушке.
Геометрия точности
Однажды, еще в самом начале их романа, Роден уединился было с Камиллой Клодель в спальне, как вдруг почувствовал что-то, прикоснувшись к ее телу, – и кинулся вниз в мастерскую, где стояла его незаконченная скульптура, – чтобы воспроизвести то, чему только что вняла его рука. Рука, протянутая к облаку.
Образное мышление, умение мыслить формами прежде всего связано с элементами геометрическими, и в этих координатах облако становится символом трансформации предметов в процессе мышления.
Кажется немаловажным и метеорологическое соображение. Оказывается, попасть в облако – это столь же катастрофичное, сколь и уникальное происшествие. Я слышал трагический рассказ одного дельтапланериста о том, как однажды его приятеля восходящим потоком засосало в грозовой фронт: «В мгновение ока планер устремился вверх, стал размером с пылинку и пропал в смеси белых и серых облачных валов. Труп его нашли два дня спустя в шестидесяти километрах – обмороженный, обгоревший, обернутый рамой дельтаплана. Небывалая смерть в грозовой туче: ледяной град, огонь молний, жернова смерча».
Воображение и свобода
«Все осмысленное – дискретно» – эта фраза Андрея Николаевича Колмогорова не исчерпывается только тем, что различие лежит в корне познания. Ее можно было бы поставить эпиграфом к одной из главных монографий XX века – книге антрополога Мэри Дуглас «Чистота и опасность». В ней впервые сформулирована идея о том, что разделение на чистое и грязное, само возникновение понятия нечистоты, различения между будничным и святым свидетельствует о мощнейшем импульсе в развитии религиозного и культурного сознания. Откуда берется эта корневая способность к различению? Когда происходит этот сдвиг, смещение сознания, позволяющее переводить реальность в область, доступную мышлению. Как зарождается способность к расчленению тела хаоса и извлечению из него смысла?
Для подступа к ответу на этот вопрос полезно обратиться к образу Еноха – к едва ли не единственной фигуре библейского корпуса текстов, которую можно считать символом познания – пытливости по отношению к устройству мироздания. Енох – один из главных персонажей иудейской истории периода Второго Храма. Некоторые ученые полагают, что некогда существовало противостояние иудаизма, ориентиром которого была фигура Моисея, и иудаизма, опиравшегося на откровения Еноха.
Енох был удостоен чести попасть на небо и в окружении верховных ангелов лицезреть глубинные тайны мироздания и даже лик Всевышнего. Происходил он от гигантов – или духов – рефаимов, рожденных от ангелов, возжелавших дочерей человеческих, для совокупления с которыми те спустились на вершину горы Хермон. Гиганты научили людей магии и принесли тлетворные знания, за что были сокрушены Богом в потопе. Не исключено, что выживший Ной был потомком гигантов. Вода сошла, и из трупов великанов вылетели бесы, с тех пор мучающие человечество. Это те самые бесы из Нового Завета, изгнанием которых прославился Иисус. Более того, изгнание бесов, по сути, было главным общественно полезным занятием основателя христианства. Представления древних евреев о бесах как о главных виновниках человеческих бед и болезней – не только своеобразная психотерапевтическая практика. Шизофрения, происхождение которой есть одна из важнейших загадок науки о человеке, вероятно, может быть представлена как взбунтовавшаяся архаическая функция сознания, когда-то отвечавшая за мифологизацию представлений о действительности.
Нильс Бор первый обратил внимание человечества на то, что наука более не способна развиваться в рамках классической логики, что мышление обязано модернизироваться и научиться работать во взаимоисключающих парадигмах. Эта новая «расщепленность» легла в основу мощнейшего научного прорыва. Все продукты цивилизации были созданы с помощью знаков и способов их передачи. Знак не мотивирован, и это чуть ли не главная загадка мышления и мироздания. И было бы не бессмысленно предположить, что способность сознания к «сдвигу», готовность взглянуть на себя как на «иное» лежит в корне познания.
Таким образом, представление об одержимости «бесами» – нечто глубоко нетривиальное, тесно связанное с умением сознания формировать собственную цельность, причем результатом этой работы является производство смысла.
Неизвестно, как возникли знаковые системы. Знак находится по ту сторону смысла и, вероятно, – говоря и символически, и буквально, – принадлежит той области, где некогда обитало ангельское существо, которое зачало от земной женщины Еноха, одарившего человечество, подобно Прометею, научным познанием.
Мегалиты
Ночевка на Голанах – особое удовольствие. Оживающий здесь на закате ветерок выстужает и заставляет надеть свитер и придвинуться к костру.
На склонах неглубокого разлома теперь лес, но прежде под колесами лежало долгое плато – чаша коренной породы некогда была наполнена лавой. Ощущение гористости и степной открытости одновременно. Повсюду разрозненные стада коров, колючая изгородь минных полей (иногда разминирующихся ценой коровьей жизни: такие тут парнокопытные саперы), и ни души.
К вечеру заехали по грунтовке к Колесу духов – Гильгаль-Рефаим. Это мегалитическое сооружение гигантских размеров производит таинственное впечатление. В общем-то, подобные сооружения суть примеры первых архитектурных опытов человечества – опытов по организации пространства. Разумеется, в этом базальтовом локаторе, обращенном к небесам, важно однажды переночевать в одиночку.
Над пустынными Голанами разверстое звездное небо, Млечный Путь туманным галактическим клинком пересекает космическую бархатную бездну. Воют шакалы, пес нервничает и плохо спит, прижимается мордой к плечу, а где-то за сирийской границей время от времени ухает артиллерия: до Дамаска 170 километров.
Хвост
Церковь Иоанна Предтечи на Пресне была заложена в XVII веке. Я часто бывал с ней рядом, но впервые оказался внутри, когда отпевали Хвостенко. Было промозгло на улице и холодно в церкви. Хвостенко лежал в небольшом гробу с лентой на лбу, истощенный и одинокий.
Я проходил мимо этой церкви, направляясь на Трехгорку[8]8
Район Трехгорной мануфактуры на Рочдельской улице в Москве.
[Закрыть]. На пороге ее часто видел среди нищих одного слепого, пронзительно напоминавшего Иосифа Бродского. Иногда я останавливался неподалеку, чтобы посмотреть, как он кивает в благодарность за опущенную в шапку монетку. Перед тем как уйти, я тоже давал слепому денежку, он вежливо благодарил. Это был своеобразный ритуал. Я был заворожен этими действиями: подойти к бледному, в черных круглых очках Поэту, побыть с ним несколько секунд рядом. Однажды я положил ему в шапку монету и понял, почему на меня так действуют эта слепота, схожесть, но главное – глухое звяканье мелочи в шапке: «Я был в Риме. Был залит светом. Так, / как только может мечтать обломок! / На сетчатке моей – золотой пятак. / Хватит на всю длину потемок».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































