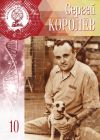Текст книги "Матисс"
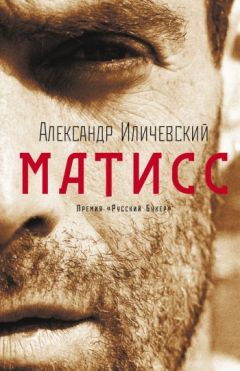
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
LIX
Постепенно его отдохновением стало мечтание. Им он упражнялся в покидании здешних окрестностей, в постепенном развитии зрения, которое научился выстраивать новым, не похожим на прошлое… Видения сверхгеографические – заграница исключалась: это был ад за порогом, в который он бы сошел, если б только решился совсем пропасть из виду. Чаще всего, мотаясь по городу, он представлял, что сидит на берегу реки, солнечные блики греют щеку; гремят, брызгают в траве и щелкочут кузнечики – роса вечерняя напоит дыхание, медовый свет заструится на закате меж соснами, озарив с теневой стороны стволов матово-прозрачную шелуху; ночью лес вскрикнет очнувшейся птицей – она слетит, спросонья не сразу ухватится за ветку, снова вскрикнет слабее: «А-а-а-а». Вот это солнечное рябое пятно, горячо разлитое по воде, мучившее жмурившийся глаз, незримо стояло у него где-то над переносицей, просвечивая, прожигая насквозь бетонные толщи подземных переходов, дорожных туннелей, обложные пешие толпы, поруку фасадов, упор филенчатых панелей в бывших министерских приемных, где Королев, вечно унижаясь перед хамскими чинушами, добывал для Гиттиса халтурные лицензии; прожигая мутную, сложную темень складской выдачи, закутков, где то стремятся, то плетутся синие силуэты грузчиков, то выкручивают пируэты кары, то вдруг комом метнется под стеллаж, помедлит, пропадет – и вдруг снова покатится крыса…
Однажды к нему приехал знакомый – Гоша, геолог, теперь занимавшийся тем, что бурил старые, еще чкаловских времен – времен ОСОАВИАХИМа – подмосковные аэродромы, откачивая из почвы дрейфующие керосиновые линзы, которые скопились за многие десятилетия от протечек топлива (колодцы в деревнях рядом с такими аэродромами припахивали сладковатым душком). Познакомились они с ним давно – застряли вместе в лифте в одной из панельных башен в Сокольниках. Гоша тогда спас Королева, уже страдавшего клаустрофобией, все полтора часа рассказывая истории о рухнувших лифтах и не давая упасть духом.
Гоша был простым здоровым работягой, любившим пообщаться с толковыми людьми. Время от времени он приезжал к Королеву с бутылкой водки и каспийской селедкой, которую, разделав, заливал молоком в миске… Королев обожал слушать его россказни. Например, Гоша рассказывал, как студентом Горного института однажды смотался на Сахалин, поработать летом в строительном отряде. Там бросили жребий – и, вместо того чтобы остаться строить коровник, его и сокурсника Щеглова отрядили на плавучий рыбокомбинат. Смердящий, пьяный от качки железный город, по внутренностям которого долго-долго приходилось выбираться на палубу, чтобы глотнуть взглядом моря, – на всю жизнь заключил многие страхи Гоши. На дне просторного, высокого, как храм, трюма ниспадали желоба подачи, тянулась лента конвейера, громоздились холодильники, ящики, серебряная лавина анчоуса лилась под округлые движения рук, с вороным мерцанием дрожал поток тунца, женщины в резиновых фартуках взмахивали тесаками, лезвия хрустели о рыбьи хребты, стояла уничтожающая вонь, хлюпали и хлопали перчатки, блистали ножи, то гудел гомон, то рисовалась песня Пугачевой…
И однажды как раз Гоша Королеву и рассказал историю, увлекшую его необычайно. Оказывается, существует некое английское рекрутское агентство – «Oil For Life», которое по всему миру ищет людей для работы на буровых платформах, расположенных в самых разных местах планеты: в Норвежском море, у Огненной Земли, в Мексиканском заливе или у берегов Эфиопии. Высокий риск, вечная качка, суровые условия, сопоставимые по риску и вреду для здоровья с условиями труда полярников, подводников или космонавтов, – обеспечивают высокую зарплату даже у подсобных рабочих. Работа осуществляется согласно вахтенному расписанию: две недели вкалываешь, две отдыхаешь.
– Торчишь где-нибудь в Ванкувере, в дешевой гостинице, – объяснял Гоша потрясенному Королю. – Слоняешься по барам, по лесу рассекаешь на снегоходе – или деньги экономишь, билет-то обратный оплачивается… Это если домой не хочется. А если хочется – то пожалуйста, хватай крылья да лети. В Шереметьеве уже и закиряешь…
История о буровых вышках овладела Королевым на многие месяцы. Он мечтал устроиться на американскую нефтяную платформу, хотя бы полотером. Тщательно прорисовывал воображение многокилометровыми полотнами открытого моря, вдруг озаряющегося проблеском глянувшей из-за туч луны, высотная конструкция буровой установки тяжело ходит во тьме ажурной тенью, грохочут скважинные замки, с воем заходит в клин привод воротника. Свистит шквал в снастях, за бронированными окнами пятипалубного рабочего городка буровиков пылает свет, стоят компьютеры, в кают-компании блестят бокалы. Внизу в рубке связисты то и дело припадают к микрофонам, на локаторе бежит луч, высекая там и тут прыгающие по клеткам точки. Три порожние баржи из разметанного штормом буксировочного каравана дрейфуют нынче подле буровой – в сердце морей, во тьме и пустоши пучины угрожая тараном. Светлая зыбучая каюта, всюду увешанная постромками, морская болезнь, от каковой он спасается вставленной между зубов спичкой, леденцами и курением донской полыни – маслянистого крошева, кислый густой дым от которого вышибает из головы и страх, и тоску, и мороку. Размещается он при этом блаженно сначала в гамаке, потом в плетеном кресле-качалке на заснеженной веранде дешевого коттеджа в Анкоридже, укрывшись пледом и полярным спальником, глядя из-под козырька на плывущие, ложащиеся в сумерки саваны снегопада, на многоярусные пагоды сосен, на гирлянду огоньков, стекающую волной с козырька конторского домика, на лошадку, запряженную в сани, укрытую попоной, с которой две синицы склевывают раскисшие хлебные крошки, на свои пальцы, греющиеся от чашки трубки, на потрескивающий в ней раскаленный пятак, прикрытый стопкой золы… Месяц спустя, сойдя утром с вертолета, он вновь скрывается от взглядов команды оранжевой бейсболкой и трет мохнатой шваброй полы, исчерканные коваными ботинками, трет, трет и – когда никто не смотрит – вдруг прижимается лицом к стеклу, за которым прожектор слабо выхватывает бушующие в пропасти зигзаги и рвы: тяжкие антрацитовые горы, огромные, как целые страны, дышат, ходят у самого горизонта, – и от величия зрелища у него подымается в горле ком…
Королев заплатил две сотни долларов за комплект анкет, усеянных рядами квадратиков, на просвет дававших водяной знак в виде курсива – Nobel Brothers Baku 1898 – под допотопной буровой вышкой, возле которой почему-то паслись три барана. Он аккуратно заполнял анкеты три вечера подряд, растягивая удовольствие. Отослав заказной зарубежной бандеролью в Голландию, в центр обработки информации, стал ждать избавления призывом: когда подойдет очередь полететь винтиком в дебри неизвестности – для пополнения комплекта обслуги на новой буровой платформе.
LX
Неожиданным потрясением, но зато сам собой разрешился Гиттис, вдруг переставший отягчать Королева всеми тяжкими чувствами.
Однажды после сеанса в Киноцентре (по интернатской привычке он ходил в кино, как в баню – раз в неделю) он встретил Лену, старшую дочку Гиттиса. Королев вызвался ее отвезти домой. Лена согласилась и наскоро попрощалась с подругой. В машине сказала, что хочет выпить пива.
– Где тут на Пресне подают «Гиннесс»? – спросила она, открыто глядя на него с улыбкой. Ей было восемнадцать. За последние два года она превратилась из девочки в женщину. В ресторане болтала без умолку. Взвинченная матерью, среди прочего сообщила:
– Я люблю отца, но не уважаю.
…Ночью, полулежа в постели, благодарно запустив пальцы в волосы Королева, она тихо объясняла клокотавшей в трубке матери, что несколько дней поживет у подруги на даче.
На третью ночь он проснулся от жажды. Лена спала, разметавшись. Он нагнулся, скользнул губами по налитой, качнувшейся груди, лизнул твердый сосок. Девочка зашевелилась, повернулась, что-то пробормотала, – и взгляду его открылся курносый профиль, белесые ресницы, бровки, выкаченные веки. В ртутном свете уличного фонаря – рядом на подушке размещался профиль исхудавшего, осунувшегося Гиттиса… Он улыбнулся во сне – и брекеты, мешавшие им целоваться, – проволочные скобки на зубах, о которые Королев оцарапал язык, – блеснули в полусвете, поразив своим видом, будто вынесенный наружу скелет.
Король вышел на балкон и закурил, едва попав спичкой о коробок – дрожали руки. Внизу, сидя на бортике песочницы, пьяный парень забубенно объяснял другу:
– Ты в армии не был. Да ты чё. В армии тебя бы научили.
«Мой мир полон насилия. И я тому виной», – пробормотал Королев, задыхаясь от слез и дыма.
После этого случая Гиттис стал ему безразличен, однажды мысленно отплыв всей тушей в безопасную даль, – подобно облаку, полному града, только что смертно угнетавшему всю округу ледовыми, лягушечьими казнями, которым, казалось, нет конца и краю.
А Лена стала иногда заезжать к нему в гости от скуки, также и телесной.
Карточки
LXI
Вскоре Королев внезапно обнаружил, что его клаустрофобия приобрела угрожающую силу. Ему было тесно повсюду – спазм пространства спирал дыхание в туннелях метро, на эскалаторах, в очереди в супермаркете. Простои поездов в туннелях, терзавшие его, как медведь кусок сахара, медленные узкие лифты, в которых створки, прежде чем раскрыться, навсегда замирали вместе с сердцем, захламленные госучрежденческие высотки с низкими потолками (типа здания Госстандарта на Ленинском проспекте), под которыми небо наваливалось на плечи, – и сумбурный, обманный план пожарной эвакуации, бледно скалькированный на миллиметровку, расплывался в глазах от страха перед тугими чулками лестниц, с которых уже сыпались в проемы и застревали разверстые в вопле тела; даже автомобильные пробки, особенно на Садовом кольце под Таганской площадью, – исчезли из его повседневности. Наивысший трепет у него вызывал туннель Третьего кольца, спускавшийся бесконечно под Лефортово. От одной мысли, что в нем может произойти авария, пожар – и пробка скучится так, что дверь в машине открыть будет невозможно, – толстая корка льда покрывала его скальп и постепенно спускалась к лопаткам.
Причем реакция его была не головная, а чисто физиологическая: прерывание дыхания, холодный пот, сердцебиение, сотрясавшее всю грудную клетку, отдававшееся в пятки, желание удариться оземь… Королев понимал, что ему следует срочно пойти к врачу, начать лечение, но вскоре ему стало интересно со своим недугом, болезнь увлекла его, потому что доставляемые ею новые впечатления выгодно остранили действительность…
Он перестал ездить в метро в часы пик, садился только в последний вагон, но все равно биение сердца наполняло его всего. Состояние это было похоже на похмелье, когда оказываешься подвешен на ниточке внутри себя и собственные движения укачивают наподобие карусели.
Клаустрофобия подвигла Королева срочно обновить заграничный паспорт – дабы разорвать давящую поруку замкнутости. Пока стоял в очереди в ОВИР, он вспомнил свой стародавний отъезд за границу. Вспомнил прокуренный коридор в здании на Старой площади, пенал кабинета выдачи, где длинный усатый чинуша поигрывал пачкой тогда невиданного, еще магического Marlboro; как, встав, подобно динозавру, выбросив вперед всю свою суставчатую зыбкую долговязость, этот чиновник прогнал робкую женщину, каждый день нервно приходившую за групповой бельгийской визой. Королев вспомнил, как сам пятую неделю являлся на Старую площадь и понуро сидел, мутно вглядываясь в перспективу, полонившую воображение. Все тогдашнее будущее было чудовищно зашторено бордовым плюшем актовых заседаний, завалено ноздреватыми, составленными из картофелин и свеклы физиями вожаков и кооператоров, гипсовыми харями вернувшихся к отмщению сатрапов, пляской беснующихся бомжей и пиджачками новых сенаторов и партийцев. Он вспоминал – и понимал, что это прошлое будущее исподволь все-таки настигло его, что и сейчас хотя бы только знание о возможном бегстве может чуть его обезболить. Опричнина безысходности наводила не упокоение тоски, а такой градус опасности, что каждый день переживался подобно удачному приземлению самолета. Волна густого миража накатывала на все его аналитические способности – и крах, провал доступной ощупи реальности – в открытый люк тщеты – обрушивался под челюсть. Надежда буксовала, как кошка в многоэтажном воздухе свободного падения. Да еще гнело вокруг возбужденное кваканье дилетантов, параноидальные ставки оптимистов, вой держащихся зубами за перила недавних корифеев.
Пылавший Манеж до сих пор стоял в глазах Королева, пожаром 1812 года распространяясь над Кремлем, над латинским кварталом и Университетом. Дымный грузный Бонапарт, сложив руки, стоял в небе над Москвой – и беснующиеся огненные псы, подскакивая, лизали его ботфорты.
Далее, продвигаясь потихоньку вдоль стены коридора ОВИРа, Королев поплыл в воспоминаниях, подобно ребенку, увлекшемуся пущенной в ручей щепкой. Почему-то он вспомнил поездку в Киев, вспомнил сусально-витиеватую роскошь Лавры. По дороге к ней он встретил монаха, вышедшего в мир по какому-то делу. Глядя под ноги, с четками, весь сосредоточенный на том, чтобы не задеть, не смутить и не оскоромиться мирским, он одновременно лавировал в толпе и в ней растворялся. Это движение было очень сложным: отделиться, не выделившись. Так двигаются невидимки, истекающие зримой кровью… В Лавре Королев встал в очередь, спускавшуюся в катакомбы, где мощи монахов лежат в известняковых кавернах, подобно книгам на полках. Люди семенили гуськом, проход сужался до ширины плеч, духота стискивала грудь. Скоро он стал ловить горлом сердце, и приступ задыхания вышвырнул его обратно.
Наконец Королев догадался, что приступы его связаны с неврозом исторического масштаба, с отсутствием эсхатологической модели вообще.
И тут у него все, включая клаустрофобию, и отлегло от сердца.
Но паспорт был уже сделан.
LXII
Вообще, Королева не слишком заботила задача «прожить как все», поэтому на борьбе он не экономил. Сначала рассуждал приблизительно, лишь вырабатывая лишнюю энергию тоски, стараясь удержать ее до черты взрывоопасности. Даже не рассуждал, а наворачивал внутри себя пелену из ткани памяти и воображения, стараясь тем самым отдалить, закутать черный огонь тоски, который теперь прижигал его изнутри, распространяясь по всем закоулкам. На деле Король был мужественным и заземленным человеком, он не стал впадать в мнительность. Не запил, не пошел ни в церковь, ни к доктору и не стал наобум принимать транквилизаторы, а купил баночку с тушью, десяток простых перьев, два плакатных, рейсфедер, чертежной бумаги несколько пачек – и засел выводить графические схемы своего тупика, пытаясь начертательной психологией нащупать иное измерение, способное подвести его к выходу.
На первых его набросках ничего нельзя было увидеть, кроме перечеркнутых нулей, которые он выводил на разный лад одним росчерком без отрыва, и в правом углу – пустые разграфленные рамки, в точности такие же он много лет назад привык чертить на листах лабораторных работ.
Занятие это его успокаивало и вдохновляло на выразительность. Он вычерчивал эти схемы, архитектурные выкладки памятных мест, засевших у него в голове вместе с драмой воспоминаний, – с отчаянием детальной тщательности, которая могла бы ужаснуть, если бы не доскональная правдоподобность воспроизведения реальности, недоступная расшатанному воображению шизоида. Причем внутренним критерием, по обнаружении которого следовало уже остановить работу, Королеву служила только та интуитивная мера достоверности, при которой изображаемое словно бы становилось меньше изображенного и – вымещенное вместе с драмой – отныне словно бы уже и не существовало. Во всех случаях основой ему служила его выдающаяся память, и если она подводила – он мог несколько дней подряд потратить на плутания возле, на рассматривание того или иного здания, городского объекта – или, как это было в случае с велосипедом, – купить.
КАРТОЧКА № 1 (бумага, тушь, перо, рейсфедер, линейка, циркуль, рейсшина, иголка, шприц). Здесь для начала он сделал от руки тонкий карандашный набросок коробки с вертикальными ребрами, наподобие радиатора, – и вывел печатно на козырьке: КУРСКИЙ ВОКЗАЛ. А месяц спустя во весь лист с чудовищной ясностью жило здание вокзала, еще не перестроенного, не отгороженного от Садового кольца гигантским термитником торгового центра. Вокзал воспроизведен был с точностью до просвечивавших во втором ярусе – повыломанных там и тут кресел-ракушек зала ожидания, комнаты матери и ребенка, буфета, увенчанного цилиндрическим зеркалом титана, в котором разъезжалась хороводом россыпь зонтичных столиков, с солонками, с розетками, измазанными потрескавшейся, как такыр, коркой горчицы; с точностью до крылышковых петель на створках дверей, надписей «Вход», «Входа нет»; до трех собак, развалившихся слева у зевка метро, киосков, бабок-лотошниц с деревянными ящиками у ног, на которых были разложены с бутафорской дотошностью нарезные батоны, банки с зеленым горошком, вяленая плотва, четвертинка тыковки; с точностью до мрачных типов, как в паноптикуме, застывших вокруг сидящего на корточках наперсточника, вскинувшего руку со стаканчиком; за ними располагались рядком три «Икаруса», под лобовым стеклом головного свисал атласный, с бахромой вымпел «Ударник труда», увешанный эмалированной ратью нагрудных значков; с точностью до человека с мегафоном у рта, застывшего рядом, в майке с зеркально отраженной буквой «Я»: «R» – на груди; с точностью до парковочных шлагбаумов, многоугольных выщерблин в асфальте подъездной петли, надписей на табло пригородных отправлений по Горьковской ветке, прописанных наборными точками трафарета: Фрязево, Павловский Посад, Крутое, Киржач, Балашиха…
Королев не умел рисовать людей, и они выходили у него комически топорно, подобно тому, как на чудовищной картине Айвазовского «Встреча Венеры на Олимпе» боги стыло стоят у парапета над бушующим морем. Тогда два месяца он проработал зазывалой на Курском вокзале. Пыхая и бубня в мегафон, он призывал приезжих и транзитных пассажиров пройти в автобус – во владения Кости-трепача, вихрастого толстяка, никогда не слезавшего, развалясь, с передних двух кресел.
«Внимание, внимание! – хрипел голос, отдельный от Королева, как протез. – Дорогие гости столицы, вас ждет обзорная экскурсия по Москве. Пять минут до отправления – пять свободных мест в автобусе. Пятьдесят километров по центральным улицам и площадям. Университет, Воробьевы горы, горнолыжные трамплины. Пожалуйста, приобретаем билеты, билеты на экскурсию на автобусе – пожалуйста, подходим – здесь покупаем билеты, проходим на свои места. Триумфальная арка, проедем вдоль Москвы-реки, увидим Новодевичий монастырь – на полтора часа увлекательная автобусная экскурсия. Три свободных места. Два свободных места. Несколько минут до отправления автобуса. Билеты только здесь. Подходим, товарищи, подходим, не скупимся ради знаний, не скупимся. Что такое тысяча рублей? Двумя бутербродами сыт не будешь. Подходим товарищи, подходим на экскурсию».
Баснословное знание Костиком истории улиц столицы превышало не только краеведение как таковое, но и словно бы саму Москву. Рассказы, которые этот лихой увалень выдавал в эфир автобусных кружений по незамысловатым достопримечательностям, были не только превосходны, но еще и доступно увлекали в круговорот кучевого облака истории. Как плотву, на кукан из двух-трех переулков он нанизывал эпохи: здесь восставшие левые эсеры держат в заложниках в подвале Дзержинского (наган на столе – железного Феликса кормят селедкой), там Годунов во время Смуты прячется в палатах Шуйских, в том флигеле, во дворе, умер Левитан, а в этом здании Пушкин пишет «Историю Пугачева»… Здесь Маковский на картине «Ночлежный дом» поставил Саврасова в очередь в ночлежку купцов Ляпиных, и вот взгляните ниже по переулку – Толстой поднимается на крыльцо «Русского вестника», а поодаль плюгавенький господин-писатель, вперившись в поясницу, переживает, что ему-то платят червонец за страницу против четвертного графу…
Вокзал вокруг круглосуточно кипел, гнил, сквозил, пускал и глотал жизнь, как незаживающая дыра в теле пространства. Справа, на краю парковки, Королев расчертил коробки многоярусных палаток – внизу продавалось пиво и бакалея, наверху хранились тюки и ящики с товаром. Среди товара ночевал молодой бомж Коля. Он сторожил, подметал вокруг и получал зарплату от двух хозяев киоска – бритых толстых братьев-двойняшек Гоги и Кабана. В Колю была влюблена Любка-песня – лысая бомжишка, помогавшая всем торговкам. Она подносила тяжести, опорожняла мусорки, присматривала за товаром, когда они отлучались по нужде. Коля тоже состоял в доверии, но старался маячить только у киоска. Зарплату получал он аккуратно – каждый третий вторник, и в тот же день у киоска появлялась его любовница – дебелая старуха, баба Нюра, с малиновой пустой сумкой в руке, которой она размахивала при ходьбе, как вымпелом. Она брала Колю за руку и уводила на троллейбусную остановку. Любка-песня шла за ними, что-то бубнила, грозила. Старуха поворачивалась и отгоняла ее, хлеща сумкой.
В отсутствие Коли на крыше киоска сторожила Любка. Возлюбленного она ругала тихо, а бабу Нюру – громко. Ворчала она все то время, пока не спала. Торговки сочувствовали ей, и она благодарно упивалась их женской солидарностью. Любка цеплялась за любое обиходное чувство и раздувала его вместе с собой – чтобы раскрыть себя как человека, подобно тому, как дети цепляются за любую черточку взрослых, чтобы, опробовав ее в игре, постараться повзрослеть.
Коля от любовницы возвращался сытый, отстиранный, заштопанный, трезвый и без копейки. Хоть Любка и подхватывалась с руганью, но видно было, как она рада его возвращению. К ночи разжившись выпивкой, она забиралась к Коле на сарай. Делала она это суетливо, испуганно оглядываясь, промахиваясь ногой мимо лестничной перекладины.
Однажды, в одну из сред, Коля не вернулся. Не вернулся он и в четверг. Любка носилась вокруг вокзала, кричала, не могла успокоиться, будто чуяла что-то, но потом куда-то пропала. В эту ночь склад на крыше киоска был обворован. Унесли две кошелки с сигаретами и три ящика пива.
Коля вернулся в пятницу. Чистый и довольный, пьяненький.
Гога и Кабан били его ногами полчаса. Когда устали, позвали линейных ментов, и те оттащили окровавленное тело на запасные пути к товарной станции.
В субботу вернулась Любка, ходила кругом, молчала, потом стала что-то тихо говорить – себе под нос, но с выразительным убеждением. На следующей неделе, когда увидела, что киоск, разгрузив, разбирают, что автокран ставит его в кузов самосвала, – Любка завыла и побежала на Садовое кольцо, кинулась на проезжую часть, заметалась, и ее пинками, остановив движение, доставал оттуда постовой…
Потом она как-то сразу притихла и вскоре куда-то пропала.
Королев видел, как били Колю, и ничего не предпринял.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.