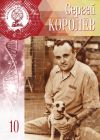Текст книги "Матисс"
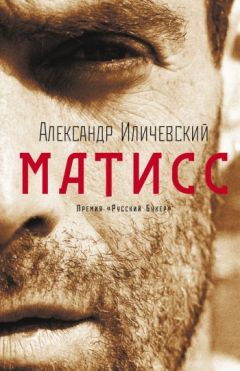
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Надя
IX
Надя была почти немой. Ей настолько трудно было выразить свою душу, что, страдая, все сильнее сжимая челюсти, она вдруг начинала жестикулировать: то ли показывая, то ли собираясь вколотить в собеседника то, что для нее самой так ясно, остро. Случалось, что Ваде и вправду попадало, и было больно всерьез. Надя, только еще больше расстроившись, отбегала, тяжело дышала, переминалась на месте, словно собираясь куда-то быстро идти, – и вдруг останавливалась, взмахивала рукой, сжимая и разжимая пальцы.
Стезей, на которой он стоял, Вадя невольно обрел сердце Нади, была его любовь к Высоцкому и Цою. Почти все песни первого («Семеныча», так Вадя по-свойски именовал поэта) он знал с детства, по магнитофонным записям, которые слушал с пацанами, прижимая плечом портативную «Весну». Творчество второго озарило его пэтэушную юность.
Вадя любил петь песни Высоцкого. Точнее, не петь, а мычать. Пел он их и в плену, и когда стал ходить с Надей. Особенно с ней. Он пел редко, стесняясь. В парке, на вокзале уходил куда-нибудь подальше, за кусты, на дальний конец перрона, и там, будто камлая, начинал просто мычать, без мотива, и потом распевался, его густой баритон набирал силу, глубину, вырисовывалась даже не мелодия, а речитативный рисунок, совсем не похожий на известную песню, но вдруг представляющий ее с иной стороны, по-иному раскрывая ее пронзительно драматическую суть, словно бы обнажая смысл слов, теперь лишенных мелодической анестезии.
Удивительно, как неумелое исполнительское участие Вади превращалось в режиссерское соучастие в этой песне, – и Надя ценила это и слушала с открытым ртом.
А послушав, хлопала его по спине:
– Артист!
Но он не сразу подпускал ее близко к себе, никогда не пел на заказ, по просьбе, – всегда махал рукой, сердился, прикрикивал на нее и, стыдясь – или священнодействуя, – уходил поодаль размычаться. И только потом, когда сам погружался в медитативное распевание сильных слов поэта, терял бдительность и, прикрыв глаза, садился, – она подбиралась к нему и замирала от восторга. «Парус! Порвали парус!», например, пелся Вадей почти по слогам, с неожиданными эскападами, и непонятно, как у него хватало на это дыхания.
X
А вот песни Цоя он никогда не пел, ни разу. Зато они часто приходили их послушать к Стене Цоя на Старом Арбате. У этой исписанной «поминальными памятками» кирпичной стены собиралась бродячая молодежь чуть не со всей страны. Ребята были незлые, иные даже вдохновенные. Всегда имелся шанс, что нальют, – только если не наглеть, а услужить, подружиться.
Летом у Стены было веселее – со всей страны народ перебирался на юг, к морю, выбирая Москву перевалочным пунктом. В каникулярный сезон «народ Цоя» большей частью пропадал в Крыму, где на татарских базарах, под ногами отдыхающих они бряцали на гитаре, потрясая в такт железными кружками с мелочью. Какая душевная метель мотала этих ребят по городам, автостопом – из Уфы в Питер, из Питера в Москву, из Москвы в Новосиб, – было неясно. Вадя не задумывался об этом. Так человек никогда не задумывается о частях своего тела как о посторонних предметах. В его представлении вся страна куда-то ехала и разбредалась, брела – и только Москва пухла недвижимостью, чем-то могучим и враждебно потусторонним Природе, о которой он тоже ничего не знал, но когда задумывался, то о ней почему-то было складнее и потому приятнее думать, чем о людях.
Было немало таких ребят, что подвисали на Арбате с гитарами и ежедневным портвейном на несколько недель, месяцев, обретаясь по ночам в одной из многочисленных опустевших квартир в центре города, в домах, подлежавших капитальному ремонту. В ту пору едва ли не целые улицы – Пятницкая, Остоженка, Цветной бульвар и окрестности – стояли выселенными. Власти города никак не могли найти денег на реконструкцию. Покинувшие их жильцы забрали с собой не всю мебель, не всю утварь. И кое-где оставили целыми замки, с торчащими в них ключами от рушащегося будущего.
XI
Надя и Вадя сначала обосновались в бывшем общежитии МВД неподалеку от Цветного бульвара. XIX века постройки – длинное здание, волнами просевшее там и тут по всей длине, как-то даже изогнувшись. Будучи в начале века дешевой гостиницей «Мадрид», здание имело унылую коридорную систему. Длиннющий безоконный туннель шел больше сотни метров, кривясь, заворачивая, был освещен только тремя тусклыми лампочками, от одной из которых почти не было толку, так как она пропадала за поворотом. За него Наде жутко было повернуть – и она таскала с собой Вадю всякий раз, когда шла в туалет. В нескольких местах при свете спички, как в облаках – в разрыве облупившейся многослойной покраски, можно было увидеть роспись. Видна была лубочная глазастая испанка с веером. Неподалеку, в другом провале, можно было разглядеть переднюю часть быка, завалившего набок морду с бешеным бордовым глазом. Коробок спичек сожгла Надя, изучая стены коридора. Она сумела щепкой извлечь из-под штукатурки испанку – и обнаружить красные тупоносые туфли на толстых каблуках под кипенными оборками, видными из-под лиловой траурной юбки.
Во многих комнатах лежали горы строительного мусора, через которые было сложно (приближаясь вплотную к потолку – и пригибаясь) перебираться к окну, – на широком подоконнике они умудрялись спать валетом.
Много разного люда обитало в этих руинах. Все они были разобщены – и в нефтяном сумраке коридора, настороженно минуя друг друга, напоминали призраков. Случалось, Надю пугала фигура, отделившаяся от стены, или – так и оставшаяся неподвижной, или когда вдруг ближайшая дверь распахивалась от удара, слышался возглас – и оттуда, судорожно захлопывая за собой проем, открывший хлам, нагое тело, вздевал над грудью локти, выбегал аккуратно одетый юноша, с белыми зрачками и перевернутым лицом…
Потом они перебрались на Петровский бульвар.
Коммуна художников с бешеными от счастья глазами, с которыми Вадя и Надя делили лестничную площадку, дала им прозвище Слоники. Они и не догадывались, отчего это произошло. Видимо, в подвижном представлении художников они не ходили, а слонялись.
Потолок в местах, где обваливалась штукатурка, был завешен маскировочной сеткой. Скромно, сторонясь всех, Надя садилась в самом темном углу. Сутки напролет неприметно сидела тихой мышью, прикрывая ладонью блеск глаз. То улыбалась от смущения, то жгуче краснела от внезапного стыда.
Куски штукатурки падали в провисавшую сетку. Тонкая девица в длинном черном платье, сидевшая на подоконнике с альбомом в руках, вздрагивала. Надя восхищенно рассматривала ее текучую фигуру, руки, ниспадавшие на бедра, мечтала о том, что́ раскрывают в себе страницы ее незримой книги – и вдруг бросалась сметать рукой с дивана крошки штукатурки, садилась снова в угол. И снова скрипели мелованные страницы.
А то вдруг в квартиру влетала девушка и, схватив одной рукой художника Беню за рукав, другой судорожно рылась в спадавшей с колена сумочке, ища сигареты, и косилась на Надю.
Но Беня успокаивал:
– Это ничего, это свои ребята, хорошие.
После чего, хмыкнув, девушка чиркала спичкой и выпаливала:
– Куйбышев на «винт» сел! – и тут же, пыхтя, окутывалась спорыми клубами дыма.
Беня – рыжий парень с лицом убийцы – качал головой и уходил в другую комнату. Он шел дальше вырезывать коллажи, – бешено расхаживая, бросаясь вдоль стены, прикладывая тут и там лоскуты на пробу контраста. Он кроил их из цветной бумаги, журнальных иллюстраций, этикеток, кусков материи, пингвиньих и гагачьих перьев, бересты, картона, осиных гнезд. На пестрых просторных пучках и букетах коллажей кружились ракеты и космонавты, дома и церкви, трактора и башни, поля и небо, рыбы и люди, цветы и бесы.
Надя любила наблюдать за Беней, чье занятие так ей было понятно. Она отлично помнила, как в детстве соседка по парте гремела ножницами, разрезая бархатную бумагу…
XII
Вадя не любил торчать у художников. Он приходил в конце дня и заставал Надю за чаем, которым ее всегда угощал Беня. Чаю с сушками перепадало и Ваде. Малахольный Беня ставил перед ним чашку, громадно склонялся к его приземистой большеголовой фигуре и, заглядывая в неуловимые глаза, страшно спрашивал:
– Что? Не обижаешь девку?! Смотри у меня. Мирно живи.
Надя ежилась от его громогласности, а Вадя словно бы и не замечал, словно пустое место для него был этот Беня. Он сидел болванчиком, с высокой волнистой шевелюрой, и, сгорбившись, толстыми губами втягивал со свистом чай.
Одним из главных людей этого полуподпольного творческого сообщества был музыкант, гитарист. Теребя струны, он ходил дозором по всей огромной квартире – с гитарой, волоча за собой шнур, который соединял его с далекими колонками, надрывавшимися согласно дребезгу звукоснимателя.
Был там еще один невероятный человек, который пугал Надю до смерти. Вадя же чувствовал к нему трудно выразимую близость. Это был низенький робкий человек, с редкими блеклыми волосами и резкими чертами лица. Один глаз его был чудовищно крив, ходил он, нетвердо держась на кривых ногах. Лоб его был повязан полоской материи, на которой, выведенный тщательно шариковой ручкой, красовался ветвистый иероглиф.
Он как раз и заинтересовал Вадю, который терпел две недели.
И не выдержал. Подсев на корточки на пути проходящего мимо Зоркого Глаза (так звали этого человека), Вадя уважительно нахмурился:
– Слышь, браток, я тут давеча всю дорогу дивился: а что это у тебя во лбу горит?
Зоркий Глаз покорно присел к Ваде, сложил ноги «лотосом», ткнул пальцем себе в лоб и прохрипел:
– Это – буква стихий. Символ Инь-и-Ян.
Вадя пошире раскрыл глаза.
Зоркий Глаз замер и четко прибавил:
– Сложная штука!
– А ты расскажи, не таись, – кивнул ему Вадя и приложил к уху ладонь.
– Короче. В каждой точке Вселенной есть Инь и Ян. Белое и Черное. И вот они сношаются. Вот таким образом. – Зоркий Глаз изобразил локтями волнообразные движения и кивнул: – И так в каждой точке пространства бытия. Тут. Там. Здесь. Вот здесь. В космосе. Везде. Белое – Инь осеменяет Черное – Ян. И наоборот. Счастье зависит от того, с какой частотой они это делают.
Вадя отвел палец Зоркого Глаза, чтобы тот не мешал ему рассматривать иероглиф.
– Так значит, прямо так и сношаются? – спросил недоверчиво Вадя, пытаясь понять, какой глаз у собеседника главный.
– Да. Но жизнь, счастье зависит от частоты. Как быстро они это делают. – Зоркий Глаз перевел взгляд на музыканта, выпавшего в коридор с гитарой в руках.
– Слушаю, друг, скажи, – вежливо напрягся Вадя.
– Частота должна быть такая: единица, деленная на «аш с чертой», на постоянную Планка, – понизил голос Зоркий Глаз, вывел рукой плавный зигзаг и перечеркнул его ребром ладони. – Это очень большая частота. – Он важно поднял вверх палец.
Вадя сокрушенно провел ладонью по волосам и сказал нараспев:
– Понял, братишка. Ну, бывай. Будь осторожней, брат. Будь.
Вадя хлопнул себя по колену, встал.
К Зоркому Глазу молча подсел гитарист и принялся страдальчески надрываться пальцами по грифу, клоня голову и кивая в сторону комнаты, где стояли колонки, подвывающие его дребезжащим пассажам…
XIII
Когда Надя долго оставалась одна, лицо ее постепенно становилось глуповатым – взгляд останавливался, и если ей вспоминалось что-то с усилием, то лицо бледнело, приобретая ошеломленное выражение, или – краснело, и выражение становилось тягостным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Оставаясь одна, Надя старалась скорее заснуть. В одиночестве она претерпевала какую-то трудность, бедственность которой состояла в неизъяснимом беспокойстве, слишком текучем и неподатливом для внутреннего овладения. А если заснуть не получалось, старалась читать. Читала по складам все, что попадало под руку – этикетки, квитанции. Читала яростно, пыхая, шевеля губами, едва успевая переводить дух, читала даже газету. Широко открывала глаза, смаргивая, поводя головой, устремляя взгляд на время в сторону, сверяя слова с пониманием…
Октябрь
XIV
С художниками они дожили до осени, а с наступлением холодов нашли теплый чердак на Пресне. Низенький, засыпанный мелким гравием, – в нем приходилось ползать на четвереньках между отопительных труб, обернутых стекловатой, среди снующих, гудящих утробно, хлопающих голубей, которые в неудобной тесноте, упруго трепеща, подворачивались то под руку, то под локоть, живот или колено. Зато было тепло, и через оконце Надя весь день могла смотреть на реку, на дома Трехгорки, на многоярусные дворы, с помощью подпорных стенок поднимавшиеся на кручу. Для этого газетой натерла стекло до свинцовой прозрачности.
Дворы и парк у здания Верховного Совета – большого белого дома – были полны рассеянного, дремлющего солнца, желтых листьев и горьковатой дымки. Голуби гулили, дудели, наскакивали друг на дружку, хлопотали, спали, подсунув под крыло голову. В мглистом свете утра река раскрывалась излучиной за мостом, серебрилась и вспыхивала там и тут острыми углами, которые, проникая ввысь, насыщали блеском воздух. Липы вдоль набережной, под пирамидальной высоткой, трепетали, ссыпали пестрые шлейфы листьев на вдруг подернувшуюся рябью реку.
В начале октября что-то случилось, танки подъехали к Белому дому, забегали люди с автоматами, на набережной выстроились в ряд машины «скорой помощи», толпа высыпала к мосту.
Вадя тогда всю ночь и утро провел на Казанском вокзале – и теперь возвращался к Наде. Самое неходовое время он проторчал у камеры хранения, поджидая клиентов, вооруженный ручной тележкой. Он арендовал ее на подработок у носильщика Скорыча, знакомца. Таджикская мафия, по словам Скорыча, постепенно захватывала носильное ремесло на Трех вокзалах. Они не тыркались гуртом, грызясь, как кутята в молочную сучку, как наше дурачье, а наседали на пассажира складно, полукругом, хватали вещи, не давая опомниться. И одолев, выделяли из своих рядов одного, очерёдного. Вознаграждение он не присваивал, а нес, как все, в общий котел. Выручка распределялась и на зарплату, и в кассу взаимопомощи. Тем юнцам-носильщикам, которым родители денег не доверяли, выделялась только мелочь на цацки. Старший дядька сам выдавал зарплату сына отцу или матери, раз в неделю. Так рассказывал Скорыч, и Вадя теперь шел с вокзала, обуреваемый неясной возбужденностью, досадой и вместе с тем роковой уверенностью в неизбывности той бестолковой безнадеги, с какой русская нация упивается наплевательским отношением к жизни.
Скорыч, по обыкновению, еще много рассуждал сегодня ночью. Это был старый, сухой как щепка человек с веселым прищуром в глазах. Пальцы его рук все были в перстнях татуировок. Под прилавком его приемного оконца стояла спиральная плитка, на которой он скручивал себе чифирь и, дымя, поджаривал ломти черного хлеба, превращая их в угли. Откусывал, хрустел, кривясь беззубым впалым ртом, – и с хлюпом запивал чифирем.
Скорыч любил рассуждать с отрывистой декларативностью:
– Я вот Зойке-то и говорю. Я тебе что – еврей, все домой тащить?! А? Молчишь, курва?! Вот то-то и оно… Молчи тогда.
Или:
– Нет, паря, русский человек что? Да ничего. Муха! Русский человек на голодный желудок работать не может. Это раз. А на сытый – не хочет. Это два. А ты говоришь: страна… Ничего ты не кумекаешь. – Скорыч постучал сухарем по прилавку, оббивая обугленную корку. – Ты – тютя еще. Тю-тя.
…Танки стреляли, окна Дома дымились, повсюду виднелись оранжевые цистерны поливальных машин, выставленных в качестве заграждения.
То и дело тарахтели автоматные очереди, и вся густая россыпь людей, как пленка жира на бульоне, шарахалась к подворотням большого углового дома, к реке, на набережную.
Вадю охватил трепет, эйфория. Военные действия – при всей их отвлеченности – были зрелищем.
Вскоре паника рассасывалась, волна откатывала. Люди, затертые собственным множеством, возвращались к мосту. Они снова всматривались, вытягивали шеи, тянулись на цыпочках.
Волнообразные всполохи толпы доносили невидимый источник паники. Находясь внутри, Вадя вместе со всеми заражался страхом в чистом виде, – невидимость источника обескураживала, жестокая легкость носилась над площадью, рекой, городом.
Танки при развороте, газуя, окутывались сизым облаком, поворачивали башни. Черные столбы копоти подымались от пылающих окон Белого дома. Военные в оливковой форме, похожей на скафандр, на полусогнутых, перебежками приближались к боковым подъездам.
XV
Поезда метро дальше «Пушкинской» не шли. Выйдя по Бронной и Спиридоновке на Садовую, Вадя поравнялся с двумя пожилыми иностранцами. Они озирались. Недоуменные, испуганные улыбки жили на их лицах. При них была собака, пудель. Один – толстый, в плаще, с женскими часами на волосатой руке – нес на плече видеокамеру.
Спрятавшись за двумя составленными вплотную поливальными машинами, пятеро военных в касках и бронежилетах вслушивались все вместе в приказы, раздававшиеся по рации.
Черный пудель путался под ногами иностранцев. Семенил, царапая асфальт, будто на цыпочках, нервно цокая, оглядываясь.
Внезапно военные развернулись, высыпали из-за «поливалки» и, упав на колено, дали залповую очередь по верхним этажам арбатской высотки.
Задрав голову, Вадя видел, как с верхних этажей брызжут стекла, как на верхотуре мелькнули локти, голова, что-то сверкнуло, замельтешило, посыпались солнечные зайчики… Как долго падала, сорвавшись блеснувшим колеблющимся параллелограммом, спланировала черная пластиковая панель.
Стрельба разом прекратилась, и автоматчики, пригнувшись, нырнули один за другим под задний мост «поливалки». Упавший последним судорожно подползал на коленях, прижимая к груди автомат, свалился. Как безногий.
Грохот хлобыстнул откуда-то еще раз – и пудель сорвался на проезжую часть, посеменил зигзагами, останавливаясь, забегая, возвращаясь.
Пожилой иностранец в тонких очках, с кашне под горлом, что-то нерешительно бормоча, подался, потом вдруг кинулся за собакой – через всю Садовую, протягивая руку, посвистывая, припадая на полусогнутые, быстро оглядываясь вверх, по сторонам, возвращаясь, спугнутый накатившим от обочины БТРом, и снова решаясь продвинуться. Он уже было настиг собаку, и та, оглянувшись, дернулась, подалась и готова была кинуться в руки хозяину, как снова зачастили хлопки, быстро поредели, – и вдруг пудель подлетел в воздух, кувыркнулся, раскинул лапы, от него что-то отлетело, он прыгнул снова, на месте, на трех ногах – и закинулся навзничь. Иностранец разом рухнул, заерзал животом по асфальту, быстро пополз, замер, встал на четвереньки, засеменил, подкидывая ноги, и кренделями вернулся на тротуар. Его испачканное лицо было перекошено, на щеке горела широкая ссадина. Он тяжело дышал и не проронил ни слова.
Мимо, громыхая по тротуару, пробежали трое военных в шлемах. Двое тащили за собой треногу с дисковым противовесом и ротационным устройством, похожим на телескоп. Третий пригибался вразвалку под крупнокалиберным пулеметом. Припав под парапет подземного перехода, они стали устанавливать оборудование в наводку.
Толстяк продолжал снимать, подкручивал видоискатель. Второй, прижавшись к фасаду, нерешительно переминался. Им было страшно удаляться от военных, но и страшно, хотя и интереснее, было оставаться.
Внезапно сзади, топоча, возник боец. На бегу он скомандовал:
– Все в подземный переход. Сейчас атака начнется.
Иностранцы кинулись по ступеням вниз, Вадя за ними.
Наверху, за спиной, вдруг загрохотало, забахало, зарокотало, уши заложило. Переход наполнился звоном, гулом, посыпалась пыль.
Иностранцы так и остались в переходе, а Вадя вышел и, не глядя по сторонам, свернул к реке, к Трехгорке.
Высокий ясный воздух, медленный рассеянный свет, полный взвеси серебристого состава, внимательно тек над Москвой.
Из-под моста на набережную регулярно вылетали с воем «неотложки».
От Белого дома выбегали люди, шли, подняв вверх руки. Несли носилки. У спуска к реке военные обыскивали сдавшихся. Несколько раз ударив по шее, под ребра, под дых, под зад, они сталкивали их по ступеням на набережную.
Надя привыкла к голубям. Они садились на нее, спали на ней, как лодочки, поджав ноги. Очнулась она от того, что голуби заволновались.
Люк приоткрылся, показалась голова. Голуби вскипели, остыли. Один сел на крышку люка и плюхнул кляксу. Перепорхнул.
Женщина поднялась по плечи, установила беззвучно чемоданчик, выжалась на руках.
Короткое каре, джинсы, кожаная куртка. Под волосами видна белая пружинка наушника.
Свет, разъятый щелями, косыми балками, ломтями разнимал объем чердака.
Световая полоса пересекала грудь Нади, сложенные руки.
Боясь шевельнуться, одними глазами она оглядела себя, развела в стороны руки, подтянула вверх подбородок.
И широко раскрыла глаза в потолок, вверх. Будто мертвая.
Женщина собрала винтовку, проверила установку прицела, сняла с предохранителя – и уперлась в Надю взглядом.
Подумав, она приложила палец к губам и стволом приоткрыла створку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.