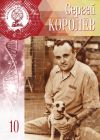Текст книги "Матисс"
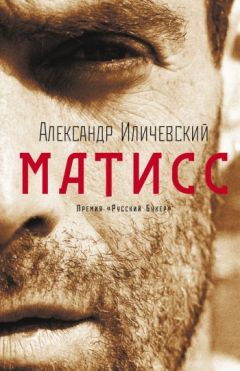
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
CXII
Надя стала навещать Королева, жить на веранде. Королев разговаривал с ней, учил планиметрии. Он решил, что не нужна постепенность. Что надо дать высокий уровень – непредставимый, – и тогда скачком произойдет преображение.
Надя сейчас еще сильней стала похожа на саженец, невидимо под землей борющийся развить корни – связи с почвой человеческой реальности. Неизвестно, приживется ли посаженное в марте деревце. Развитие саженца отсталое, почки на других деревьях уже набухли, а он стоит ни живой ни мертвый, и приходится вглядываться в него, все время брать на пробу роста эфемерные успехи.
В то время как Вадя только присматривался, скрытно уважая в ней собственную к ней жалость, которую смирял суровостью, черствостью, Королев пытался что-то сделать. Нельзя сказать, кто был добрее к ней, но Вадя благодаря чутью к жизни обладал той сложной гибкостью натуры, какая часто оказывается успешней прямой склонности к добру.
Наде сейчас как никогда требовалось внимательное, доброжелательное отношение. На нее нельзя было кричать, иначе испуг разрывал, путал едва наживленные связи с миром. Элементарное зло, а не умственная праздность, – наносило самые сильные разрушения. Если на нее кто-то кричал – бригадир, мент, бабушка в эскалаторной будке, приемщица стеклотары, – налетала большая когтистая птица, свет вокруг застилало месиво, метель жестких крыльев, клюв щипал за щеки, нос, уши, глаза, лица мелькали лоскутами, крик колючим комом вставал в груди, и слезы вымывали из сознания навык жизни. Ничего не оставалось, воцарялось равнодушие в мышцах рук, лица – подбородок опускался, губа выпячивалась, и взгляд приобретал свойство, какое нельзя встретить у животных, неспособных на то, чтобы совместить в своем естестве испуг, равнодушие, опустошенность, зияние тепла – тот неопределимый единственный признак, черта глаз, по которому только и можно отличить человеческое от живого.
Планиметрия вызвала у Нади одобрение. Она тщательно перерисовывала условие задачи – но только в этом и состояло решение.
Вадя тоже стал приходить на дачу к Королеву, сидел в саду, играл в ножички, курил.
Наконец всходил на крыльцо, говорил Королеву:
– Ну, ты это. Скажи, чтоб обратно шла.
– Скажу, – обещал два раза Королев.
Наконец Вадя решил поступить иначе. Он пошел на станцию. Нашел среди вороха ярлычков, облепивших расписание отправлений, два объявления о найме сторожа. Не все язычки были оборваны. Он набрал оба номера, отвечали мужские голоса.
Через день приехал хозяин дачи.
В тот день, когда Надя возвращалась с Королевым в монастырь, перед ее глазами вновь появился этот старичок. Давно его не было. Она шла и хотела что-то сказать Королеву, выразить возмущение, выкрикнуть, что не прав хозяин дачи, что Королев хороший. Но этот старичок проворно ловил ее слова, разбивал о коленку и, плюнув, отбрасывал в сторону. С тех пор все чаще перед ее глазами стал появляться этот черный прозрачный старичок, который встревал, когда она хотела обратиться к Ваде или Королеву. Этот аккуратный беспощадный старичок что-то все время делал, теребил руками, перебирал, поглядывая снизу, будто свивал нити ее мыслей, все слова ее стирал, выпрямлял в длинную корявую проволочку. Он лез в лицо, махал перед ней руками – и бил, бил гулко по голове свернутой тугой газетой.
CXIII
После возвращения Королеву стало страшно в монастыре пуще прежнего, а Вадя с Надей окончательно прижились. Виктор Иванович определил их к себе. Для Нади лечебница была очевидной пользой, Вадя же там был нужен для того, чтобы она поскорей привыкла.
Сам Королев все никак не мог притереться к обстановке. В монастыре размещался целый город – и он пугался этого скученного больнично-монастырского пространства, которое тем не менее было жилым, хоть и бесприютным. Странные обитатели его только усугубляли тягостные впечатления. Но деваться было некуда, следовало зимовать.
Однажды Королев вышел от отца Даниила и неподалеку от церкви повстречал удивительное существо. Вид его испугал и смутил его. Это был человек поистине пронзительной наружности.
Он пристально смотрел на свое отражение в стекле окна. При приближении Королева он медленно перевел взгляд. Совершенное любопытство в его распахнутых синих глазах было неземного происхождения. Он был стерильно, синевато бледен, короткий блестящий на солнце ежик покрывал его череп, похожий в профиль на запятую. Кожа обтягивала скелет так туго, что зубы обнажались малейшим натяжением кожи. Он протянул Королеву руку, и тот отпрянул. Отходя, Королев не мог оторвать от него взгляда. Существо смотрело открыто и неотрывно, с вдумчивым любопытством; очевидно, болезнь давала ему возможность каждую минуту смотреть на мир как на новую вещь.
Зима для Королева прошла незаметно, как для медведя, рухнувшего в спячку. Зима была потрясением, а все стрессы на него действовали так, что он тут же засыпал, прятался от них в долгий многосуточный сон. Во сне к тому же не слишком хотелось есть. «Сон – лучшая пища», – твердил про себя Королев. Он вообще старался не есть, чтобы не ходить в туалет. И пил по той же причине ровно столько, чтобы не отягощать мочевой пузырь.
Ему нравилось теряться меж суточных сумерек. Просыпаясь и видя за окном темноту, он уже не гадал – утро сейчас или ранний вечер. Он вставал, механически шел в котельную, проверял давление пара, бросал в топку ровно девять лопат. Садился на корточки, гудящий поток жара ополаскивал его лицо. Он подбирая из кучи угля куски побольше, высматривал на них отпечатки древних растений. Найдя – откладывал в сторону.
Если случалось проснуться днем, рослые узоры, холмы и полотна инея, разросшиеся между толстых рам, словно сошедшие с негатива угольных плоскостей, занимали его сознание ровным чистым светом. Этого ему было достаточно. Он уносил свечение в дрему и там потихоньку тратил.
Теперь он не грезил, только помнил.
За зиму он потерял из виду Надю и Вадю.
Сначала встречал их, когда шел к отцу Даниилу. Там они сидели вместе, помалкивая или потихоньку говоря. Чаще говорил отец Даниил. Он был гостеприимным человеком, трудолюбивым, любил поговорить о божественном. Из Москвы, куда ездил за средствами на строительство, он привозил книги. Некоторые, уже прочитанные, давал Королеву. Тот брал, но не читал.
Отец Даниил был человеком одержимым. Но при этом, окончив «Бауманку», в своих суждениях конструктивно основателен.
Вот эта замечательная сочетаемость страсти и меры как раз и привлекала Королева.
Отец Даниил к тому же был мужественным человеком, называл себя солдатом. Одному, без постоянных помощников, ему было нелегко. Он рассказывал, что иначе нельзя. Что он уже построил одну церковь при больнице в Мытищах. И вот его благословили восстановить здешнюю обитель. А благословение – как приказ. Не выполнил – не нашел пожертвований, не смог организовать строительство, не стяжал паству – все, вышел из карьеры.
Королев не был согласен с отцом Даниилом во многом, например в подходе к чуду, но в спор не вступал, не было сил. Он рассасывал во рту печенье, запивал чаем. Ему очень нравилось, что чай сладкий. Он сыпал себе в чашку пять-шесть ложек. И не спорил. Сам мир для него был огромным чудом. Математика, физика и человеческое чувство для него были гораздо важнее мироточения икон, о которых любил рассказывать о. Даниил. Поэтому, когда отец Даниил заканчивал рассказ, Королев потихоньку думал и, погодя, просто что-то рассказывал из детства.
Только однажды Королев позволил себе распространиться в философию. Он высказал отцу Даниилу свою идею о подлинном, по его мнению, пути христианина. О том, что, прежде чем креститься, следует стать иудеем. Начал он говорить тяжело, превозмогая слабость, но вдруг вспыхнул и закончил речь раскрасневшись.
Иногда отец Даниил вставал, выходил в соседнюю комнатушку помолиться. Вот и тогда он надолго вышел, извинившись.
В комнате было душно, стояла в воздухе какая-то неприятная смесь пищевых запахов и чего-то церковного. После чаепития, прощаясь, Королев всегда заглядывал в просвирню – маленькую комнатушку с печкой. Ему нравилась идеальная стерильность, которую поддерживал здесь отец Даниил. Стол, где раскатывалось тесто, был прикрыт тряпицей. Печь вычищена. Ни пылинки.
CXIV
Надя и Вадя изредка появлялись в округе. Надя реже, Вадя чаще.
Королев заходил к ним. Они жили в лечебнице, доктор пустил их в палату, выделил койки, определил на кормежку.
Вадя зимой начал рисовать портрет Высоцкого, с фотографии. Достал где-то кусок оргалита, наклеил бумагу, раздобыл карандаш. Рисовал тщательно, с любовью. Вышло похоже, но слишком строгое лицо было у Семеныча. Наде не понравилось. Да и ему самому было неловко смотреть на кумира, уничтожающе вглядывающегося с подоконника.
А еще Вадя по просьбе доктора нарисовал на стене столовой картину – раскидистую, в полстены, сколько краски хватило: лужок изумрудный, излучина реки, пастушок с дудкой и сумой переметной лежит под деревцем, коровки вокруг разбредаются.
– Красота, – объяснил Королеву довольный доктор. – Зеленый цвет успокаивает.
Однажды ночью, возвращаясь от друзей, Королев остановился перед смотровой вышкой. Он долго стоял, вглядываясь в простую геометрию теней, в пушистый фонарь, резавший глаз сквозь путанку колючей проволоки… Королев вдруг рванулся, сходил к себе в котельную, вернулся с канистрой и долго тряс ее вдоль забора, поднимался на вышку – тряс там, спускался. Падал в снег – и стоя на коленях чиркал спичками, извел полкоробка, но вдруг потек, пополз ручеек огня по забору, выше, занялся, заколыхался полотном, восстал столбом по вышке.
Декорация горела меньше часа. Больных Виктор Иванович успокаивал трое суток. После пришел и сдержанно объяснил Королеву, что ему и самому не нравились эти вышки, стена, но он был вынужден оставить эту постройку как отопительный НЗ. И что теперь он потратился на медикаменты для решения массового криза…
А еще Королев взялся писать сочинения. Понемногу. Нападал на мысль и потихоньку рассматривал ее со всех сторон. Ничего особенного у него не получалось – это было совсем иное занятие, чем его карточки, но все же развлекало в часы вынужденного бодрствования. Он рассматривал иллюстрации, развешанные на стене его избы, и некоторые избирал для нехитрых сочинений.
«Абсолютно литературный художник Репин, – например писал он. – Сколько живости и полноты в его вещах. Что ни персонаж, то фигура жизни. Глядя, хочется рассказывать и пересказывать, догадываться и размышлять. Это очень трудно – делать то, что делает Репин: собирать, изобретать, сталкивать характеры. Рассказы Репина – долгие, полные. На картине “Запорожцы пишут письмо турецкому султану” среди прорвы деталей мы наконец замечаем косматого огромного пса, размером больше человека, лежащего в левом нижнем углу картины. Его лапы раза в два толще человеческих рук. Но это пустяки. На пороховнице ближайшего к зрителю голого наполовину казака, которая приторочена сзади к его поясу, мы отчетливо видим золотую шестиконечную звезду, Щит Давида. Представить, что пороховница была взята трофеем, невозможно: евреи не делали для своих нужд оружейную утварь.
Таким образом, эта звезда завершает трудную мысль о вольнице хазарской, откуда произошли казаки, о том, почему в среде терских казаков в XIX веке был распространен иудаизм. Хмельницкий и Тарас Бульба здесь необходимы для полноты. Ради принципа дополнительности. Все это бесполезно рассказывать отцу Даниилу».
CXV
Очнувшись в конце марта, Королев обрадовался начавшемуся преображению природы. Только в детстве он испытывал что-то подобное. Пробуждение его началось с того, что в начале половодья он гулял вдоль реки и забрел на залитую водой поляну. Был яркий солнечный день, крупными зернами искрился снег стаявших сугробов. Оглушительно орали птицы. На поляне редко росли березы, две выдавались к середине. Из-за того, что обе березы были искривлены в поднимающемся их рослостью воздухе, – переломлены словно бы в нем, в то время как другие деревья были переломлены естественным образом – границей воды и атмосферы, благодаря этому как раз и образовалось «смущение зрения», то есть кажимость того, что вода, прозрачность – подымается не только в воздух плоскости картины, но и в чувственный объем над полотном сетчатки, в объем сознания, словно бы исподволь наполненный зрением.
Когда он вернулся, картина эта целый день наполняла водой и бледным воздухом весь объем комнаты.
Озаренный, в тот день он сидел на лежанке и свободно думал о проблеме осиянности: незримой очеловеченности пейзажа. О том, что по эту сторону все же есть Бог.
Тогда же в марте, когда очнулся, осмотрелся, вдруг обнаружил, что Вади нигде нету, а Надя живет все там же, в женском отделении, и теперь мало чем отличается от остальных больных. Она не узнала его. Ничего не ответила. Она стояла у окна, держала палец на стекле, молчала.
Доктор сказал, что Вадя пропал три недели назад. Все время был здесь, а потом – вдруг исчез. Постель заправлена аккуратно, вещей не оставил.
Тогда Королев купил буханку хлеба и стал есть.
Он ходил по деревне, щипал мякиш, бросал синичкам крошки и слеп от синих сугробов, сияющего наста.
Вдруг стал дышать, дышать, втягивать воздух носом и задохнулся от слез. Он не слышал запаха марта, не слышал запах талого ветра.
Королев съел весь хлеб и ушел в Москву.
Через неделю он нашел Вадю на Казанском вокзале. Тот процветал, услуживая по мелочи носильщикам-таджикам, как-то нашел с ними общий язык.
Королев долго смотрел на него исподтишка. Вадя отупело стоял у камеры хранения и что-то шептал толстыми губами. Королев все никак не мог прочесть – и вдруг догадался: он бормотал стихотворение, перемежая строчки паузами интонационного перехвата.
Вадя испугался, когда увидел Королева, хотел бежать.
Король вцепился в его локоть:
– Надя тебя зовет. Ехать надо.
Апрель
CXVI
Вернувшись из Москвы, Вадя не знал, чем себя занять. Заскучав, он нашел в сарае соху и борону. Вытащил на свет, два дня разбирал, перекладывал части – и потом на корточках долго сидел над ними, покуривая в кулак, посматривая то на небо, то на землю.
Борону оправил, прикрутил проволокой для тягла два ржавых запора; настрогал и вбил сучки, нашел стропу, приладил. Стал возиться с сохой. Обчистил колодку, выскоблил оглобли, оттер керосином сошники, палицу, зачистил все напильником, обстучал, ошкурил, натянул подтужины, впряг Надю, научил ее тянуть, попробовал ходить за ней, опасаясь, как бы не сломать оглобли.
Королев один раз увидал, как Надя шла под сохой, временами западая на спину от натуги, когда лемех выталкивал Вадю с борозды. Долго он смотрел, как они тяжело ходят, расцарапывают неглубокую пашню.
Надя старалась безропотно, вся поглощена усилием. Охватив большими своими руками оглобли, управив их усилием в землю, Вадя выглядел на пашне сноровисто, ладно. Ему тяжело было приноровиться к тяге ее хода, он спотыкался от неловкого упора, не в силах предупредить провисание подвоев. Как мог, он помогал ей, наваливаясь сам вперед, но выходило это у него неловко и бесполезно.
Пока Королев впрягается вместе с Надей, Вадя отдыхивается полной грудью.
Теперь соха идет чуть легче. Отваливается с сошников легкий пласт, в нем кудрявятся, свиваясь, обрезки розовых червей. Грачи спохватываются из рощи, слетают на борозду.
Ваде тяжело наседать и править ручки плуга. Он морщится, силясь не подать виду; у него перехватывает от натуги дыхание. Фрачные синие грачи выстраиваются за ним, высоко поднимая лапки.
CXVII
Поле было вспахано и готово к посадке.
Королев придумал, как организовать больных. Он нашел в подвалах мешки с семенной картошкой – вялой и мелкой. Объявил общий сбор. Стал вытаскивать. Рвал на себя мешок, подкладывался и, зажав ему горло, шатаясь по проулку, выносил на поле.
Ставил мешки большим крестом, задумав так захватить равномерностью пространство.
Ноги вязли в раскрытой земле. В три погибели исподлобья небо дыбилось парусным облаком. Роща дугой охватывала поле, дышащее при шаге как грудь.
Установив все мешки, растягивая лицо в улыбке, Королев стал показывать собравшимся больным, как бросаться картофелем. Он сам первым бросил в Надю, легонько. И засмеялся, широко разведя руками – показывая, как это хорошо.
Больные не реагировали и смотрели в разные стороны – кто в землю, кто в небо, кто в затылок соседу.
Королев достал флакон с денатуратом (этому фокусу он научился еще в третьем классе и сегодня решил применить), опрокинул в рот – и выпрыснул на зажженную спичку. Поднявшееся облачко огня привлекло взгляды больных.
Теперь Королев бросил картофелину в Вадю. Легко, навесным. Никто не двинулся. Тогда Королев бросил еще. И еще. Стал бросать во всех, горстями. Никто ему не отвечал.
Королев остановился, не зная, как быть дальше.
И тут Вадя нагнулся, подобрал картофелину, осмотрел ее со всех сторон, сковырнул «глазок», взвесил и швырнул ее, с оттяга. Удар пришелся по лицу, Король шатнулся, закрыл рукой скулу, рот.
Вадя повернулся и стал уходить в поле. Горизонт, перелесок закачались перед ним.
Больные стояли у мешков. Кто-то замычал, загоготал. Проблеск интереса мелькнул в лицах. Сначала взлетела одна картошка, другая; скоро картошки посыпались градом. Больные широко отшагивали от мешков, швыряли недалеко, неточно. Смеялись дружно, если кому-то удавалось в кого-то попасть.
Несколько человек выбрали мишенью Надю. Стали бросать проворней. Число метателей росло. Броски были несильными. Надя вступила в игру. Она поддавалась, намеренно вышагивала навстречу, неторопливо увертывалась. Больные смеялись от удовольствия.
Казалось, что Надя вытанцовывает.
Король догнал Вадю, со всего ходу толкнул в спину. Тот упал, быстро обернулся навзничь, то подбирая ноги, то выставляя одну, загораживаясь от ударов.
– Ты что, сволочь, делаешь? – Королев ударил мыском по кому земли, куски брызнули в стороны, попали Ваде по ногам.
В глазах Королева плыли слезы, щека пунцовела, вкус крови наливался во рту.
Вадя затравленно смотрел то на него, то в поле.
Королев не знал, куда деть злость, обиду, ему было боязно. Он боялся безобразности своей злости и не мог бить Вадю, понимая, что получил по заслугам… но вот эта затаенность гнева и его праведность – они волновали до трепета, он знал, что Вадя никогда не откроется перед ним словесно.
Поняв, что Королев бить его не станет, Вадя сел. Ровное лицо его стало озабоченным:
– Чего картошки разбазариваешь? Кто ж так садит? – сердито сказал Вадя.
Королев обрадовался:
– Да ты не понимаешь! Им польза – и земле польза. Им игра – нам труд. Мы потом возьмем тяпки и размежим на гряды! – Королев кричал на Вадю сквозь слезы, пиная комья земли, хлюпая носом.
Вадя не стал отвечать, двинулся обратно к коллективу. Больные, повалив, вытряхнув несколько мешков, бросили баловаться картошками и потихоньку разбредались. Надя тоже шла куда-то.
Королев постоял; потом побрел наугад по полю, но как ребенок бросился на землю, сел, заплакал.
Холод, постепенно сковавший его, притянувший к себе пах, влившийся в него, давший почувствовать нутро земли, медлительность неживого, – наконец заставил подняться. Оглянувшись, он примерился, куда направился Вадя, и пошел поискать его.
CXVIII
За рощей дорога сваливалась в овраг, проходя под высоковольтными мачтами. У обочины стоял столб, окозыренный табличкой: «Под ЛЭП не останавливаться. 600 киловольт. Под дождем не пересекать».
Перед лощиной ЛЭП круто поворачивала, на изломе удерживаемая столпотворением ферм. Решетчатые мачты стояли, как великаны в юбках, раскрыв друг другу объятия, с длинными гирляндами изоляторов из бутылочного стекла.
Каждую весну в овраг спускались рабочие и вырубали бурьян и кустарники, тянувшиеся к тяжко провисшим магистралям.
Воздух гудел и дрожал, наполняя волосы шевелящейся тягой. Одежда при трении пощелкивала.
В мокрую погоду все искрилось и свиристело от напряжения, насыщавшего воздух.
Вадя сидел на корточках в самой низкой точке оврага и пятерней расправлял поднявшиеся волосы.
Королев присел наверху.
Воздух под ЛЭП шелестел, будто в нем кишели стрекозы.
– Чего сидишь, делать нечего? – крикнул Королев.
Вадя помотал головой, стряхивая что-то.
– Чего делаешь? Скажешь, нет? – рассердился Королев.
– Голову чиню-чищу. Под электричеством из нее всякая мысль и тварь бежит, – отвечал Вадя, продолжая пятерней чесать подымавшуюся вверх шевелюру.
Королев прыжками соскочил вниз – и сел, как Вадя. Волосы его тут же наполнились стрекозами. Он стал погружать в космы пальцы, ощущая плотный поток невесомости, устремлявшей их вверх.
Вадя кивнул на мачты:
– Видал, сколько стекла стратили.
– Ага. Могучая энергия здесь течет в проводах, – ответил Королев, специально не используя слово «киловатты».
– Работа́л я раз на стекольном заводе, – вдруг стал рассказывать Вадя. – В цеху чаны стояли, со стеклом плавленым. Жар кругом. Мочи нет. А поверху мостки шли. По ним электрик шастал. Печи-то электрические. Вот он и навернулся оттуда. Пыхнул только, даже пепла не осталось.
Королев замер. Образ безымянного электрика зримо растворялся в гирляндах стеклянных изоляторов, тянувшихся на несколько тысяч километров над великой пустой страной.
Поняв, что разговора не получится, Королев встал, но уйти не спешил.
С поля наплывала туча, смежая потемнением глаз воздуха. Ближний край оврага пропал уже перед противоположным склоном, залитым прозрачным молоком, исчезли две мачты, край облака набежал на собственную тень, первые капли щелкнули по веткам, по руке, щеке – как вдруг вверху щелкотание сгустилось в дребезг, пошел гул, гудение – и Королев, взглянув вдоль могуче провисшей оснастки, увидел, как огненный шар, диаметром в рост человека, с пышущим недлинным хвостом цвета закатного солнца, не спеша скользит от него ровнехонько по-над проводами. Блескучая банка с красными рыбками, как если смотреть прямо в распахнутые рыжие Катины глаза, – плыла в этом шаре…
Сначала он остолбенел, не зная, куда деться. Он твердо помнил, что при шаровой молнии следует замереть.
Дух борьбы поднял его над землей.
– Дурень, пригнись, – посоветовал вдогонку Вадя.
Но Королев только азартней припустил по оврагу, он кричал что-то от восторга, пуще расталкивая тугой, щекочущий воздух, поскальзываясь на сыром валежнике, подпрыгивая, выбрасывая вверх к проводам руку, как баскетболист к корзине.
Прежде чем ослепнуть, Вадя успел увидеть, как рука, обвитая дрожащими жгутами разряда, соскользнула с проводов, взяла за голову, потрясла и подбросила Королева высоко в воздух.
После, лежа без сознания, Вадя видел много красных шаров, катившихся по полю, подлетая, опускаясь, оборачиваясь, вглядываясь в него, – и видел нагую женщину без головы, шагавшую выше леса. И страх ему был жестокий, и ужас.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.