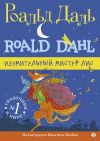Текст книги "Это было в Одессе"

Автор книги: Александр Козачинский
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Глава 18
Вся накипь, переполнявшая город, поняла: конец близок. Офицеры, кокотки, спекулянты, шулера, банкиры, великие князья, уголовные преступники, греческие, французские, английские агенты, вся ужасающая смесь, танцевавшая, вихляясь, фокстрот на вулкане, – подошла к неизбежному концу!
В эти дни улицы были полны бегущими. В порту грузились английские, греческие, французские пароходы, переполняясь бегущими от суда, от возмездия за совершенное.
По вечерам улицы были темны. В глубокой тьме звучали отрывисто и сухо выстрелы: это деникинская контрразведка разделывалась на прощание в рабочих кварталах. Над городом нависло бешенство отчаяния, разгул безумия: кабаре, рестораны, маскарады ломились в эти ночи от не успевших еще уехать: сегодня они пили и вихлялись в танцах и просиживали ночь за зелеными столами железки, чтобы завтра бежать на иностранном пароходе.
Звуки шимми и фокстрота пьянили слабеющие от ужаса головы.
Выстрелы на темных улицах заставляли их скапливаться в кабаре и шантанах, чтобы еще немного покружиться в танце, еще раз опьянить себя шампанским, еще раз поставить на карту доллары и фунты стерлингов…
В эти ночи молнии радио сообщали Роттердаму и Лондону, Нью-Йорку и Чикаго, Парижу и Вашингтону, что сделка лопнула, спекуляция на Черноморском побережье не удалась, британский и французский генеральные штабы отдавали по радио приказание эвакуироваться в Константинополь, грузовым и пассажирским пароходам вывезти все, что можно было вывезти из товарного и людского запаса, молнии радио сообщали, что миллионы людей с твердыми мозолистыми руками одержали неслыханную в истории победу над британским и французским генеральными штабами, над самим великим Сити, выигравшим мировую войну и проигравшим рынки России, пресса всего мира, желтая пресса, сообщала в вечерних выпусках, что варвары победили, что просторы России, объятые Гражданской войной, оставляются европейцами, что пламя мировой революции грозит парижским банкирам и корректным джентльменам из Сити…
И в кафе, барах, театрах, биржах Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Берлина тысячи, миллионы людей хватали еще сырые оттиски газет, чтобы убедиться лично, чтобы побледнеть, читая эти радио, предвещавшие многим разорение, многим предвещавшие то, что должно наступить неизбежно, не завтра, так послезавтра: ибо революция победила в далекой России, и рента, процентные бумаги, акции, вложенные в сотни предприятий, эта рента, росшая на миллионах согнутых спин рабочих, – рента лопалась…
В кабинетах набережной дʼОрсе в Париже и Даунинг-стрит в Лондоне бледнели те, кто работали над мировой бойней и над Версалем: ибо за победой миллионов пролетариата в России могли следовать другие победы в Европе.
Во дворце династии «Джонс и сын» в Сити были получены радио в двенадцать часов дня.
Мистер Джонс-младший вынул трубку из левого угла рта и внимательно перечел радио. Затем он побледнел и прошел в кабинет мистера Джонса-старшего.
Трубка мистера Джонса-старшего торчала, как всегда, в правом углу рта.
Мистер Джонс-старший прочел радио и также ничего не сказал. Он взглянул на помертвевшее лицо мистера Джонса-младшего, заметил, что трубка мистера Джонса торчит, вопреки всем традициям, не в левом, а в правом углу рта, и также переложил свою трубку в левый угол рта, крепко прикусив ее желтыми зубами.
Оба Джонса посмотрели в глаза друг другу. И ни один из них не сказал ни слова.
Мистер Джонс круто повернулся и вышел из кабинета.
И тогда Джонс-старший опустился в кресло и из короля Сити сразу превратился в мешок старых костей и никуда не годного, отравленного никотином и виски мяса…
А через двенадцать часов в зале с куполом и колоннадой из красного мрамора, в храме торговли Сити, в главном зале биржи, где гудели сотни охрипших голосов и мелькали на световых экранах цифры, на трибуну поднялся клерк и, ударив молотком по железной доске и переждав, пока утихнет гул голосов, сообщил:
– Джентльмены, фирма «Джонс и сын» просит сообщить, что выполнить свои обязательства не может…
Он снова ударил молотком и сошел с трибуны.
И в гуле голосов, хриплых голосов дельцов биржи, зазвучало уже мертвое имя Джонса…
Через десять минут имя «Джонс и сын» было вычеркнуто из списка живых, а через двадцать – биржа гудела так же, как и до этого, но тысячи акций полетели вниз, и на бирже стала нарастать паника. Ибо световые экраны отразили последнее радио, последнее радио, послужившее могилой не одной только фирме «Джонс и сын»…
Оборванец, старый и испитой, шатавшийся по Поплеру, из уст какого-то матроса также узнал содержание этих последних радио и содержание заявления клерка на собрании биржи.
Этот оборванец поднял руки вверх и хриплым голосом сказал окаменевшему от изумления матросу:
– Будь благословен тот день, когда я продал китайцу паспорта. Я могу умереть спокойно! Дженни, ты отомщена, понимаешь, матрос, понимаешь, парень, она отомщена…
– Старый сумасшедший, – пробормотал изумленный матрос, отходя от оборванца.
Оборванец, согнувшийся, почти дряхлый старик, побрел дальше, бормоча все те же непонятные слова:
– Да будет благословен тот день! Это говорю я, старый Грэхам… Да будет, говорю я, благословен тот день, когда этот китаец взамен паспортов обещал мне гибель проклятого Джонса…
Он шел, бормоча эти слова и обращая на себя внимание толстых «бобби» Его Королевского Величества.
Секретные отделы французского и британского генеральных штабов, Скотленд-Ярд и сыскные отделения Америки, сыскные бюро Франции работали лихорадочно, устанавливая настроения в рабочих кварталах, производя аресты; желтая пресса, рупор капиталистических династий, непрерывно работала над сотнями клеветнических статей и поддельных телеграмм.
Полковник Маршан, получив радио из Парижа и Константинополя, приготовился к отъезду. Сообщая полковнику Гавварду об этом, он спросил:
– Когда вы выедете, сэр?
Полковник Гаввард ответил сухо:
– Не позднее чем завтра…
– По распоряжению командования я оставляю два миноносца французского флота для наблюдения за эвакуацией.
– Хорошо… Я уеду на миноносце «Гамильтон».
– Ваше намерение, я надеюсь, не изменилось, сэр Гаввард?
С лисьей улыбкой полковник Маршан выслушал ответ:
– Британцы не меняют решений.
– Вы правы. И, кроме того, это необходимо. Опасно было бы оста…
Он не закончил, так как полковник Гаввард повторил упрямо:
– Британцы не меняют решений…
Полковник Маршан уехал. Эвакуация шла лихорадочным темпом; вечером полковник Гаввард, оставив дела Стильби, пошел переодеваться.
Он одевался медленно перед огромным зеркалом в оправе из красного дерева. Полковник Гаввард увидел в зеркале сверкающее белизной белье, седые виски и сухое, немного обрюзгшее лицо с мешками под глазами, гладко выбритое.
Безукоризненный фрак лондонского изготовления сказал полковнику, что он еще строен; что выправка полковника Гавварда еще достаточно хороша…
Полковник Гаввард отдал последние распоряжения ординарцу об упаковке вещей, которые полковник распорядился перевезти на миноносец.
– Я буду ночевать на борту «Гамильтона».
– Есть, сэр.
– По всем делам к майору Стильби.
– Есть, сэр.
Полковник Гаввард из нижнего ящика стола вынул небольшой бумажный пакетик, который был найден возле трупа индуса Абиндра-Ната.
Он бережно спрятал его в боковой карман фрака, еще раз взглянул в зеркало, натянул пальто, поднял воротник и вышел.
Автомобиль привез Гавварда в кабаре «Арлекин». Сходя, полковник распорядился:
– Ждать у подъезда.
– Есть, сэр…
Шофер-шотландец дал задний ход и откатил машину на несколько шагов назад.
Полковник Гаввард вошел в зал «Арлекина», где был устроен маскарад и неистово визжали скрипки, полузаглушенные гулом пьяных голосов…
Женщины в домино и полумасках, мужчины во фраках и смокингах, в мундирах и френчах и над ними нарастающее безумие ужаса, жажда забыть о завтрашнем дне, о неизбежной расплате, опьянение отчаяния и как бы опьяневшие от людей скрипки и виолончели оркестра…
Пары двигались в бесстыдном, разнузданном танце, раскачиваясь, медленно испытывая друг друга, бледные от вина лица, блестящие глаза и срывающиеся голоса, неясный гул сотен голосов…
Сам воздух был насыщен опьянением отчаяния и похотью последних наслаждений перед концом…
Банкир Петропуло, толстый и пьяный, раскачиваясь, стал перед Гаввардом:
– Конец мира, сэр, – сказал он, задыхаясь от ожирения сердца и от того, что он, банкир Петропуло, должен бежать, бросив банкирскую контору. – Конец мира, сэр… Выпьем поммери, сэр?
Гаввард отстранил его молча и пошел через зал. Через минуту он столкнулся с Анной Ор. Окруженные синевой глубокие черные глаза встретились с глазами полковника Гавварда…
Он поцеловал ей руку, склоняясь очень низко. Анна Ор была в бальном туалете, от нее сладко пахнуло духами Пивера. На ее лице только судорожно подергивавшиеся углы губ говорили о нервном напряжении.
Полковник Гаввард был до торжественности любезен:
– В боковой кабинет, миледи? Здесь угар от шампанского…
Он бросил лакею:
– Поммери сек, фрукты, в боковой кабинет…
Сквозь толстые занавеси глуше звучали скрипки и пьяные голоса.
Полковник Гаввард налил два бокала. Ваза с фруктами стояла посреди стола.
Гаввард сказал медленно:
– Разве вы не уезжаете отсюда, миледи?
Анна Ор смотрела на него молча.
Он повторил:
– Или вы прониклись симпатиями к большевикам? О, годдем…
Полковник Гаввард в упор смотрел на Анну Ор. И в его глазах она прочла то, что знала заранее…
Анна Ор повернулась к зеркалу и стала оправлять свои черные блестящие волосы. В зеркале она увидела, как рука полковника Гавварда опустилась в боковой карман фрака, как та же рука медленно высыпала содержимое пакетика в ее бокал…
Гаввард поднял глаза и увидел глаза Анны Ор в зеркале. Он, не торопясь, бросил пакетик под стол.
И когда она повернулась и села в кресло, Гаввард сказал медленно и раздельно:
– Без тостов, миледи, они прозвучат как надгробные речи этой ночью.
Анна Ор подняла бокал с искристым вином…
Холодно и спокойно полковник Гаввард сказал:
– Мы пьем до дна…
Анна Ор что-то хотела сказать, ее глаза блестели. Она подняла бокал и залпом выпила его. Затем бросила бокал на стол. Полковник Гаввард медленно поставил свой бокал.
Анна Ор откинула голову на спинку кресла, по ее телу пробежала судорога, в углах губ проступила розовая пена…
Полковник Гаввард посмотрел еще раз на то, что называлось Анной Ор. Автоматически он отметил судорогу, застывшую на лице, и маленькие мелкие морщинки возле глаз.
В зале раздались выстрелы: пьяному офицеру показалось, что вокруг него рабочие, и он стал стрелять из браунинга. Такие же выстрелы раздались на улице…
Полковник британской армии Чарльз Гаввард круто повернулся, прошел через пьяный, охваченный неистовством страха зал, где продолжали раздаваться выстрелы, и сел в автомобиль.
– В порт, – сказал он коротко.
Шофер, обернувшись, сказал:
– Последние ночи, сэр…
Гаввард ничего не ответил: его губы были сжаты и воротник пальто поднят.
В зале продолжали стрелять. Кучка пьяных офицеров стреляла из браунингов, на улице выстрелил кто-то из винтовки. Застревая в дверях, толклись обезумевшие от страха посетители, давя женщин, опрокидывая столы и крича пьяными голосами.
Люстра в боковом кабинете ярко освещала стол с белоснежной скатертью, вазу с фруктами, опрокинутый бокал и откинутое на спинку кресла, искаженное застывшей судорогой, похожее на гипсовую маску лицо Анны Ор…
1925 г.
Зеленый фургон
Зима 1931 года была в Гаграх необычайно суровой.
Весь декабрь шел дождь; в январе повалил снег. Это был очень странный снег, хотя так, по-видимому, и должен был выглядеть субтропический снегопад. Огромные, величиной с черешню, снежинки, нарядные, как елочные украшения, медленно опускались в неподвижном воздухе, и это медленное, монотонное падение не прекращалось ни на минуту в течение шести недель. Листья пальм не выдерживали тяжести непривычного снежного груза и ломались. Розы, которым полагалось цвести в это время, распускали свои лепестки над снежной пеленой, как лишайники Севера. Так, наверное, выглядели тропические леса Европы в начале ледникового периода.
Всю зиму по Черному морю гулял шторм. На узкую полоску гагринской земли обрушивались огромные, молчаливые волны. Они двигались медленно, длинными правильными шеренгами, на очень большом расстоянии друг от друга, неся на своих гребнях толстых морских птиц. Споткнувшись о берег, валы опрокидывались, а птицы, исчезнув на миг, появлялись на гребне следующей волны. Ровный гул моря не умолкал много недель и уже не воспринимался как шум; прибой казался беззвучным, как снегопад.
Однако Гагры лишились не только тепла, солнечного блеска и благоухания цветущих садов, но также и электрического освещения. Гагринская гидростанция, равная по мощности мотоциклету, приводилась в действие водопадом, свергавшимся с отвесного склона Жоэкварского ущелья. Это был небольшой водопад; он мог бы весь, до последней капли, уместиться в обыкновенной водосточной трубе. Но декабрьские ливни превратили тощую струю в мощный поток, и гидростанция захлебнулась в нем; январские морозы сковали поток, и гидростанция осталась совсем без воды.
На фоне этих странных и грозных явлений особенно зловеще выглядела гибель духана «Саламандра». В старой гагринской крепости друг против друга расположились два конкурирующих артельных духана: «Феникс» и «Саламандра». Темной январской ночью, когда шторм бушевал с особенной силой, «Саламандра», к великой радости «Феникса», сгорела. Духан сгорел со всеми скорпионами, жившими в трещинах крепостной стены. Они были гордостью духана; каждый посетитель, осветив щели спичкой, мог любоваться скорпионами, которые настолько привыкли к аромату шашлыков, запаху красного вина и веселью гостей, что превратились в совершенно безобидных насекомых вроде сверчков или шелковичных червей. Мрак и пламя скрыли от глаз картину гибели скорпионов, но говорят, что все они, согласно обычаю, покончили самоубийством, ужалив себя в голову и проклиная обманчивое название духана, которому доверились. В Гаграх и сейчас охотно рассказывают об этом событии.
Но гибель «Саламандры» не была последним звеном в цепи несчастий. Большая гора обрушилась на автомобильную дорогу к северу от Гагр, а дорога на юг, размытая дождями, сползла в море. И ни один пароход из-за шторма не останавливался на открытом гагринском рейде. Городок, засыпанный снегом, скованный стужей и погруженный в темноту, оказался отрезанным от всего мира. Множество людей, собиравшихся провести в Гаграх месяц отдыха, остались здесь на невольную зимовку. Они бродили по засыпанному снегом гагринскому парку в тюбетейках и макинтошах, подобно доисторическим людям, которые зябли в своих демисезонных шкурах среди надвинувшихся отовсюду ледников.
Если бы не морозы, штормы и обвалы, литературный клуб в бывшем замке принца Ольденбургского, вероятно, никогда бы не возник. Всем, бывавшим в Гаграх, знаком вид этого здания, эффектно прилепившегося к почти отвесному склону горы, построенного из камня, но в том прихотливом и затейливом стиле, который характерен для архитектуры деревянной. Бывшее жилье принца не поражало внутри ни роскошью, ни комфортом; в наши дни никому не пришло бы в голову назвать подобное здание «дворцом». Впрочем, во всех комнатах принц поставил нарядные камины, украшенные разноцветными изразцами. У одного из этих каминов и собирались члены литературного клуба, обязанного своим зарождением разбушевавшимся стихиям и прежде всего стихии скуки.
От скуки страдали все жители санатория, кроме, разумеется, шахматистов. Садясь за доски с утра, они наносили друг другу последние удары уже в полной темноте. Придя после многочасовых усилий к ладейному эндшпилю, не замечая темноты, а может быть, и пользуясь ею, они ощупью старались загнать друг друга в матовую сеть. Не унывали и фотолюбители, с редким упорством снимавшие в течение всего срока пленения один и тот же цветущий розовый куст, полузасыпанный снегом. Тем же, кто был свободен от этих увлечений, было плохо. Все надоело, хотелось домой. Казенные пижамы скрипучего желто-зеленого цвета, «мертвый» час, вдохи и выдохи на утренней зарядке, добрые няни, снующие по коридорам с грелками и клизмами, кровати с сетками, чувствительными, как сейсмограф, и шумными, как камнедробилки, надпись на дверях поликлиники, извещающая о том, что «рентгеновские лучи работают по четным и нечетным числам», – все то, что вначале радовало, казалось приятным, удобным, забавным, сейчас оставляло сердца холодными, раздражало, выводило из себя. Дошло до того, что никто уже не хотел взвешиваться на зыбких медицинских весах в докторском кабинете.
Кое-кто из больных уже поговаривал о том, чтобы «тюкнуть» по маленькой. А нескольких диетиков главврач застиг внизу, в крепости, в духане «Феникс», где диетики пожирали чебуреки, запивая их «Букетом Абхазии».
Вот в какой обстановке зародился литературный клуб у зеленого камина в палате номер семь. Сначала здесь занимались только игрой в отгадывание знаменитостей и разложением слов. Потом стали рассказывать разные истории, преимущественно страшные. Однажды кто-то предложил не рассказывать их, а записывать.
Ничего нет легче, чем убедить человека заняться сочинительством. Как некогда в каждом кроманьонце жил художник, так в каждом современном человеке дремлет писатель. Когда человек начинает скучать, достаточно легкого толчка, чтобы писатель вырвался наружу.
Чтения происходили по вечерам. В зеленом камине сердито шипели и плевались сырые поленья. Красноватый свет керосиновой лампы освещал пространство перед камином, оставляя углы палаты темными. Члены клуба занимали свои постоянные места. Слева садился почтенный хлебопек Пфайфер, обратив к огню свое доброе лицо старухи. Рядом с ним устраивался военный интендант Сдобнов, всегда докрасна выбритый, в пижаме и сапогах. Еще дальше располагалась на кургузом диванчике женщина-врач Нечестивцева. Председатель клуба Патрикеев устраивался на двух чурбанчиках, поставленных на торцы. Как литератор, он был освобожден от писания рассказов, но зато ему было поручено топить камин и следить за угольками, падающими на паркет. В углу на кровати сидел закадычный друг Патрикеева – доктор Бойченко, человек тихий, серьезный, ленинградского воспитания. Рядом с ним, на другой койке, лежал, просунув вишневые ботинки меж прутьев кровати, юрисконсульт Котик, жгучий брюнет с коричневыми белками и волнистыми усами Мопассана.
Девиз клуба, сочиненный Патрикеевым, гласил: «В каждой жизни есть по крайней мере один интересный сюжет». Поэтому авторам разрешалось брать сюжеты только из собственной жизни. А так как жизни у всех были совершенно непохожие, то все написанное оказывалось неожиданным и интересным. Все предполагали, что старичок Пфайфер, знаменитый специалист-хлебопек, напишет о пекарнях. Но он написал рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».
Надо сказать, что членам клуба льстило знакомство с известным писателем. Оно возвышало их над обитателями других палат, рядовыми шахматистами, фотолюбителями и разлагателями слов. Сколь ни мелок этот мотив, мы не можем умолчать о нем. Возможно, что старик Пфайфер был более знаменит среди хлебопеков, чем Патрикеев среди писателей, но о Патрикееве знали очень многие, а о Пфайфере знали только хлебопеки. Иначе и быть не могло, ибо Пфайфер не ставил своего имени на хлебах, как Патрикеев на романах, хотя последние, быть может, и не были лучше выпечены, чем изделия доброго хлебопека.
Патрикеев и его скромный друг доктор были неразлучны: если один отправлялся любоваться прибоем или смотреть на розовый куст, засыпанный снегом, за ним сейчас же отправлялся и другой. Истоки их дружбы никому не были известны; чувство ревности подсказывало членам клуба единственное объяснение: великие люди нередко обременены всякими друзьями детства, бывшими соучениками, соседями по парте, ныне провинциальными бухгалтерами или лекпомами, не замечающими той пропасти, которая образовалась между ними и их знаменитыми сверстниками. Было известно, что живут они в разных городах: Бойченко – в Ленинграде, Патрикеев – в Москве, но отпуск всегда проводят вместе. Это свидетельствовало о том, что дружба их отличалась пылкостью, свойственной юности, но редко наблюдаемой среди людей, которым перевалило за тридцать. Ни Патрикеев, ни Бойченко не были, однако, коренными жителями северных столиц. В их речи звучал тот неистребимый южный акцент, который позволяет безошибочно узнавать бывшего одессита в толпе ленинградцев и москвичей.
Дела клуба шли прекрасно, но однажды его ревностные члены были возмущены доктором Бойченко, который заявил, что ему не о чем писать. Особенно кипятились старичок Пфайфер и Нечестивцева, с большим успехом прочитавшая накануне новеллу, насыщенную интимной лирикой. Никакие уговоры не подействовали бы на застенчивого и упрямого доктора, если бы не вмешался его друг Патрикеев.
– Не верьте ему, – объявил председатель клуба, – у него больше сюжетов, чем у любого из нас. Володя, – обратился Патрикеев к приятелю, – почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?
Через несколько дней Владимир Степанович Бойченко занял место по правую сторону камина и приступил к чтению своего рассказа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.