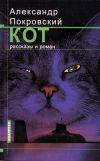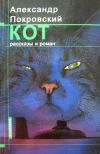Текст книги "Бортовой журнал 2"

Автор книги: Александр Покровский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
И потом, этот пресловутый поцелуй. Это что за театр?
Граждане, должен вам сообщить, что Христа в ентом самом месте знала каждая собака – он там день и ночь шлялся и все проповедовал и проповедовал.
Так для чего же его целовать, если его и так все знали?
Уж очень этот поцелуй похож на пароль, что ли, или на условный сигнал между двумя сговорившимися.
Кто эти двое? Христос и его лучший ученик – Иуда. Один без другого – просто не вяжется. Не совершил бы Христос подвиг собственного распятия без верного помощника.
А кто годится на роль верного помощника? Только самый умный и преданный ученик. Иуда. И ведь Христос-то простил его тут же.
То есть Иуда, как и всякий прощенный, прямиком попал в рай.
Что и было обещано.
* * *
Герундий! Как человек, рожденный для великих дел и отличающийся с самого своего появления на этот свет счастливым телосложением, набором несомненных дарований, а также и трезвым рассудком, хотел бы обратить ваши взоры на то, что только умы недалекие полагают виновными в своих бедах всех лордов нашего королевства.
Это не так. Беды бедным несет бедность. Ума, разумеется.
А всякий же феодал испытывает неподдельные чувства к своим подданным. Все эти движения начальственных душ хороши, поскольку не обещают забвения – худшего из имеемых зол.
Вглядитесь в их лица – там нет места скуке. Они всюду в поиске. Их тревожат детали.
А люди вызывают в них к жизни те же свойства души, как и бараньи котлетки.
Нельзя не любить то, что ты ешь.
* * *
Я встретился с Клаусом Фрицше. Он был смущен. Он сподобил нас на издание его книги о плене, а потом нашел себе других издателей. Я успокоил его: ничего страшного.
Я задал ему вопрос: все ли немцы шли в Россию в 1941-м за землей и рабами.
Нам, по крайней мере, говорили, что все.
– Нет! – сказал Клаус. – Не все. Это землевладельцы, может быть, и шли за этим, но я и многие мои товарищи были семнадцатилетними мальчишками. Мы шли за родину. Я недолго провоевал. В первом же бою попал в плен. И шесть лет отсидел в плену. Меня и многих моих товарищей спасали простые русские люди. Спасибо им.
Клаусу уже за восемьдесят. Он 1924 года рождения, и он все еще пишет книги.
Мой отец тоже воевал с семнадцати. Только он уже умер. В шестьдесят восемь лет. Он не любил вспоминать о войне.
* * *
Мне позвонили и сказали:
– Сейчас с вами будет говорить Наталия Петровна Бехтерева!
Дело в том, что до этого я брал у нее интервью и при этом деянии подарил ей «72 метра».
– Александр Михайлович! – послышался в трубке голос Наталии Петровны. – Должна вам сообщить, что если вышла ваша книга «72 метра» и по ней еще и фильм сняли, то в нашей стране действительно есть демократия!
– Вам понравилось? – спросил я.
– А я бы иначе и не звонила! – было мне заявлено не без гордости.
– Ну, Наталия Петровна, уж нам-то известно, что вы девушка-кремень! Значит, вас проняло?
– Конечно! Но вам-то известно, что вы умеете затянуть к себе читателя.
– Известно, конечно. Так что спасибо, Наталия Петровна!
Потом мы еще немного поговорили о том, как человек выходит из тела, о снах и сновидениях, о рождении мысли, о мозге, а в конце разговора я ей сказал:
– Вы только там не пропадайте, Наталия Петровна!
– Вы только посмотрите на него! – притворно ахает она, и в трубке слышится смех секретарши.
* * *
Все зависит от движения встревоженных духов.
Все помыслы человеческие, все страдания и печали, а также радости, подлости, глупости. Словом, всё.
А встревоженность же духов напрямую связана с самим зачатием.
Не столько со способом оного – с позой и интенсивностью, как с мыслями, опутавшими обоих участников, с разнообразием их путей и направлений.
Не следует безо всякого соображения нестись вперед как угорелые, на манер зеленых обезьян, мартышек или же макак! Иначе на свет Божий не замедлят появиться торговцы недвижимостью, предатели и члены городского парламента.
Не следует тупо и сыто уподобляться молоту и наковальне, поршню и шатуну или же деревенскому насосу для подъема воды из-под грунта. В этом случае мы рискуем наводнить мир клятвоотступниками, убийцами и ворами, а также лицами безо всяких способностей, то есть служащими госдепартамента.
Только мягкое, непринужденное размышление о связи величин бесконечно малых с большими, о влиянии их друг на друга и о взаимном их проникновении в сочетании с движениями неторопливыми, но глубокими и сильными способны явить нам души благородные, склонные к любви и обожанию всего сущего.
Уф!
* * *
– Хочешь посмотреть то место, где у нас Буш танцевал?
Вообще-то, я хотел бы взять интервью у Кахи Бендукидзе, но и то место, где в Тбилиси Буш танцевал, тоже сойдет, пока Каха готовится к интервью.
Буш танцевал на улице перед рестораном, а потом его повели в этот ресторан кушать.
– Вот он – этот ресторан!
Мы стоим рядом с очередным собором на возвышенности, под нами Кура, а на том берегу– ресторан. Я уже привык, что тут в Грузии всё – или Кура, или собор, или ресторан.
Я третий день не могу взять интервью у Кахи: то ему некогда, то мы в ресторане.
Каха обещал мне дать интервью сегодня, но вечером, а пока можно сходить в музей оружия. Меня туда ведет Георгий. Это рядом с одной маленькой, но древней церковью, куда мы, конечно же, заходим поставить парочку свечек.
Тут же недалеко и городской музей. В музее тихо, и там собрано все, что относится к городской жизни – орудия и оружие. Оружие – это к предкам грузин, настоящим мужчинам и воинам, а орудия – это к ремесленникам – тбилисцы были искусными мастерами.
В музее много и того и другого, а также костюмы всех времен и современная живопись.
Современная живопись похожа на ту, что рисуют в Питере «Митьки».
После музея мы заходим в кузню, где куют кинжалы.
– Ты хочешь маленький кинжал? Объясняю, что в аэропорту все равно этот кинжал вытащат из чемодана.
– Тогда просто посмотрим.
В кузне живописно лежат всякие куски, которые потом станут оружием. Здесь куют оружие на заказ. Кузнец – выпускник художественного училища, он не только показывает, но и рассказывает о том, как это оружие делается и какие предки были молодцы, что завоевали так много земли. Оказывается, в свое время не было ни Армении, ни Азербайджана, а все это была Грузия. Я уже слышал нечто подобное от армян. В том случае была только одна Армения.
А оружие он кует действительно очень хорошее.
Интервью в тот день я взял, но не у Кахи Бендукидзе, а у другого Кахи.
Этот Каха министр, и возглавляет он департамент науки, спорта, труда и еще чего-то не очень крупного. Одновременно он еще и является деканом здешней школы бизнеса.
То есть он учит бизнесу других людей.
Мы пошли в его школу, где поднялись наверх на лифте, у которого открывалась только одна створка. Кроме того, внутри надо было нажать некую комбинацию кнопок, чтоб сдвинуть его с места вверх.
– А он не рухнет вниз, если ты отпустишь кнопки? – спросил я у парня, который нас вез таким образом в школу бизнеса.
– Нет! – засмеялся он. – Не успеет. Сейчас приедем.
И действительно, вскоре мы приехали. «Как все необычно, – подумал я, – в этой школе!»
Каха говорил по-английски и по-русски. Он оказался молод и напорист. Он ездит по стране, он часто бывает в Америке, в Канаде. Он читает там лекции. Он и здесь читает лекции об истории Грузии.
Он говорит о Грузии, о ее будущем (которое видится ему сельскохозяйственным, ну и туризм, само собой, а потом еще и транзит бакинской нефти с газом, и прочее, и прочее).
На нашей беседе присутствуют Гизо и Важа. Те сидят, уставясь в стол, потому что Каха, показывая на них, говорит о том, что их поколение было взяточниками, а Грузия так жить больше не хочет.
После интервью мы с Георгием никак не могли найти туалет. Потом нашли его, но там не было света.
– Как бы не написать на какого-нибудь студента! – говорит мне Георгий. – Лекции в Канаде читает, а лампочку ему бывшие взяточники должны вкручивать.
Когда мы вышли на улицу, Важа, которого только что обвинили во всех взятках Грузии, обрел голос.
– Негодяй! – сказал он. – Такой молодой и уже негодяй!
Мы, как могли, его успокаивали. Все-таки интервью вышло интересное, а этот парень молод и горяч.
– Негодяй! – не успокаивается Важа. Другое интервью в тот же день мне дал другой министр.
– Он такой же, как и этот?
– Нет! Это очень умный человек. Его тоже зовут Каха (похоже, тут всех министров зовут Каха). Каха – очень распространенное имя в Грузии. Каха – по-грузински Александр.
Министр образования не так молод и горяч, как министр науки. Он взвешивает каждое слово и говорит о реформе образования, о том, как Грузия победила коррупцию, о туризме, сельском хозяйстве, инвестициях, трубопроводах и доступности власти.
Власть тут действительно доступна – я же взял интервью у двух министров в течение одного дня.
Вечером всей компанией мы пошли в тот самый ресторан, где танцевал Буш.
Там Важа сказал тост:
– Я хочу выпить за три капли. Первая капля – это капля крови. Ее проливали наши предки за эту землю. Вторая капля – это капля пота. Его проливали наши предки, когда пахали эту землю. И третья капля – это та слеза, которую проливали матери тех, кто проливал и кровь и пот.
После этого тостов было еще очень много.
В восемь вечера меня отвезли в гостиницу, пообещав заехать за мной в десять, потому что именно в это время Каха Бендукидзе готов дать мне интервью.
В полдесятого позвонил Георгий и сказал, что Бендукидзе вызвал к себе Саакашвили, и поэтому он даст мне интервью только утром.
* * *
Утром Бендукидзе мне интервью так и не дал – его опять куда-то вызвали. Так что по дороге в аэропорт меня завезли в местечко слияния Арагвы и Куры. Там монастырь, «из-за горы и ныне видит пешеход столбы разрушенных ворот…»
– Лермонтов здесь писал «Мцыри».
Это Джвари. Храм пятнадцатого века. Это все на горе, открыто всем ветрам. Холодно, мороз, снег, в храме – иконы, свечи, стены.
Под горой – река и древняя столица Грузии Мцхети. Там Светицховели – один из первых православных храмов.
Гизо дал мне в дорогу пять литров вина в полиэтиленовой бутыли.
– Так у меня же в аэропорту его отнимут!
– Если отнимут, скажешь: «Выпейте за мое здоровье!»
В аэропорту меня действительно остановили с этим вином.
– Что это?
– Это вино.
– В такой бутылке нельзя.
– Тогда давай его с тобой прямо здесь выпьем!
– Не могу. Я на работе.
– Тогда мы выпьем его с тобой после работы. Никуда не полечу. Хочу с тобой выпить!
Молодой таможенник смущен.
– Подожди! Старшего позову! Старший – солидный, спокойный, седой, с большим достоинством. Он сразу понял, в чем тут дело.
– Русского обижать нельзя! – сказал он очень весомо. – Вези свое вино!
Потом он постоял рядом и добавил:
– Скажи там всем. Мы любим Россию. Мы любим русских. Без русских– мы куда? Никуда! Мы вас любим. Скажи там всем. Старшее поколение все помнит. Конечно, молодежь сейчас по-английски говорит. А-ааа. какие они грузины? Они даже русского языка не знают. Вези свое вино! Все хорошо будет!
Так я и пошел в самолет с этим вином. В Москве, в Домодедово, с меня в аэропорту сняли даже ботинки. Женщина на проверке:
– А это что?
– Это вино. Из Грузии.
– В таком виде нельзя.
– Я знаю, что нельзя. Тогда возьмите его. Выпьете вечером.
Женщина открыла бутыль.
– Пахнет-то как хорошо. Вкусное, наверное.
– Так и берите.
Она засмущалась.
– Нет. Так нельзя. Езжайте со своим вином, – сказала она и наклеила мне на бутыль разрешение на провоз.
* * *
– У вас не будет рубля?
Передо мной стоял старик. Я зашел в магазин за курицей, а он стоял перед холодильником со всякими там блинчиками в картоне. Он стоял там с самого моего входа в магазин, смущенно улыбался, жевал губами, кряхтел.
– Тут котлеты стоят пятьдесят один рубль, а меня вот только пятьдесят, – старику особенно трудно далось последнее слово.
– Конечно! – сказал я и выудил ему мелочь из кармана. Он взял только рубль.
Я иногда вижу, как какая-то старушка достает кошелек, потом она в нем ищет, потом говорит: «О Господи!» – потом опять ищет так, будто она что-то в нем недоискала. В этот момент я протягиваю ей десятку, и тогда она как-то по-особенному радуется, вскрикивает: «Ой!» – но потом стесняется, потом берет, говорит: «Спасибо!»
Но как-то раз мне одна старушка очень гордо заявила: «Молодой человек! Я прошла блокаду! Я выдержу!»
Я ей тогда тоже давал десятку, но я тут же вывернулся и сказал: «Бабушка! Да разве ж это деньги! Вот помните, три рубля были зеленые? Вот это были деньги!» – и она сказала мне: «Да! Это были деньги!» – так что расстались мы друзьями.
А одну бабушку я нашел прямо на помойке. Я всегда отличаю профессиональных нищих от таких вот старушек. У них другие лица, движения. Она подобрала бутылки и сложила их в сумку.
Я ей протянул пятьдесят рублей. – Что ты, деточка, – сказала она, – это же много.
И тогда я повторил тот трюк с разговорами о зеленой трешке.
* * *
О русском языке. Собрались некоторые и сетовали, мол, язык наш не успевает за новым, молодым, а другие сетовали, мол, совсем он рушится, обедняется и падает куда-то.
Ой, блин! Да никуда он не рушится, не обедняется и не отстает. Он жив и живет, пока живы носители языка. Пока живы все эти люди, что на нем говорят. А рассуждать насчет того, что он не успевает или даже падает куда-то, означает лишь уподобление пчеле, которая несет мед в гнездо и при этом рассуждает о том, куда этот мед потом денется.
Да выгребут этот мед!
Весь без остатка!
И не твое это дело. Твое дело тащить. Язык – он же сам по себе. Он что та река, в чьих водах сначала и глина, и песок, а потом, за излучиной, и очистилась она сама по себе, никого не спросясь.
Жив он и всегда жив будет.
Живуч, потому что – точен, сочен, прилипчив, сладостен, вкусен. Вот!
* * *
Торжественно довожу до вашего сведения, что в настоящую секунду работаю над подлинно девственным посвящением, призванным украсить собой текущие потуги вот этого самого моего труда.
* * *
Матерь Божья – богиня и звезда!
Если ты не слишком занята устройством того, чего в принципе устроить никогда нельзя, то есть устройством этого подлунного мира, то обрати свое внимание на Сашку Покровского – все-таки не пропащий же он парень – и возьми этого обормота под свое чудесное покровительство.
Весна и солнышко. Немножко мороза и снег. Все искрится и капает. Сосульки сверкают.
На кусте бузины сидит стайка воробьев. Все они только что откупались в луже. Теперь они греются и разговаривают. Говорят все одновременно, как в итальянской семье. Фигурки воробьев на ветках неподвижны – они уже пригрелись в лучах солнышка, и шевелиться им неохота – но чирикают не переставая. О чем они чирикают? Я – лучший переводчик с воробьиного. Они говорят друг дружке: «Весна. Тепло. А хорошо, что тепло. Вот раньше, помните? Раньше – о-го-го! А теперь – хорошо. Это правильно, что теперь весна! Правильно, что тепло! Вот раньше было неправильно!»
Рядом с мусорными кучами сидят печальные вороны. Что-то ничего на кучах нет. Я бросил кусочек хлеба. Сейчас же прилетели голуби, закружились, засуетились. А вороны сидят и презрительно смотрят на голубей.
«Кар!» – сказала одна из них, видимо, старшая.
«Кар-кар!» – с готовностью подхватили две другие. У старшей это означает, что мол, мы-то не такие глупые, как тут некоторым может показаться, не мог человек просто так что-то нам бросить путное. Тут-то точно какая-то дрянь. «Точно-точно!» – подхватывают ее товарки, но потом голод пересиливает, и они тоже слетают к хлебу.
* * *
Поймал девушку в темном углу и ну ее целовать. Это я о жене.
«Девушка! – говорю я ей. – Я должен вам что-то сказать неизбежное!» – «Я-то знаю, что ты хочешь мне сказать!» – «Да ничего ты не знаешь!» – говорю я и начинаю целовать.
* * *
Шведы опять звонили и говорили, что они снимают фильм о подводных лодках в Балтийском море. Их интересует «Шведский комсомолец» – история, правда, правда истории, ну и так далее.
Оказывается, «Шведскому комсомольцу» двадцать пять лет, и пора снимать фильм.
«Шведский комсомолец» – это лодка, севшая в шведском фьорде на мель в 1981 году. Шведы считают, что это мы к ним со зла забрели, что мы там что-то искали или происки какие-то имели.
Я сказал, что ничего мы не имели, что народ заблудился, а они говорят: «Как это можно там заблудиться? Вы видели наши фьорды?»
Мы видели ваши фьорды. Можно. Вот специально войти без лоцмана – нельзя. Обязательно врежешься в скалы, а ночью, в подводном положении, при полном выходе из строя всех приборов для определения места – можно. Можно потом всплыть на зарядку батарей и идти тихонько в надводном положении и отмечать в вахтенном журнале, что вроде справа по борту видны масляные пятна. А это не пятна. Это уже берег, и вода, оттого что там никакой глубины вообще нет, другого, желтоватого цвета.
«Нет! – сказали шведы. – Все не так! Там такие фьорды, что просто так не войдешь!» – «Да знаем мы ваши фьорды! Знаем! Вы не войдете, а мы войдем! Особенно если мы на боевой службе уже почти месяц, и у нас нечем определять место, и штурман, боясь доложить об этом командиру, идет по счислению, а сам врет, что он определяет место по звездам, по радиомаякам и еще по чему-то береговому!»
В общем, не договорились.
Я потом позвонил Сане Крыштобу и рассказал о ситуации.
– Саня! – сказал я. – Просвети! Может, я – дурак и все не так понимаю?
– Да нет! Все так. Лодка из нашей базы. 613 проект. Ну, вышло там у них из строя вся навигация на боевой службе? Штурман шел по счислению. И дошел!
– Это точно 1981 год?
– Точно!
– У них были торпеды с ЯБП (ядерный боезапас), а то меня этим шведы просто задолбали?
– Конечно были. Две штуки. Как всегда. Это же боевая служба! Должны быть!
– А, ну да! Совсем забыл. Боевая же! Конечно были!
– А чего они так боятся этих торпед?
– А я не знаю. По ним хоть молотком бей, все равно не получится Хиросимы с Нагасаками!
– Да, у них и заряд – полная ерунда!
– Ну да! Только пирс разрушить да базу накрыть!
– Ну не десять же килотонн!
– О чем речь! Там столько степеней защиты!
Так что Саня меня успокоил. Ну их, этих шведов, задолбали!
* * *
Перезвонил швед и сказал, что он тут подумал и решил, что в этой истории, скорее всего, дело обстояло так, что мы (русские) просто заблудились. У них мнения среди военных разделились, одни сказали, что ничего русские не имели против Швеции, а другие за то, что имели. Просто когда допрашивали командира севшей на мель подводной лодки, то он в показаниях путался, и все решили, что что-то тут нечисто.
А я сказал, что у командира столько инструкций и всяких наставлений, что там немудрено запутаться и говорить не пойми чего. На это надо делать поправку.
Так что мы решили со шведами дружить, и на все их вопросы ответить, и нужных людей им показать, и чтоб они тоже ответили – о как!
* * *
Господи! Сохрани всякую халяву для любителей культуры: поэтов, писателей, художников и прочих служителей. Не уничтожай, Господи, самих основ. Пусть они врываются на фуршеты и едят, едят, едят торопливо и за фужеры с вином хватаются: «А можно мне еще, там у меня друг?»
* * *
Сейчас сделаем обнажение приема. Это я о литературе и пафосе.
Все, что связано с пафосом, у меня рано попало в зону великих подозрений – повязывание красных галстуков и прочее.
Сначала я почему-то считал, что если мне повязали галстук, то я сейчас же должен что-то делать – полезть на забор, по крайней мере. Но никто рядом со мной не полез на забор. Вообще никто никуда не полез. Все разошлись, я остался. Один.
То есть я сразу заподозрил, что в этом кроется какая-то чушь. Предполагалось, что если я с галстуком, то я должен немедленно помогать бедным, больным или же калекам. А если я без галстука, то я сейчас же попадаю в область Мальчиша-Плохиша и начинаю яблоки воровать. Я только что прочитал «Тимур и его команда», и все мои первичные предположения были оттуда, вот только я никак не мог понять, как же они там все время обтряхивают яблони. То есть яблок – море, и кто-то все время трясет эти несчастные яблони, а они, яблоки, от этого ничуть не страдают – на следующий день опять появляются. Я тут же произвел расчет, и получилось, что все яблони во всей деревне можно было за две недели обтрясти и после этого сдохнуть от скуки, а у них там все так здорово развивается – появляется организация, которая борется с этими ябложорами. Я даже эксперимент провел: взял и съел килограмм яблок. На следующий день у меня болел живот, и яблок мне еще месяц не хотелось. Ну и мои братья однажды по примеру этих негодяев полезли и сожрали на бахче какой-то зеленый виноград. Они тоже после этого целый день ходили с вздувшимися животами.
И не то чтобы я сразу понял, что там все ложь, нет, я верил Гайдару, я просто хотел понять. Ну нельзя каждый Божий день ночью (!) обтряхивать у бабушки такой-то яблони, потом то же самое делать у бабушки сякой-то. Не получится сделать из этого профессии. Я же хотел дойти до самой сути. Мне надо было удостовериться, что это не вранье.
Потом я прочитал Фенимора Купера «Зверобой». Он мне тоже понравился, но что-то меня там не устроило. И вот я читаю у Марка Твена про того же Купера: ну сколько индеец может прыгать сверху – «боевая раскраска его налилась, плечи взбугрились, лицо исказилось». В это время, пишет Марк Твен, плот-то давно уплыл, а он все прыгает и прыгает. Естественно, он грянулся в воду, потому что нельзя быть таким неловким индейцем. То есть Марк Твен направил меня в нужную сторону, и я стал понимать условность литературы.
А потом помог «Золотой теленок». Я очень рано понял, что в «Золотом теленке» все написанное – правда, а вот в том, что папа мой стал коммунистом, правды нет. Он стал им по недоразумению. Недоразумел он. Он мне очень долго объяснял и никак не мог объяснить, что при коммунизме будет много товаров, зайдешь в магазин и все бесплатно возьмешь. Меня это сильно озадачило. И не то чтобы все всё быстро заберут – нет, я не понял другое: зачем производить, если и так в магазине все будет? «Ну как это «будет»? – говорил папа. – Надо же работать!» – «А зачем работать, если и так все есть?»
Папа подумал и начал мне говорить про производительность труда.
И я понял, что будет наблюдаться такая производительность труда, что, допустим, человек кнопку нажал, и автомат ему выкинул семьдесят пять гондонов, а ему нужен только один, а остальные семьдесят четыре он может подарить кому угодно.
И я еще тогда подумал: «Ну как же так?»
То есть я очень рано не увидел никакого смысла в этом производстве.
А дальше – мне было очень легко. Как только речь заходила о светлом будущем, то я представлял себе сразу семьдесят пять гондонов, и все сейчас же вставало на свое место.
* * *
У космонавта Юры Батурина хочу взять интервью.
– Только без джентльменского набора, ладно? – говорит он.
Что он под этим понимает, я не знаю. Наверное, журналистские всякие штуки.
Я ему сказал, что буду задавать вопросы не совсем обычные.
– И не сегодня, хорошо? А то я не совсем готов.
– Хорошо.
– А что это за вопросы?
И я ему рассказал, как у меня однажды брали интервью. Одна немецкая журналистка просила отвечать на неожиданные вопросы неожиданно. Например, что вы думаете об облаках?
– Об облаках?
– Да! Вот смотришь на облака, и что приходит на ум?
Юре вопрос нравится.
– Однажды на орбите была сплошная облачность. Ничего не было видно. Одни облака. И я решил смотреть на облака. Целый день смотрел. Я увидел там облака Леонардо да Винчи. Я потом такие же видел на его картинах. Красиво. А потом вдруг ты понимаешь, что твое «я» простирается за пределы скафандра. Это особенно чувствуется, когда остаешься один в капсуле. Тогда твое «я» заполняет всю капсулу.
– Это как в море. В море нельзя плыть несколько часов без того чтобы думать о том, что все вокруг – это ты. Что ты и море – это одно и то же. Что рыбы – это ты. Они подплывают и плывут рядом. Потом они отстают, уходят в глубину.
– Это точно. Я люблю плавать в море. Такие же ощущения.
– А правда то, что в какой-то точке на орбите космонавты вдруг начинают слышать рев динозавров и звуки средневековых сражений – лязг мечей, например?
– Нет, неправда. Просто в невесомости мозг человека, как и любая жидкость в состоянии невесомости, стремится принять форму шара, а черепная коробка не дает ему это сделать. То есть на какие-то области мозга давление усиливается, а на какие-то – ослабевает. У человека могут проснуться способности к пению, к рисованию, к написанию музыки. Причем на Земле все это утрачивается.
– И человек приходит в свою норму?
– И человек приходит в норму.
Вот такое я взял у Батурина короткое интервью.
* * *
Говорили с Женей Бунимовичем о русском языке, после чего выработали с ним следующую декларацию для тех, кто сетует на то, что русский язык обедняется, размывается, деградирует.
Граждане! Ничего он не деградирует! Вот называют вас «носителями языка», вот и будьте «носителями».
Носите то, что вам дали.
А язык все равно найдет себе дорогу. Он пробьется. Если надо, он под землю уйдет и там будет течь. Есть же подземные реки. Они текут даже там, где на поверхности все выжжено, пустыни, солнце да песок.
Вот и язык так же. Он все пропитывает собой, все в себя вбирает, а потом, что не надо, осядет где-то и язык очистится. Сам. Без академиков.
А молодые говорят на таком языке, потому что именно они более всего способны на эксперименты с языком. Должен же кто-то что-то новое в язык привносить. Вот они и привносят. Ничего страшного. Они потом перебесятся и будут, как мы.
А язык Гоголя никуда не пропадал, потому что в нем не только слова, но и мелодия. Слова могут меняться, а вот мелодия…
Мелодии у языка могут быть разные.
Не все они языку подойдут, но уж если подойдут, то это навсегда».
* * *
1 апреля не только День дураков, но и День птиц.
Меня с Колей пригласили читать стихи и прозу, посвященную птицам.
Коля читал про своих пеночек, а я – про ворон.
Там еще на пианино и на балалайке здорово в промежутках играли приглашенные артисты.
Потом вышел мальчик Петя осьмнадцати лет и сказал, что он прочитает стихи про Путина.
«А где же здесь птицы?» – спросили все, на что мальчик Петя отвечал, что Путин – очень важная птица.
Потом он прочитал стишки. Одним матом.
В этот момент я подумал, что у киборгов нет будущего, если даже мальчик Петя так матерится.
* * *
Одного поэта спросили: «Как же так? Говорят, что вы – пьяница, бабник, бездельник, даже мелкий воришка – вы воруете деньги у своих родственников.
А в стихах – вы певец и мечтатель. Вы пишете о любви, о прекрасной женщине, о чистой душе». – «Но я же пишу только с восьми до десяти, – отвечал он, – а дальше я свободен!»
* * *
Коля считает, что наш юмор находится в языке, потому что есть многие территории, темы, что ли, к которым мы не прикасаемся. В этом есть особенность нашей цивилизации. Мы позволяем себе не додумывать мысли до конца. Может быть, поэтому нет и русской философии.
Я сказал на это, что русский язык не обязателен. Зачем додумывать до конца? Ты должен выдумать формулу, а как тут можно выдумать формулу, если это все не обязательно к исполнению. Просто формула, и все. Промежуточная, неустойчивая.
* * *
Кстати, обязательными могут быть те русские люди, что живут на окраинах империи. Там смешение языков, и им, чтобы выжить, надо выбирать из русского языка самые устойчивые его формы.
* * *
Чиновники во все времена советской власти изо всех сил пытались сделать русский язык обязательным. Они его выхолащивали, выхолащивали – все газеты были похожи друг на друга – и заколебались выхолащивать. Язык вывернулся. Он просто старше любых чиновников.
* * *
1 января 2006 года у нас была жуткая ночь. Мы встретили Новый год, а потом сестра жены Лариса с мужем уехали. Моя жена всегда звонит им потом и спрашивает, как они доехали – все-таки на машине, всякое бывает. А тут она звонит – и тишина. И тишина по всем мобильникам и по домашнему. Ната всех поставила на уши. Все бегали и звонили – в морги, в «Скорые помощи», в милиции. Потом отправили к ним домой ходоков. Выяснилось – они приехали и легли спать, отключив все телефоны.
* * *
А Саня наш пошел погулять и в три часа ночи привел компанию. Саня уже был выпивший и компания навеселе. Ната встала и всех разогнала. А утром Саня нам устроил скандал на ровном месте, мол, он уже взрослый, а мы при его друзьях его оскорбляем.
Я обычно стараюсь эти скандалы как-то гасить, пытаюсь перевести все на разговор, пусть все выскажутся, расскажут о претензиях друг к другу.
Но тут он меня оскорбил, и – не знаю, что на меня нашло – я зарычал, схватил его за грудки и замотал из стороны в сторону, потом бил по голове, по рукам, а сам что-то говорил, говорил: «Уходи! Пошел вон! Немедленно! Все свои вещи собрал, и вон!»
И Ната кричала: «Вон!» – а он вцепился в батарею и просил, чтоб мы его не выгоняли. Он долго просил, а мы все не могли успокоиться, все повторяли, чтоб он ушел, ушел, ушел.
Потом все устали. Я сидел, повесив руки. Жутко обессилел. Будто сам себя избил. Перед глазами все плыло. Не готов он жить один. И когда он только будет готов? Когда они вообще будут ко всему готовы? Говоришь им, говоришь – все впустую. Твое – не надо. Своего нет – ну и что? А если нас завтра не будет, и что тогда? Куда он пойдет? Сразу повзрослеет? Да он же не хочет взрослеть! Его все устраивает. Дурак дураком!
А потом мне опять стало как-то все равно, апатия ко всему – да идет оно все!
А потом я вдруг подумал, что на самом-то деле это ведь я не готов к тому, что он повзрослеет, что он уйдет, что вечером мы будем оставаться одни – это хорошо, конечно, но эта тишина, без него, без всех его глупостей.
Как же мы-то будем? И может, это все не его бунт, а наша надвигающаяся немощь? Что мы-то без него? И как это все будет – дети ушли, и он не приходит поболтать на ночь, и не говорит всякую чушь, и я не говорю ему, что хорошо бы книжки читать, а он мне отвечает, что он читает, а я его тут же ловлю на том, что все это ерунда.
Все это ерунда. Ерунда.
Да нет, все хорошо. Пусть уходит, взрослеет.
А ты к этому готов? Готов. Я готов. Да. Он уходит, не звонит, а потом – у него семья.
Да.
Черт знает что.
* * *
Ната позвонила и сказала: «Надежды нет!»
Я сразу примчался. Моя любимая теща умирает. Я знаю тетю Нину с двенадцати лет. Она все время работала – все в дом, все в дом. У нее уже пятьдесят три года грыжа на животе. Боялась оперировать. Теперь увезли по «скорой». Я денег дал, чтоб привезли в Мариинскую больницу – там у меня друзья, врачи.
Когда привезли, в приемном врач качал головой, мол, ребята, нельзя же так. А потом меня успокоили: не волнуйся, операция, да таких операций мы делали… и я успокоился, поверил, и все было вроде хорошо, дело пошло на поправку, к выписке дело-то шло. Операцию сделали, мы пошли купили кучу лекарств, но потом открылась язва в желудке – кровотечение, не унять.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.