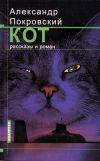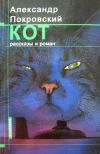Текст книги "Бортовой журнал 2"

Автор книги: Александр Покровский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Попробуй посиди полдня перед норкой мышки, и ты тоже станешь философом.
Так что перед общением с котом надо расслабиться, освободить свой ум от всякой мысли, а потом задать ему вопрос: «Вася, ты что хочешь?» Не удивляйтесь, если ответ будет здорово отточен филологически. Коты – гурманы.
* * *
Верю ли я в демократию? Верю. Тиранов сменит кто-нибудь другой.
* * *
Если государство – это угроза, то оно должно внедряться и в русский язык.
Оно будет что-то запрещать. Например, «с завтрашнего дня все мы не ругаемся матом». Трудно, конечно, понять, как это сами чиновники не будут ругаться матом, но запретить могут. Вполне. Это будет забавно.
* * *
Я много чего не понимаю. Например, не понимаю что такое «русская духовность». Хочется услышать определение. Сначала договоримся о терминах, как говорил Вольтер. Что такое «русская духовность»?
Особенность русского народа? Это не термин.
Особенностью русского народа является и лень. Это тоже относится к духовности? Или не относится? А душевная лень русского народа к чему относится? А языковая лень?
Или «русская духовность» как понятие выносится из зоны обсуждения? Предлагается некая данность, категория. Она не обсуждается и произносится с почтением, с придыханием, с пафосом, торжественно. И к ней следует относиться с уважением.
А я не могу относиться с уважением к тому, чего я не понимаю. Я должен понимать, за что я должен это уважать. «Разъял, как труп». Я должен понимать устройство. Хоть ты тресни. Мне это нужно, как и Сальери. Мне нужно понимать.
Я хочу понимать. Дайте определение, чтоб я мог взять это в руки. Как шахматную фигуру. Я не могу благоговеть от чего-то, не ясно чего. Я хочу ясности.
У русского народа много особенностей. Как положительных, так и отрицательных. Множество всяких частей одного целого.
Какие из этих частей вносятся в «духовность», а какие с презрением отвергаются?
А? Ну?
* * *
Ах, Россия, Россия, – красивая земля. Березки, редколесье, пригорки, долины, реки. И все это свежее, зеленое, сильное. Я еду в Москву, и за окнами поезда бежит мне навстречу большая, могучая страна – редкие дома мелькают у дороги, тут все больше лес, лес, лес, а вот и озеро, болото, кочки, поросшие мхом, и опять лес.
Вот только у домов – свалки. На зеленых откосах они выглядят незаживающими ранами. Как только мелькнут строения, напоминающие человеческое стойбище, так непременно рядом будет отхожее место.
А в Финляндии вы не увидите свалки вдоль дороги, и в Швеции их нет.
А вот как только начинается Отчизна милая, так и на тебе.
Грустно. Мы – цивилизация, порождающая мусор. Не только в России, конечно. Но там, за рубежом, с ним что-то делают – сортируют, утилизируют как-то.
В России – не сортируют и не утилизируют. Точнее так: что-то сортируют и что-то утилизируют, но это все капля в море.
У нас мусор в основном сваливают на свалке, и там он сам догнивает. Когда свалка наполняется донельзя, ее оставляют и переходят на новое место. Такая вот миграция.
Мусор – проблема человечества. И очень большая проблема.
Год от года его становится все больше. А за десятилетие его количество увеличивается в десятки раз.
В некоторых странах его сжигают. Но это не самая чудесная технология утилизации мусора, потому что есть же сухой остаток, который подлежит захоронению, и он отнюдь не витамины, и еще в воздух в лучшем случае попадает углекислый газ, а в худшем – такие комплексные химические соединения, что хуже всякой отравы.
Можно, конечно, поставить на выбросе в атмосферу фильтры, но всякий фильтр имеет «проскок». То есть что-то просачивается. И это «что-то» оседает на земле, траве, уносится ветром. Уносится не только ветром – есть еще снег и дождь. Все это смывается в реки, попадает в подземные воды и озера, несется в моря и океаны.
Великое дело разбавление.
В печени пингвинов в Антарктиде обнаружили ДДТ. Препарат этот давно запрещен, а вот в печени пингвинов он встречается до сих пор.
С каждым годом у нас появляются новые химические вещества, моющие средства, приборы и механизмы, например мобильные телефоны. Вы мне не скажете, как они утилизируются, к примеру, эти мобильные телефоны? Скажем, их перемалывают в порошок. А потом? А потом… а потом их… девают куда-то.
Это «куда-то» – наша Земля – очень маленькая планета.
Когда-то, говорят, прилетел огромный метеорит, и упал он в океан, и кроме гигантской волны этот небесный бродяга сделал еще вот что: из глубин океана поднялся метан. Падение метеорита создало условие для того, чтоб содержащийся в глубине, в растворенном состоянии метан вскипел. Миллиарды пузырьков устремились к поверхности. В атмосферу Земли одним махом попало огромное количество этого потрясающего газа. Метан, как и двуокись углерода, газ, дающий парниковый эффект. Он окутал Землю гигантским одеялом. Температура резко подскочила и. вымерли динозавры.
И не только они. Вымерло почти все живое, погибли растения, пересохли реки, озера.
Вот такая, говорят, была однажды катастрофа.
Гниющий мусор дает точно такой же метан, но не сразу, не взрывом. Постепенно. Сначала гниль, очень сложная по своему химическому составу, попадет в воздух, почву, подпочвенные воды, а потом ее впитают в себя растения, животные, и наконец человек.
И не надо думать, что кто-то сумеет от всего этого защититься, – вспомните о пингвинах и о ДДТ.
То есть в идеале рядом с заводом по сборке современных автомобилей должен стоять точно такой же завод по утилизации старых авто, и если кто-то создал новое моющее средство, то он должен доказать всему миру, что оно уйдет в почву совершенно безболезненно для окружающей природы.
Мы – цивилизация, порождающая мусор. И он давно уже не считается «культурным слоем». Это тоже же самое, что и спирт в пиве, после того как пивные дрожи закончили свое существование.
Может быть, у пивных дрожжей тоже была цивилизация? Может быть, там была своя, недоступная нашему разуму письменность, или они породили какой-либо иной способ передачи информации – чувствуют же бактерии в одной плошке то, что в соседней посудине травят их собратьев уксусной кислотой.
Просто у нас с ними разные скорости жизни. Наша длинней. Но они-то погибают от накопления спирта – продукта их собственной жизнедеятельности. Он накапливается и отравляет им жизнь.
А потом человек с удовольствием поглощает бывшую цивилизацию пивных дрожжей.
А кто же поглотит нашу цивилизацию, задохнувшуюся в мусоре?
Земля, конечно. Из земли вышло, туда же и придет.
Земле все равно.
Вот какие у меня возникли мысли, когда я смотрел в окно по пути в Москву.
У самой Первопрестольной поезд шел очень медленно.
На запасных путях стояли вагоны.
У дверей вагонов, на земле, лежали горки только что вываленной угольной золы.
* * *
Пошел на пруд кормить лебедей. Здесь им не подрезают крылья, и пруд довольно большой, так что люди их не очень-то беспокоят. Наоборот, лебеди сами подплывают, когда видят людей. Лебеди умные, они сразу знают, с кем они имеют дело. Недалеко от берега плавал крупный самец. Я нарвал травы. Лебеди любят пырей. Я стал бросать траву в воду, и лебедь ее ел. При этом он довольно урчал: «Ур-ур!» – совсем как кот. А тут другой лебедь издалека сопровождал даму. Он выгнул шею, уложил ее на спину, красиво приподнял и распушил крылья.
Мой лебедь немедленно двинулся им навстречу и принял эскорт от пришельца. Тот остановился на границе своего участка, развернулся и уплыл восвояси, а дама направилась ко мне и откушала травки.
Мой лебедь, не забывая о своем состоянии, тоже вежливо кушал рядом.
И тут появился молодой лебедь серого оперения. Мой немедленно двинулся навстречу сопернику, пригнув шею и растопырив крылья. Всем своим видом он говорил: «Моя дама, моя трава!»
Я попытался его обойти по берегу и дать травы молодому, но он меня всякий раз обгонял по воде и оттеснял молодого: «И человек этот тоже мой!»
* * *
Я же родился в Баку, и там вокруг меня, конечно, были другие языки.
Но там даже азербайджанцы говорили по-русски. Хоть и не всегда правильно.
Да, смешным является то, что живет на границе языков. Для русских смешными являются украинцы, которые хорошо шутят именно потому, что они пользуются двумя языками. Они вроде бы говорят на русском, но вставляют в него украинские обороты речи, слова. Коля прав: когда человек приходит из другого языка, то он все время чувствует границы языка, он его опробует, ощупывает границы возможного – можно так назвать или нельзя? И это нас смешит. Когда и можно, и нельзя так назвать, но в конце концов называется.
Да, азербайджанцы говорят не на правильном русском языке. Это так же, как у Зощенко: приехал человек в город и старается говорить на интеллигентном языке – возникает смех.
У азербайджанцев тоже получается смешно: «Вы туда не попали!», или «Твой жена културный? – «Ала, какой, куй, културный – худой!», или «Ти своя матушка вези в Россия».
Это очень легкая зона для пародий.
«Мамед, ти куда едищщщщ»? – «Махачкала!» – «Зачем?» – «Канечная!»
Или «А-да… у меня изжёга-э!» – «Из откудова?»
То есть зона веселого там была повсеместно. И это не всегда воспроизводимо на бумаге. Это вопросы синтаксиса, это знаки препинания, это организация речи, усиление и ослабление членов предложения, это возможность построить выпуклое речевое сообщение. Это речевой котел. Там интонация должна быть, растягивание слов. «Скажите-да-ааааа!» или «Ладно-да-аааа! – и тут же сразу чувствуется зной, лень восточная.
То есть такая часть юмора – это языковое передразнивание, как говорит Коля. Это территория артистизма, это такое искаженное зеркало.
И слыша это, я кривлялся? Да. Наверное, да. Я кривлялся.
* * *
Русский юмор не бывает черным, он бывает потешным – поговорка, частушка, пословица.
Хотя юмор Олега Григорьева можно назвать черным: «Маленький мальчик нашел пулемет.»
Но из зоны четверостиший, как мне кажется, он не выходит.
Английский или немецкий юмор, где допустима божба, ругань в отношении Божьей Матери, запросто выходит, а вот русский – нет.
Там в языке есть карнавализация. Вот в итальянском языке – куда более, скажем, мистически настроенная культура (католицизм, Рим и прочее) – в ругани присутствует все: посылается Мадонна, Иисус Христос– и все это в грубых формах.
В немецком языке была низкая поэзия, которую называют гробианской, по имени поэта Гробиана. Он дико и непристойно острил, особенно за столом, попирал всякие догмы и вообще все святое.
Коля говорит, что в русском языке есть масса запретов, поэтому черный юмор для нас подозрителен, как, например, стихи Григорьева. Там есть апология жестокости.
А русская жизнь всегда была жестока. То есть она была настолько страшна, что о ней и подумать страшно, и поэтому многое не называется своими именами. Назовешь – вызовешь это к жизни.
Это проблема даже не языка. Это проблема общественного согласия.
* * *
Вывезли мы как-то еще маленького совсем Сашку в Египет. Там все купались и загорали, а Сашка ходил вдоль совсем маленькой неглубокой лагуны в сопровождении небольшой белой цапли. Та шлялась за ним как привязанная.
Дело в том, что здешний инструктор по серфингу научил Сашку ловить рыбу. Хлеб следовало положить в пластиковую бутылку, сбоку которой делался надрез ножом. Бутылка наполнялась водой и помещалась на дно лагуны. Рыба видела хлеб, методом тыка собственной мордой в стенку бутылки находила разрез и втискивалась в нее за хлебом.
Назад она больше выбраться не могла. Так ее и ловили, а потом скармливали цапле, которая прекрасно понимала, что ради нее стараются.
Сашка ловил рыбу для этой цапли целыми днями. Остальных людей она близко к себе не подпускала, а с ним стояла бок о бок. Вместе они напряженно смотрели через воду на рыбу и на бутылку.
А потом прилетела еще одна цапля. Как только наша цапля увидела пришелицу, с ней случилась истерика. Она с диким криком стала носиться по берегу, по воде, по воздуху за этой незваной гостьей. Она вопила, орала, задыхалась от бешенства.
И всем было понятно, что она орала: «Мне здесь принадлежит все! И земля, и песок, и вода, и люди вокруг! Пошла вон отсюда!»
Особенно она защищала Сашку.
Она прогнала эту новую цаплю.
На следующий день они с Сашкой – бок о бок – уже напряженно смотрели в воду маленькой лагуны, на дне которой покоилась пластиковая бутылка.
* * *
Нет, нет, диоксины никто не отменял. Они появляются в воздухе при гниении пластиковой упаковки. «Ди» – означает два, а «окси» – это кислород. То есть еще в мусорном ящике, на солнышке, происходит разложение пластика. Особенно если его мешают с пищевыми отходами. Они гниют быстро, и пластик начинает окисляться, в том числе и от взаимодействия с продуктами их гниения.
А если мусорный ящик поджечь, то в воздух будет поступать полихлорбифинил.
Кроме того, с дождичком в почву начинают поступать и соли тяжелых металлов, а они-то в нашем мусоре есть всегда.
Потом почва подсыхает, образуется пыль, и уже эта пыль, содержащая эти соли, поступает в легкие. Причем токсичные вещества могут годами находиться в местах складирования бытовых отходов в неизменном состоянии.
А еще они уносятся за десятки километров ветром, перемещаются с подземными водами.
А потом их едят коровы вместе с травой, и они попадают в молоко или масло. Они отлично растворяются в жирах, в том числе и в подкожном жире человека. Там они и ждут своего часа.
И никто не застрахован (не носят же противогазы двадцать четыре часа в сутки). Ни Законодательное Собрание, ни Смольный, и Кремль не застрахован, и Охотный ряд.
Так что думайте, господа. Вы заняты нашим огромным экономическим развитием, а помрете-то вы все от гниющего мусора.
* * *
– Что это?
Сашка приготовил мясо. Я его купил, а он, пока нас с работы ждал, его приготовил. Раньше Сашка консультировался с тетей Ниной насчет готовки – все звонил ей по телефону – а теперь не с кем ему консультироваться, нет с нами тети Нины, вот он и изобретает сам. Мясо пересушил – оно как подошва.
Ната на него набрасывается с порога:
– Что это? Зачем? Лучше б ты учился! А плита в каком состоянии? Грязь везде! Кто же кладет столько масла? Все же горит! В воде надо сначала отварить немного!
Сашка слушает – глаза в пол, потом говорит: «На хер!» – и убегает к себе в комнату. Я воспламеняюсь немедленно:
– Зачем это, Ната? Зачем это все? Не умеешь разговаривать – не говори! По-другому нельзя сказать? А? Зачем мне твоя еда? Зачем все?..
Ната идет за Сашкой, и вот они уже через какое-то время возвращаются. Все извинились, Сашка простил, уже: «Сыночка, давай добавим воды, а потом – лука», уже все сели: «А вкусно, правда?»
Я погладил Саньку по голове – маленький он еще у нас:
– Это ты у тети Нины все спрашивал, и она тебе говорила, как готовить? Так, Санька? Он кивает.
– Ну ничего, ничего. Нет теперь тети Нины. Теперь будем привыкать все делать сами. Да, Саня?
Он опять кивает.
Все успокаиваются, ужин, хорошо, тепло…
* * *
– Раз! Два! Осторожно! Ты когда ногу ставишь, то смотри, чтоб не зацепилась! – это мы с дедом гуляем. После инсульта левую ногу он волочет, да и левая рука плохо восстанавливается.
– Ты, дядя Саша, руку-то тоже поднимай!
– А я поднимаю.
Рука у деда идет только до плеча, выше – он уже кривится. Ну ничего, он упорный. Вон как бежит – не удержать.
– Ты под ноги-то смотри!
Теперь каждая выбоина на дороге для него серьезное препятствие. Дед ее перескакивает.
– Осторожно!
Куда там осторожно – уже перескочил. Ну дед! Он ходит дома, а потом отжимается, упираясь в подоконник. Как-то он лег и хотел отжаться на руках от пола, да так и не встал. Лежал и плакал. Потом кое-как поднялся. Теперь – только от подоконника.
Дед хочет удрать на работу.
– Я пошел в сберкассу, но мне проездной не дали. Говорят: давай паспорт.
А паспорт у него Ната отобрала, чтоб он на работу не улизнул.
– Дед, а зачем тебе на работу?
– Надо посмотреть, как там, а то Васька все мои инструменты утащит.
Васька – это его напарник. Дед его все время в воровстве подозревает.
– Только оставишь – уже утащил!
– Ты же одной рукой не сможешь за станком.
– Как не сможешь? Сможешь!
Врач сказала деду, что он теперь всю жизнь будет ногу волочить. Что у нас за врачи? Почему так? Дед теперь это все время вспоминает.
– Врачиха сказала, что я теперь все! Не буду ходить!
– Дура она, твоя врачиха! Ты уже вон как ходишь! Ты только под ноги смотри! А то несешься, не разбирая дороги!
– Приду и посмотрю, как там!
Это дед все о работе. Столько лет работал, теперь вот никак. Тяжко ему.
– А давай я тебе куплю станок. Будешь точить чего-нибудь.
Дед улыбается. Ему нравится эта идея.
– Все равно надо пойти посмотреть.
– Ты же не сможешь за станком стоять!
– А я сяду. Там они все сидят. Пять минут работают – полчаса чай пьют. Я так тоже смогу. Раньше я работал, а они чай пили. Теперь и я так буду.
На втором круге дед устает.
– Поясница болит.
– Тогда пойдем домой.
Дома Ната перебирала вещи, оставшиеся после тети Нины.
Мы вошли возбужденные с прогулки. Дед сразу стал рассказывать ей про станок.
Потом все утихли по углам, и вдруг я слышу рыдания. Ната рыдает над вещами тещи. Уже скоро год как тети Нины нет, а вот прихватывает иногда. Я обнял ее и сказал:
– Тише, тише. Ну чего ты? Ну ладно, ладно… Еще дед услышит. Ну ничего, ничего… Пройдет. Сейчас пройдет. Отпустит. Все пройдет. Тихо. Не надо. Ты же не одна, у тебя я есть…
* * *
У нас на крыше живут три вороны. Две – полные дуры, а одна умная. Первая из дур все время хочет сесть на телевизионный провод от антенны. Она на него садится и тут же падает, висит какое-то время вниз головой, уцепившись за него лапами, и хлопает крыльями. Это ей не помогает, и она шлепается на крышу, потом она думает полминуты и опять вспрыгивает на провод – прыг! – и опять повисла.
Другая дура все время пытается развязать какой-то узел на этой антенне.
Третья, умная ворона, на них даже не смотрит, но по ее команде: «Карррр!» – они срываются с места и улетают.
* * *
Люблю я русские народные сказки. Работает там только Серый Волк, а Иван Царевич – это полный идиот. Даже Сивка-Бурка гораздо умнее его. Ему говорят: не трогай клетки, так он обязательно тронет. Ему говорят: не целуй спящую царевну – он ее целует, та просыпается, и начинается тарарам. А потом Серый Волк идет к царю Берендею и все за этого придурка улаживает, после чего царь Берендей дает ему молодильных яблок.
А Василиса Прекрасная там просто для мебели – ее в ходе сказки куда-то все время передвигают.
* * *
Трудно видеть, как стареют друзья. Они прежде всего перестают умнеть. Это все равно как видеть, что рядом с тобой взрослеет твоя любимая собака.
А потом она дряхлеет, и ты уже ничего не можешь сделать.
* * *
Видел сон, как мы с Натой едем в Мадрид. Мы бежим по бесконечным переходам к поезду. Почему-то надо бежать, а я тащу огромный чемодан. Потом Ната убегает вперед, а ее место рядом со мной занимает какой-то мужик, который непрерывно говорит, и я понимаю, что я опаздываю на поезд. Значит, надо ехать на такси и догонять.
«На Мадрид! На Мадрид!» – бьется у меня в голове.
Я проснулся совершенно счастливым.
* * *
Мы во французском Диснейленде. Сашка, Ната и я. Там много чего, в том числе и домашние животные. За забором стоит печальная корова. Она прислонена к ограде. Она поставлена тут специально – дети ее гладят. У нее от этого вся шерсть на боку стерта.
Сашка ее тоже погладил, а потом достал кусок хлеба (он заставил нас купить ему черный хлеб, всюду ходил и его жевал) и угостил им корову. С коровой что-то немедленно произошло. Корова раскрыла свои сонные глаза, повернулась к нему и быстро схрумкала протянутый хлеб.
Потом она облизала Сашке лицо. Как собака.
* * *
Прочитал: «Дождь шел сильно, лило не по-детски». Интересно, как это? Я правильно понял, что по-детски – только одинокой, хлипкой струйкой?
* * *
У детей нет национальности. Дети не различают друг друга по цвету кожи. Если они уже различают, то они уже не дети.
* * *
Это было лет семь назад. Мы встречали Эрика в морском порту. Мы – я и мой брат Сережа на своих белых «Жигулях» самой модной лет двадцать назад модели.
Эрик– шведский издатель философской литературы, огромного роста, большой любитель виски и Достоевского. Как раз к Достоевскому мы его и повезем. Там нас будет ждать Коля, который все знает про Раскольникова, старушку и топор.
Видите ли, не только шведы просят нас показать им то место, где у Достоевского тюкнули старушку, нас об этом просили и голландцы, и норвежцы. Так что у нас все отработано: Коля стоит наготове и держит тот самый топор. А еще он покажет тот самый дом, где все и происходило.
Эрик уже выпил своего виски, так что в Серегины «Жигули» он влезает с трудом.
– Ретро? – спрашивает он, имея в виду возраст «Жигулей». Эрик неплохо говорит по-русски.
– Еще какое! – говорю ему я.
Сереге несколько раз предлагали поменять на иномарку, но он отказывается. Привык. Да и стоит сегодня такой образец до десяти тысяч долларов. – Серега кивает. Ему это все нравится. Эрик кивает тоже. Он любит старину.
Сцепление в нашем ветеране совершенно неубиваемое и переключается оно с жутким скрежетом. Эрик кивает еще раз, мол, уважаю, и мы трогаемся.
Едем мы с Васильевского острова, Эрик глазеет по сторонам – он в Питере впервые.
Через несколько минут он спрашивает:
– У вас сейсмоопасная зона?
– Что? – не понял я, и Эрик мне тычет в ямы на шоссе.
Нам не везет, дорога как после бомбежки. Всюду ямы и лопнувший асфальт. Надо что-то говорить о великом городе, я не знаю что, но тут меня понесло.
– Да! – говорю. – Очень сейсмоопасная. Всюду же болота, а они когда подсыхают, то уровень воды понижается, образуются пустоты и, как только происходят небольшие толчки, так и лопается асфальт.
– А часто трясет?
– Почти каждый день! (Меня теперь не остановить.)
Мы не проехали и пятисот метров, как натыкаемся на настоящую аварию: прямо посреди дороги из ямы провалившегося асфальта бьет вверх фонтан горячей воды, вокруг суетятся какие-то люди, милиция огораживает это место, мы сворачиваем.
– Гейзер? – спрашивает Эрик.
– Ну! – говорю я. – Разлом в тектонических плитах. А магма поднимается снизу и встречается с нашими плывунами. У нас тут плывуны. Воды под замлей много. Когда магма натыкается на плывун, вода вскипает и устремляется наверх. Вот и получается гейзер.
– Я видел такие в Исландии! – не унимается Эрик.
– Абсолютно такие же!
– Вы можете отапливать этим дома.
– Можем. Но пока отапливаем только улицы.
Свернули, слава тебе господи!
Вдоль бордюра какие-то уроды выстроили двадцать пивных бутылок– до мусорки им, видно, было не донести!
– А это что? – интересуется Эрик.
– Это у нас акция в городе проходит, – говорю ему важно. – Сбор бутылок. Их вот так ставят, а потом едет специальная машина и собирает.
– Две машины, – вступает в разговор мой молчаливый брат Сережа, ему, видимо, хочется мне помочь. – Одна собирает светлые бутылки, а другая – темные.
Эрик понимающе кивает. А жара в Питере стоит великая, на небе ни облачка, Серега давно открыл окна, но все равно жарко. И пыль столбом.
– Очень пыльно, – замечает Эрик. А тут я говорю:
– А это не наша пыль!
– То есть?
– Это пыль с Аравийского полуострова! Даже Серега обернулся на меня с уважением.
– Видишь ли, Питер же город особенный, и лежит он в особенном месте. Здесь роза ветров (да прости мне эта роза), уложена так, что образуется коридор, по которому при высокой температуре воздуха до нас доходят самумы из Аравии!
Эрик слушает с возрастающим интересом.
И вот мы сворачиваем на улочку, и сразу за поворотом видим, как из ближайшего подвала валит пар, а вся стена самого здания – будто осколками побита.
– Гейзер? – замечает Эрик.
– Нет! – отвечаю я. – Эта сторона улицы особенно опасна при артобстреле. В Питере еще с войны осталось много снарядов. Вот они и летают иногда. Самопроизвольно.
Серега чуть не пропустил поворот. Он уже не может. Давится.
Эрик смотрит на меня долго, потом говорит:
– Юмор, Саша?
– Конечно юмор! – говорю ему я.
А вот мы уже и по Невскому едем.
Скоро и до Достоевского доберемся.
Там нас уже заждался наш Коля.
С топором от Раскольникова.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.