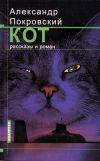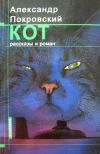Текст книги "Бортовой журнал 2"

Автор книги: Александр Покровский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Тетя Нина скончалась в восемь часов вечера – нам позвонили из реанимации. Я не мог говорить. Ната зарыдала навзрыд. Сашка в это время сидел в своей комнате и не слышал всего. Я зашел и сказал ему прямо в затылок: «Твоя бабушка умерла! Иди успокой мать!»
Он не пошевелился. Я тогда еще подумал: «Бесчувственные они люди, молодежь! Бабушка его на руках носила, столько любви, а тут – молчит!»
Потом я еще раз зашел к нему. Сашка не шевелился. Все смотрел в свой монитор компьютера. По щекам у него текли слезы. Ручьями. Он сидел не шевелясь. Минут тридцать.
Ната лежала на кровати, кровать ходуном ходила.
Я пошел на кухню. Там я вдруг затрясся весь, потом изо рта вырвались какие-то звуки – что-то похожее на то, что не хватает воздуха, какое-то жуткое мяуканье, что ли.
Никто не должен видеть меня, никто! Не сейчас! Не сейчас! Я приду в себя. Все будет хорошо. Я сильный. Я очень сильный. Это бывает. Со всеми. Вот и со мной. Ничего. Я справлюсь.
Сашка пошел мыться в ванную. Мы старались с ним не попадаться друг другу на пути.
А врачам, друзьям из Мариинской, я больше не звонил.
Все. Нет друзей.
* * *
– Хорошо, деда, хорошо!
Дед после инсульта учится ходить. У него отнялись левая рука и нога. Теперь приходит в норму, но очень медленно.
– Давай еще раз, дядя Саша, ходить надо! Все время ходить. И руку разрабатывай! Вот это кольцо резиновое все время сжимай!
А еще деду вырвали все зубы. Вернее, то, что от них осталось, – там одни корни гнилые. Надо делать протез. Дед терпел. Он терпеливый.
Дед всю жизнь работал, стоял у станка. Он не понимает, как это – ничего не делать?
Все время теперь сидит перед телевизором. Или ходит по квартире, тренирует ногу. Дед упорный, но иногда сидит и плачет – сразу стал немощным. В один раз.
Он очень крепкий мужик, но и крепким достается. То, что плачет, – это ничего. Это бывает. Он придет в себя. Просто одиноко. Он один в квартире. Мы – только наездами. Он целый день один.
– Деда! – звоню ему. – Ты руку тренируешь?
– Да!
– Давай, не забывай, ладно?
– Ладно!
При встрече он всегда мне левой рукой сжимает мою руку:
– Ну как? Крепче стала?
Руки у деда всегда были железные. Он возился с железом. С четырнадцати лет. В войну точил снаряды. Ему ставили ящик, он на него становился и точил.
Я жму руку. Она еще только-только начала сжимать.
– Отлично, деда! – говорю я – Молодец! Какой ты молодец! Правильно! Жми! Ты только захоти, и все получится. Видишь, какой ты молодец?
Дед улыбается.
– Сильно жму?
– Очень! Молодец!
Дед видит, что я вру, но ему приятно, и он снова берется за резиновое кольцо.
* * *
В историю я не верю. То есть я не верю в то, что ее потом точно записали в нужные скрижали. Почему? Потому что я же вижу, что у нас за окнами делается. Делается одно, записывается другое. И времена здесь ни при чем. Времена всегда одинаковые.
Я верю в захоронения и выгребные ямы. Захоронения – это здорово. Разрыли курган номер пять – а там князь-солнышко целиком лежит. И с ним – парочка жен, чтоб скуку, значит, в преисподней разгонять, и парочка слуг – почему-то считалось, что и на том свете князь станет гадить точно так же, как и на этом, и потому нужны те, кто из-под него горшки вынесет.
И выгребные ямы – это тоже здорово. Они потом культурным слоем становятся. И уж в этом культурном слое не только черепки, но и сережки имеются, что в нечистоты свалились и их потом вместе с ними и вынесли.
* * *
Как это не было Куликовой битвы – потому что не обнаружено массового захоронения? Отцы родные, а как же это: «...о поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»
Битва была, а вот захоронения, может, и не было. А зачем хоронить? Мечи, в землю воткнутые, щиты да кольчуги – они только на картине Васнецова очень сильно задержались – а так их расхищали с поля битвы в один миг.
Потому что они денег очень больших стоили. В ту же кучу шли и шлемы, и сбруя с коней, и прочее, и прочее. Все, что можно продать, стаскивалось с покойничков в одно мгновение.
И кафтаны, и сапоги, и рубахи нательные. Конечно! Все шло в дело – где халат под родившегося жеребенка подостлать, где рубаху под ягнят подстелить. То есть после сражения, через пять минут, на поле уже одни голые покойнички лежали.
А мясо в те времена не пропадало – волки, собаки, вороны, стервятники.
А кости потом сгребали куда-нибудь да и жгли – отличное, кстати, удобрение.
Так что Куликовская битва была, а вот захоронение – это дело расточительное.
Не викинги, чай, рода княжеского.
* * *
Кстати, о Куликовском сражении. Мне больше всего нравится версия о том, что оппозиционер Мамай собрался сковырнуть Тохтамыша и пошел на него силой великою.
А Тохтамыш, пока ждал подхода орды из Сибири, повелел Москве как одному из улусов Золотой Орды выступить пока что навстречу Мамаю, что они и сделали и, к своему удивлению, разбабахали Мамая так, что и сибирской орды не потребовалось.
После чего московский улус, задолжавший, кстати, Тохтамышу дань за несколько лет, решил эту дань вообще не платить, и Тохтамышу ничего не оставалось, как расплатиться с подошедшей сибирской ордой долгом Москвы, мол, денежки-то там. Те пришли и сожгли Москву (деревянную, холопскую – князья-то добро свое вовремя вывезли).
То есть денег не получил от Москвы никто. Так Москва и богатела. Сокрытием налогов.
А там и Тимур подоспел. В 1391 году трехсоттысячное войско Тимура расколотило трехсоттысячное войско Тохтамыша. Наголову. Тут игу-то монголо-татарскому и пришел конец.
Так что настоящий избавитель Руси от ига – Тимур.
Вот интересно, а где ему у нас памятник стоит?
* * *
Какие песни пели в моем детстве? Русские, конечно. Бабушка-армянка отлично знала несколько языков, в том числе и русский. Бабушка пела русские народные. Она много пела, романсы любила, но я запомнил только «Ой, полна, полна моя коробушка, есть и ситец, и парча.»
У бабушки был хороший голос. Она пела – мы сидели, слушали, смеялись. Она не пела серьезно. Она пела весело. Оттого и смеялись. Она пела, потом говорила: «Ой, забыла куплет!» – и потом опять пела. А мы хохотали, катались по полу. Нам было смешно. И бабушка смеялась вместе с нами.
И мама тоже пела, но это были уже другие песни – «Каховка» и прочие.
«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…» – вот это я никак не мог понять, почему обязательно «в другую сторону»? Или: «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой…»– почему смерти, зачем смерти? Ничего себе! А другого ничего пожелать нельзя? Кажется, это стихи Демьяна Бедного. Он такой был бедный, просто бедный, бедный, «дажэ кущать не мог»!
Или песня про Щорса: «Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве..» – а я все думал: «Ничего себе, сколько же в нем крови! Это ж километрами только «след кровавый стелется», а он все едет и едет! Все несет и несет. Цистерну крови с собой тащит», – и в конце он должен был сдохнуть, по моему разумению (или Щорс, или конь).
* * *
Все живое и неживое проходит стадии рождения, созревания, зрелости, старости, смерти.
И народы, как говорил Гумилев, не исключение.
Чингисхан – это, как мне помнится, вовсе не имя. Это звание. Самим человеком себе же и присвоенное. Означает оно что-то вроде «верховный хан». Они шли, как лемминги, собирая по дороге других леммингов. Вечная война кочевников с земледельцами. Кочевники очень мобильны. Еда (сушеное мясо) всегда с собой, вода в речках, корм коням под ногами, оружие на себе. Очень четкая организация войска, замешанная на немедленной смерти ослушникам. Их была тьма. Они пожирали пространства. Как только они осели – они стали уязвимы. Точно так же как и земледельцы. Одно дело налетел, ограбил, убежал, а другое дело – сидишь и ждешь нападения. Конечно, нападающий несет большие потери. По иным данным, разница от двух до десяти раз. Но если у тебя людей немерено, то и это преодолимо. Так что Чингисхан шел. Остановился – проиграл. Тому, кто за ним пошел. Тамерлану, например.
Конечно, он оказал влияние на Русь.
Все оказали влияние на Русь – викинги-обры-литовцы-поляки-турки-шведы-немцы-фашисты – все. А Чингисхан – особенно. И Чингисхан, и Угедей, и Мамай, и Тохтамыш, и все прочие. Это как в организме человека – если б на печень не давили соседние органы, то она бы разрослась так, что человек состоял бы из одной только печени. Только в споре с соседями, только в общежитии с ними же и получается человеческий организм – собрание взаимозависимых органов. Все влияют на всех.
Золотая Орда позволила вызреть Московской Руси. Бесспорно.
И никаким человеколюбом Чингисхан не был.
Время человеколюбов не наступило и по сей день.
Просто в те времена гораздо легче резали людям головы.
Очень действенная методика.
* * *
Что касается того, что монголы церкви и христианство не трогали, так сначала вроде как трогали, а потом перестали. Все боятся чужих богов. И потом – управлять народом легче: с попами договорись, а они договорятся с прихожанами.
* * *
Прибежали с работы, сели за стол картошку кушать и включили телевизор. Мы всегда в это время смотрим новости по «Вестям», чтоб быть в курсе, в какой стране мы все еще живем.
Только включили, как дикторша с глубоким внутренним вздохом говорит: «Путин в Коми». Звучит это в ее исполнении, как «Путин в коме».
У нас даже картошка из ртов повываливалась. Потом мы поняли, что речь идет о республике.
Я немедленно позвонил всем: «Путин в коме. Только что по телику передали!» А хорошо чувствовать, что не только у тебя изо рта все упало. А славно, когда все мы, все вместе, одно и то же чувствуем.
Потом я добавил: «Он в Республике Коми. Просто девушка не удосужилась Коми республикой назвать!» – и сразу же на том конце: «Фу, блин! Ну ты и пошутил! Сейчас позвоню всем, чего я, самый последний, что ли!»
* * *
Теперь возродят институт замполитов. Они будут называться «воспитатели и психологи». Первый же будущий замполит на вопрос о дедовщине в армии посетовал на отсутствие гауптвахты. То есть без тюрьмы воспитать никого невозможно.
Да нас один вид нашего командира воспитывал. Такой жуткой силы был этот человек. И не физической. Духовной. Помню, как я удивился, впервые увидев его руки. Руки как руки, маленькие такие, а вот мне почему-то казалось, что у него огромные кулаки.
Он нам говорил, что надо вырабатывать командный голос. Голос у него действительно был очень сильный.
«Надо встать подальше от строя и командовать так, чтоб вас все слышали!» – говорил он.
На разнос к нему лучше было не попадать. Он нервничал, у него дергалось все лицо, голос звенел, но. ни одного бранного слова в твой адрес, ни одного взмаха руками.
Случалось, что он матерился, но это не относилось к конкретному человеку, это имело отношение к ситуации, и случалось это так редко, что после этого хотелось только взлететь.
На строевых – всегда подтянут, все приемы выполняет как по струночке. По тревогам – бежит вместе с нами.
Никто никогда не сомневался, что он все всегда делает лучше всех. Никто и никогда.
Мы его жутко боялись и одновременно гордились им. Когда у нас спрашивали: «Как вы с ним служите? Он же ненормальный!» – мы надувались от важности и отвечали: «И не говорите! Мучаемся! А что делать?»
На втором курсе полгода готовились к московскому параду. По шесть часов в день строевые на плацу с карабином. Хождение по кругу – карабин на согнутой левой руке. Рука отваливалась. Тогда-то я и понял, что такое строевые занятия на месте и в движении.
Потом, на флоте, я парочку раз устраивал некоторым строевые занятия. Брался разгильдяй, по которому гауптвахта плакала, и ему говорилось: «Вы нарушили воинскую дисциплину. У вас слаба строевая подготовка. Назначаю вам дополнительные строевые занятия. Тема занятий: строевые приемы на месте и в движении. Место – плац. Руководитель – я!»
И только во время, отведенное распорядком дня, – с ним на плац.
Мороз под тридцать, ветер, а ты его в казарме одеваешь потеплее, проверяешь наличие теплых носков и кальсон, и на плац – а все в казарме смотрят на все это дело в окошко.
И сорок пять минут. Никаких поблажек ни себе, ни ему. Ножку на весу я держать умею и носок тянуть умею. Так что кто кого передержит – это даже не вопрос. Через десять минут он ходил вместе со мной по плацу только строевым. Он потом еще сутки вскакивал и принимал стойку «смирно», если я входил в кубрик. Причем он делал это рефлекторно.
А какое впечатление производила на испытуемого фраза: «Товарищ матрос!» – у него сразу спина выпрямлялась.
В наше время считалось, что если ты посадил человека на гауптвахту, то грош тебе цена, поскольку ты с ним не справился. А если не справился с ним с помощью только одного устава, то какой же ты, к чертовой матери, командир?
Все зависит от командира. Абсолютно все.
А теперь какие у нас командиры? Получил письмо от одного своего товарища. Он переслал мне письмо своего друга. Тот служил на тех же лодках, что и я в Гаджиево.
Вот выдержки: «На столетие подводного флота познакомился с нашим выпускником 2000 года. Послушал его с ужасом. Не наш человек по психологии! Как же надо так опустить тех, кто должен сидеть в прочном корпусе? Вот смотри, когда они учились в системе, то всячески скрывали свою принадлежность к подплаву, придумывали версии, что они секретные сотрудники ФСБ, потому что если девки узнавали, что они подводники, то даже бомжихи-лимичитцы убегали. Еще: они мусор выкидывали из казармы на улицу. Я сказал, что нормальные офицеры, будучи курсантами, мусор из окон гальюнов на улицу не выбрасывают, на что получил ответ, что это минеры и штурмана выбрасывали мусор на улицу, а «приличные» ракетчики только во внутренние дворы…
Предыстория такова – я зашел в гальюн, а там не только стекол, но и рам нет. Я спросил, почему это у них так, на что мне ответили, что курсантам лень выносить мусор, они сначала открывали окна, затем выбили стекла, когда окна забили, а потом вырвали рамы, когда окна забили досками…
Во время службы этот выпускник ни разу (за 4 года на Камчатке) не получал РБ (рабочее платье) и тапочки (покупал в магазине), 5 дней (за 4 года в линейном (!!!) экипаже) был в море, а что такое морской паек – слышал по рассказам, из мяса только тушенка, да и та просроченная. И главное: командир БЧ-2 прилюдно бил морду СПК (старпому) за то, что тот поставил его в новогодний наряд. Вот такие у нас командиры БЧ-2! А во время ссоры этого выпускника образца 2000 года с коллегами два старлея его держали, а третий прижигал ему рожу окурками…
Там еще были разные истории, но от ужаса я их тут же забыл…
Такую «офицерскую» службу я себе не представляю…
Это, блядь, пиздец, приехали!..»
* * *
«Если же, вы, дорогая Эмили, запасетесь терпением и снисходительностью на мой счет, то я расскажу вам, каково это кататься на коньках против ветра во Фландрии. Нет, нет, нет! Я не родился в этой шелудивой, злосчастной стране. Я родился в другой стране, почти столь же злосчастной и шелудивой. Но я уверен, что катание на коньках против ветра имеет во всяком месте общие, незабываемые черты. Почему же я подумал о Фландрии? Хороший вопрос! Я подумал о ней, потому что некие классики именно там и подхватывали скарлатину уже в зрелом возрасте.
Так вот, о коньках. Стоя на этом сложном для ходьбы инструменте, вы хотите сохранить равновесие и в это мгновение, совершенно непроизвольно, открываете свой рот. И что же? Он надувается случившимся порывом ветра. После этого вы уже не занимаетесь сохранением равновесия, вы увлечены только тем, что всеми силами пытаетесь освободиться от такого количества попавшего в вас воздуха. Каков же результат? Результат всегда таков: ноги ваши взлетают выше головы, а тем, к чему они почти у всех нас крепятся, вы с неистовой мощью впечатываетесь в оледенелую твердь. И что же ветер, успевший до этого наполнить воздушными массами ваше существо? Он стихает чудеснейшим образом, а лишний дух покидает ваш рот и грудь.
Через естественные дырочки.
Не кажется ли вам, что я злоупотребил вашим терпением, и все, что здесь сказано, величайшая чушь? Но сознайтесь, что читать это вам было весело.
Засим остаюсь, всегда ваш,
Сомерсет Моэм»
* * *
Умерла Ольга Ивановна Глебова. Вдова моего начальника училища – Глебова Евгения Павловича. Маленькая такая старушечка. Близкие ее называли Бубенчиком.
Она была трогательна и строга. Ей понравилось то, что я написал о Евгении Павловиче в «Системе». Их дочь, Наталья, нашла меня через кучу приятелей, и мы перезнакомились, подружились. Ольга Ивановна говорила, что она знает наизусть пятую главу этого сочинения. На той встрече она сильно волновалась, и голос ее немного дрожал. Она все говорила про Глебова и говорила. Что-то не очень значительное, из чего потом составляется жизнь.
Она его очень любила, своего Глебова, очень гордилась им, а сама всегда была на вторых ролях, никому не перечила.
На поминки пригласили близких, друзей, соседей, садовников, врачей. Все хорошо говорили.
Теперь они будут лежать вместе. В одной могиле. Огромный Глебов и его маленькая жена.
* * *
Мы их можем только любить. И больше ничего. Даже если кирпичи с неба падают, на манер дождя. Вот они падают на твоих глазах, а ты что бы ни говорил – все мимо ушей. Думаю, у Бога с человеком такие же проблемы. То есть родители, все абсолютно, немножко боги. Они могут только наблюдать и любить. И хорошо, если их в ответ тоже полюбят.
* * *
Гантман Александр Иосифович (наш большой книготорговец) рассказал мне анекдот. На корабле в открытом море капитан встречает незнакомого человека и спрашивает у него: «Вы боцман или лоцман?» – «Я – Коцман!» – отвечает тот.
Я рассказал анекдот Нате. Она смеялась, и на следующий день она рассказала его в своем отделе, но там никто даже не улыбнулся.
«Что-то с этим анекдотом не так, – говорила мне она потом, – мне он показался смешным, а наши – даже не улыбнулись!»
Потом она рассказала его мне: капитан спрашивает у незнакомца в море: «Вы лоцман или боцман?» – «Я – Гантман!» – отвечает тот.
После этого я позвонил Александру Иосифовичу и рассказал ему его анекдот еще раз.
* * *
Вчера участвовал в сцене. У нас на улице Большой Зелениной множество всяких дорожных знаков, и все время появляются новые. В основном – против автомобилистов. Есть один очень подлый знак: «Остановка запрещена, эвакуатор». Он висит рядом с автобусной остановкой, и его не видно подъезжающим – он повернут в другую сторону; и вроде как он для тех, кто едет навстречу, а тот, что для этой стороны, – он на перекрестке установлен, но там он висит так, что переезжающие его тоже не замечают, потому что перекресток очень сложный и всем хочется его побыстрее миновать, так что на знаки смотреть некогда.
Вот эвакуаторы и собирают каждый день знатный урожай.
Об этих подлых знаках знают только местные – так что случайно остановившиеся попадаются.
Вчера идем с Натой, а эвакуатор забирает черную «Тойоту», и рядом мечется молодая женщина вся в слезах и умоляет не забирать ее машину, потому что у нее ребенок болеет, и она остановилась, только чтоб зайти в аптеку. Зрелище поганое – женщина плачет, руки у нее дрожат, она уже лишена всяких признаков человеческого достоинства.
Мы, конечно, остановились, и я сказал милиционеру, что он не имеет права забирать машину в присутствии владельца – это противозаконно. Он может только выписать счет за неправильную парковку. Все остальное – нарушение закона. Я еще много чего сказал о Конституции, о праве на частную собственность и о том, что милиция должна защищать граждан, а не ненавидеть их за то, что они ездят на дорогих иномарках.
А милиционер сказал, что я мешаю ему выполнять его долг, и он сейчас заберет меня в отделение. А я сказал ему, что он сейчас выполняет не долг перед народом, а нарушает закон, и я ему об этом говорю. Кроме того, он провоцирует меня на вмешательство, угрожает мне и тем самым превышает свои служебные полномочия.
В общем, они отпустили девушку, она никак не могла вставить ключ в машину, Ната дала ей валидол.
Я потом ночью плохо спал.
* * *
У Сашки одиннадцать хвостов. Они еще с первого курса тянутся. Я когда узнал, у меня просто руки опустились. Как же так? Я столько старался, а оно все время идет прахом. Что они за люди? Глаза не горят, жить отдельно не могут и не взрослеют, хоть ты тресни.
Не будет учиться – попадет в армию. А это не та армия, что мы когда-то все служили, это жертвенник. Там каждый день осуществляются жертвоприношения. Кровь пускают.
И вот его туда? Таким неприспособленным?
Мой опыт не нужен, своего получать не хотят. А вокруг – садок с крокодилами.
Мне было очень плохо. Я сидел, и такая тяжесть вдруг навалилась со всех сторон – руки не поднять. О Господи! Может, это мне испытание такое, а? Может, я должен что-то в этой жизни понять? А что я должен понять, а, Господи? Хоть бы намек какой, маленький!
Через некоторое время я начал сам себя уговаривать: «Давай так, он не дебил – это уже хорошо. Это прекрасно. Это здорово. Не наркоман – просто отлично. Он не болен неизлечимо – еще одна удача. Ну, медленно развивается ум. Ну и что? Сейчас он развивается медленно. Да. Что еще ты можешь сделать? Ты можешь только наблюдать. Только смотреть. Вмешиваешься – скандал, сердце рвешь. Ты думаешь, он хоть один раз уронит слезу? Нет, он перешагнет через тебя и пойдет дальше. Ему же ничего не надо. Твоего – ничего. Отлично! Отлично я себя утешил. Так! Давай еще раз. Он – не урод…»
Так я сидел довольно долго. Потом пришел Санька– шумный, голодный:
– Привет, ты дома? Как дела?» – сел есть. Ест жадно, много.
– Саня, как успехи? Сдаешь хвосты?
– Сдаю. Все хорошо.
– Посуду помоешь?
– Да, оставь в раковине!
Так и не помыл посуду.
Что тут сказать.
* * *
Почтительнейший из соотечественников, виновный лишь только в избытке изящества, подаренного природой и предками, целиком поглощенный не столько собой, сколько течением обыденности, ошеломительный в желаниях и поступках. Словом, пепел и алмаз.
Именно в таких выражениях я хотел бы описать одного своего современника, имеющего отношение к сохранению и приумножению наших ценностей, на букву «П».
Но что он говорит о детях своих? Но как он о них говорит? Ведь что все эти вазы и картины, как не дети его? Ужас! Вчерашняя газета. Невероятная скука. Чудовище под видом красавицы! Нет! Не могу! Пойду упьюсь вина дешевого, рыгая и бурля!
* * *
Мне недавно рассказали историю обо мне. Как-то я пришел к своему другу. Был я в форме и прямо с корабля, а там было веселье в самом разгаре. Взрослые, в основном дамы, уже были расслаблены, всюду вино, а дети бегали друг за другом и орали. Мам это волновало уже очень слабо, потому что бокалы с вином то и дело подносились ко рту. Я спросил, не пробовал ли кто-нибудь успокоить детей? Мне сказали: вот и успокой их. Я пошел и немедленно всех построил, потом я назначил им командира (самого горластого и сильного), потом я провел с командиром инструктаж, я сказал, что командир должен заботится о своих подчиненных и следить за тем, чтоб никто не орал, потому что можно надорвать горло. Потом мы играли в засаду и ползали через минное поле. Ползти надо было молча, потому что за нами следил враг.
Пока народ полз до границы и обратно, я успел чего-то там съесть и спросить у милых дам: а чего это все дети до сих пор не спят? Мне сказали, что это невозможно сделать, дети заснут после часа ночи.
Тогда я объявил тому самому старшему, чтоб он собрал всех, потому что сейчас мы пойдем лежать в дозоре. Все дети отправились со мной в спальню, где мы улеглись на кроватях. Я сказал, что хорошо бы накрыться одеялами, потом – что так мы будем незаметны для врага. Потом я сказал, что лежать надо очень тихо и ни в коем случае не спать, так как именно через этот участок границы должен пройти вражеский караван. Пока они лежали, я рассказывал им о морях, об океанах, о пустынях, о горах.
Через пять минут я вернулся за стол, потому что к этому времени все их дети уже спокойно спали.
«Не может быть»! – сказали мамы, услышав, что все их королевство заснуло через пять минут.
Они по одной тихонечко заходили в комнату, чтоб самим убедиться.
Потом они приходили и говорили: «Вот это да!»
* * *
Саша Крыштоб говорил мне, что если на «Курске» открыта задняя крышка торпедного аппарата, то это может быть оттого, что они там стравливали кислород из торпеды. Перекись в торпеде выделяет кислород, и ее стравливают. Есть методика этого дела. И вот этот кислород (или перекись) мог попасть в торпедный аппарат. А там всюду смазка. От этого и мог возникнуть первый взрыв, потом пожар, огонь доходит до стеллажа с торпедами – и вот вам второй взрыв.
* * *
Чернобылю двадцать лет.
Я помню 26 апреля 1986 года. Через сутки я уже стоял на въезде в Северодвинск на пограничном посту и проверял всех въезжающих с радиометром. Просто входил в автобус и проходил с ним между рядами кресел, и иногда он показывал: есть. Тогда человека просили пройти на пост вместе с вещами.
А через двадцать лет я поехал в Киев на конференцию, посвященную этой дате. Я поехал вместе с Владимиром Степановичем Губаревым.
Он был главным редактором «Правды» по науке.
Когда-то он выучился на физика, а потом его прикомандировали к газете на некоторое время. Он тогда не знал на какое. Оказалось – на всю жизнь.
Он теперь на пенсии, пишет книги про ученых.
Он познакомил меня с Патоном.
Борис Евгеньевич Патон – сын того Патона, что поставил сварной мост через Днепр.
Ему восемьдесят семь лет, и он руководит не только институтом, но и Академией наук Украины. Одно время его считали ставленником Москвы, а в советские времена его наказывали – не награждали орденами.
Строптив был. Да он и сейчас строптив. Работает, работает, работает– ему некогда. Он уже почти не видит одним глазом – беда со зрением – но ум ясный. Тренировка. Он всегда тренировал свой ум.
В семьдесят шесть лет он сломал ногу, и врачи запретили ему кататься на водных лыжах. С тех пор он только плавает в бассейне.
Борис Евгеньевич Патон невысокого роста, худощавый.
Он может сварить все своими сварочными аппаратами. Даже живую ткань.
Когда он лежал в больнице со сломанной ногой, то он там придумал, как сваривать человеческую ткань. В его институте сварят что хотите, будь то печень, легкие или мышцы.
После торжественного собрания на фуршете Борис Евгеньевич произносит тосты. Тут все произносят тосты – все они были там, на Чернобыле, двадцать лет назад. Это самое главное для них время.
В одном тосте прозвучал упрек в адрес академиков Ильина и Израэля. Они работали на Чернобыле, но потом их объявили «персонами нон грата». Они обиделись и больше не приезжают. А ведь именно они не дали эвакуировать Киев. Губарев немедленно взял слово и напомнил всем об этом.
– Как же это, Владимир Степанович? – спросил я у него вполголоса.
– А так. Видно, надо было на кого-то все это свалить.
– А что же их Патон не защитил?
– А Патону самому тогда досталось.
А на следующий день мы были в музее Чернобыля. Он устроен в старом здании пожарной части: фотографии, вещи, рукава пожарные.
Первыми там были пожарные. Они поливали реактор сверху водой. Прямо в жерло лили, а потом еще час там стояли. Они получили по четыре тысячи рентген. Это просто сумасшествие какое-то. Неужели никто не понимал, что там стоять нельзя?
– В первое время никто ничего не понимал, а потом – паника, эвакуация людей. Многие умерли не от радиации. Просто от страха, от стресса. И четыре тысячи детей получили рак щитовидной железы. Не уберегли.
– И не спасли никого?
– Кого-то спасли.
Потом мы еще долго говорили с Владимиром Степановичем о будущем атомной энергетики, о реакторах, излучении. Интересно, будут ли у человечества когда-нибудь абсолютно безопасные реакторы?
Мирный атом всегда стоял на атомной бомбе– торопились, торопились, торопились…
В недрах каждого реактора созревал радиоактивный плутоний. Его должны были потом использовать в качестве «ядерного запала» для водородной бомбы.
Мысли о водородной бомбе все уже давно оставили, а вот оружейный плутоний по-прежнему зреет в каждом реакторе. Жутко ядовитая, между прочим, штука. Максимально допустимая концентрация (МДК) в одном кубометре воздуха – одна миллиардная грамма. Он опасней синильной кислоты в десять тысяч раз. Не дай бог, вырвется из реактора.
В Чернобыле это случилось.
А до этого было в бухте Чажма на Дальнем Востоке. Там при перегрузке запустился реактор и. его крышка потом взлетела вверх на полтора километра, а после этого еще и территорию основательно закакали.
В каждом реакторе давление около двухсот атмосфер и температура теплоносителя почти двести градусов, так что не приведи господи, если СУЗы (стержни управления и защиты) из-за ошибки оператора или недоработки конструкции в ненужный момент двинутся вверх. Или произойдет какой-то иной дефект специального уплотнения, через которое эти стержни выходят на крышку реактора.
Что же происходит в обычном, не аварийном реакторе? Уран-235, поймав нейтроны, начинает делится и. и потом отработанные стержни не знают куда девать. А жидкие радиоактивные отходы Великобритания и Франция долгие годы сливали в Северную Атлантику. Япония и США от них не отставали.
А Россия закачивала их под землю или тоже сливала в море.
К 2006 году из более чем четырехсот реакторов в мире выгружено 260 тысяч тонн отработанного ядерного топлива, а это более 150 миллиардов кюри радиоактивности. Из них 180 тысяч тонн – на хранение, а 80 – на переработку.
СССР за всю свою историю смог переработать только 10 тысяч тонн.
Кстати, в результате такой переработки получаются отнюдь не цветы. Из одной тонны получается: 45 тонн высокоактивных жидких отходов (из них потом упариванием, фракционированием и остекловыванием получают 7,5 тонн), 150 тонн жидких отходов средней активности и 2 тысячи тонн низкоактивных отходов. А потом – твердые запечатываем в гору, а жидкие, как уже сказано, сливаем в море – вот такая беда.
А хранение в специальных хранилищах? Хранят, конечно.
Отработанные стрежни хранят в специальных хранилищах. Пятьдесят лет.
Потом и хранилища придут в негодность, и стержни.
Это наш подарок следующим поколениям.
Вот если бы был выбран не уран-плутониевый цикл, а торий-урановый (торий-232 после захвата нейтрона испускает электрон и превращается в уран-233, который потом делится), то радиоизотопный шлейф за ним тянулся бы не такой длинный и возни с ним было бы поменьше.
Но тогда не было бы оружейного плутония.
* * *
У меня была когда-то дача, где я пытался воспитывать своих соседей по участку, которые постоянно жгли мусор. В первую очередь – отжившую свое пленку с парников. Я им объяснял: ребята, вы же даже не в курсе, что вы все время палите – то ли полиэтилен, то ли полихлорвинил. И потом – это же совершенно другая структура. Когда вы жжете, образуется, мягко говоря, непонятно что, которое к тому же еще и воняет ужасно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.