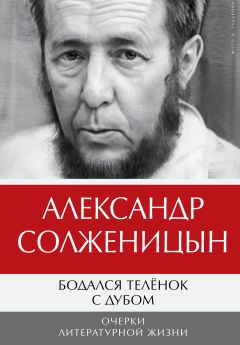
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Кажется, первый раз, – первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю. Я избрал читать из «Круга» главы о разоблачении стукачей («родина должна знать своих стукачей»), о ничтожестве и дутости таинственных оперуполномоченных. Почти каждая реплика сгорает по залу как порох! Как эти люди истосковались по правде! Боже мой, как им нужна правда! Записка: объясните вашу фразу из прочтённой главы, что «Сталин не допустил Красного Креста к советским военнопленным». Современникам и участникам всеохватной несчастной войны – им не дано ведь даже о ней знать как следует. В какой камере какая тупая голова этого не усвоила? – а вот сидит полтысячи развитейших гуманитариев, и им знать не дано. Извольте, товарищи, охотно, эта история, к сожалению, малоизвестна. По решению Сталина министр иностранных дел Молотов отказался поставить советскую подпись под Женевской конвенцией о военнопленных и делать уплаты в международный Красный Крест. Поэтому наши были единственные в мире военнопленные, покинутые своей родиной, единственные, обречённые погибнуть от голода на немецкой баланде…[24]24
В очередном «ответе» Семичастный заявит, что я клеветал, будто мы морили с голоду немецких военнопленных.
[Закрыть]
О, я кажется уже начинаю любить это своё новое положение, после провала моего архива! это открытое и гордое противостояние, это признанное право на собственную мысль! Мне, пожалуй, было бы уже и тяжело, уже почти невозможно вернуться к прежней тихости. Теперь-то мне открылся высший и тайный смысл того горя, которому я не находил оправдания, того швырка от Верховного Разума, которого нельзя предвидеть нам, маленьким: для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаянья я начал говорить и действовать.
Ибо – подошли сроки…
Я начал эти очерки с воспоминания, как становишься из обывателя подпольщиком, – зацепка за зацепочкой, незаметно до какой-то утренней пробудки: э-э, да я уже… И так же, благодаря своему горькому провалу, подведшему меня на грань ареста или самоубийства, и потом стежок за стежком, квант за квантом, от недели к неделе, от месяца к месяцу, осознавая, осознавая, осознавая, – счастлив, кто мог бы быстрей понять небесный шифр, я – медленно, я – долго, – но однажды утром проснулся и я свободным человеком в свободной стране!!!
* * *
Так ударил я в гонг своим вторым выступлением, вызывая на бой, будто теперь только и буду, что выступать, – и в тех же днях без следа, хоть и не сбрив бороды в этот раз, нырнул опять в своё далёкое Укрывище, в глушь – работать! работать! – потому что сроки подошли, да я не готов к ним, я ещё не выполнил своего долга.
Я рассчитывал, что всем переполохом три месяца покоя себе обезпечил, до весны. Так и вышло. За декабрь-февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» – с допиской, переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 81 день – ещё и болея, и печи топя, и готовя сам. Это – не я сделал, это – ведено было моею рукой!
Но и рассчитано у меня было, что на Новый, 1967 год ещё одна гранатка взорвётся – моё первое интервью японскому корреспонденту Седзе Комото. Он взял его в середине ноября, должен был опубликовать на Новый год, – однако шли дни января, а транзистор в моей занесенной берлоге ни по одной из станций – ни по само́й японской, которая на диво была слышна, ни по западным, ни даже по «Свободе» – не откликался на это интервью.
В ноябре оно совершилось экспромтом и по официальным меркам – нагло. Существовали какие-то разработанные порядки, обязательные и для иностранных корреспондентов, если они не хотят лишиться московского места, и уж тем более для советских граждан. Писатели должны иметь согласие Иностранной комиссии СП (все «иностранные отделы» всех учреждений – филиалы КГБ). Я этих порядков не узнавал в своё время, а теперь и вовсе знать не хотел. Моя новая роль состояла в экстерриториальности и безнаказанности.
С. Комото обычным образом послал просьбу об интервью – мне, а копию – в Иностранную комиссию. Там и безпокоиться не стали: ведь я же давно от всяких интервью отказался. А я – я того и хотел уже больше года, с самого провала: высказать в интервью, что делается со мной. И вот она была, внезапная помощь: японский корреспондент (вроде и не криминальный западный, а вместе с тем вполне западный) просил меня письменно ответить на пять вопросов, если я не захочу встретиться лично. Он давал свой московский адрес и телефон. Даже только эти пять вопросов меня вполне устраивали: там уже был вопрос о «Раковом корпусе» (значит, слух достаточно разнёсся) и был вопрос о моих «творческих планах». Я подготовил письменный ответ [cм. Приложение 1[25]25
Далее в квадратных скобках – ссылки на номера Приложений. – Примеч. ред.
[Закрыть] ]. Всё же идти на полный взрыв – объявлять всему миру, что у меня арестованы роман и архив, я не решился. (А вот поставил Твардовскому в упрёк, что он не объявил о том в Париже?) Но перечислил несколько своих произведений и написал, что не могу найти издателя для них. Если этого автора три года назад рвали из рук и издавали на всех языках, а сейчас он у себя на родине «не может найти издателя», то неужели что-нибудь ещё останется неясно?
Но как передать ответ корреспонденту? Послать по почте? – наверняка перехватят, и я даже знать не буду, что не дошло. Просить кого-нибудь из друзей пойти бросить письмо в его почтовый ящик на лестнице? – наверняка в их особом доме слежка в подъезде и фотографирование (я ещё не знал: милиция, и вообще не пускают к дому). Значит, надо встретиться, а уже если встретиться, так отчего не дать и устного интервью? Но где же встретиться? В Рязань его не пустят, в Москве я не могу ничью частную квартиру поставить под удар. И я избрал самый наглый вариант: в Центральном Доме Литератора! В день обсуждения там «Ракового корпуса», достаточно оглядя помещения, я из автомата позвонил японцу и предложил ему интервью завтра в полдень в ЦДЛ. Такое приглашение очень официально звучало, вероятно он думал, что я всё согласовал, где полагается. Он позвонил своей переводчице (проверенной, конечно, в ГБ), та – заказала в АПН фотографа для съёмки интервью в ЦДЛ, это тоже очень официально звучало, не могло и у АПН возникнуть сомнения.
Я пришёл в ЦДЛ на полчаса раньше назначенного. Был будний день, из писателей – никого, вчерашнего оживления и строгостей – ни следа, рабочие носили стулья через распахнутые внешние двери. Вместо чёрного японца вошла беленькая русская девушка и направилась к столику администратора, мне послышалась моя фамилия, я её перехватил и просил звать японцев (их оказалось двое, и ждали они в автомобиле). Привратники были те же, которые вчера видели меня в вестибюле в центре внимания, и для них авторитетно прозвучало, когда я сказал: «Это – ко мне». (Потом я узнал, что для входа иностранцев в ЦДЛ требуется всякий раз специальное разрешение администрации.) Я пригласил их в покойное фойе с коврами и мягкой мебелью и выразил надежду, что скромность обстановки не стеснит нашей деловой встречи. Тут, запыхавшись, прибежал и фотокорреспондент из АПН, притащил здешние ЦДЛ-овские огромные лампы-вспышки, и пошло наше двадцатиминутное интервью при свете молний. Администрация дома увидела незапланированное мероприятие, но его респектабельность, важность, а значит, и разрешённость, не подлежали сомнению.
Комото неплохо говорил по-русски, так что переводчица была лишь для штата, она ничего не переводила. В конце встречи разъяснилось и это обстоятельство: Комото сказал, что три года сам провёл в наших сибирских лагерях! Ну, так если он – зэк, он, может быть, и отлично понял чернуху в нашей встрече! И тем более должен он понять всё недосказанное. Мы сердечно попрощались.
Но вот прошла одна и вторая неделя после Нового года, а транзистор не доносил в моё уединение ни четверть отклика, ни фразочки на моё интервью! Всё пропало зря? Что же случилось? Помешали самому Комото, угрозили? Или не захотел редактор газеты портить общей обстановки смягчённости японо-советских отношений? (Их радиостанция на русском языке выражалась приторно-угодливо.) Только одного я не допускал: чтоб интервью было напечатано в срок и полностью, в пяти миллионах экземпляров, в четырёх газетах, на четверть страницы, ну пусть в японских иероглифах, – и было бы не замечено на Западе ни единым человеком! В связи с «культурной революцией» в Китае каждый день все радиостанции мира ссылались на японских корреспондентов, значит просматривали же их газеты, – а моего интервью не заметил никто! Была ли это краткость земной славы, и Западу давно уже было начхать на какого-то русского, две недели пощекотавшего их дурно переведенным бестселлером о том, как жилось в сталинских концлагерях? И – это, конечно. Но если бы промелькнуло где-то, хоть в Полинезии или Гвинее, сообщение, что левый греческий деятель не нашёл для одного своего абзаца издателя в Греции, – да тут бы Бертран Рассел, и Жан-Поль Сартр, и все левые лейбористы просто криком благим бы изошли, выразили бы недоверие английскому премьеру, послали бы проклятье американскому президенту, тут бы международный конгресс собрали для анафемы греческим палачам. А что русского писателя, недодушенного при Сталине, продолжают душить при коллективном руководстве, и уже при конце скоро, – это не могло оскорбить их левого миросозерцания: если душат в стране коммунизма, значит это необходимо для прогресса!
В многомесячном и полном уединении – как же хорошо работается и думается! Истинные размеры, веса́ и соотношения предметов и проблем так хорошо укладываются. В захвате безостановочной работы в ту зиму я обнаружил, что годам к пятидесяти окончу «n – 1»-ю свою работу – всё, что я собирался в жизни написать, кроме последней и самой главной – «Р-17». Тот роман уже 30 лет – с первого курса университета, у меня обдумывался, перетряхивался, отлёживался и накоплялся, всегда был главной целью жизни, но ещё практически не начат, всегда что-то мешало и отодвигало. А вот уже не за горами предстояло мне наконец дотянуться до заветной работы, от которой сами ладони у меня начинали пылать, едва я перебирал те книги и те записи.
И вот теперь, в Укрывище, в тишине, почти невероятной для нашего века, глядя на ели, по-крещенски отяжелённые неподвижным снегом, предстояло мне сделать один из самых важных жизненных выборов. Один путь был – поверить во внешнее нейтральное благополучие (не трогают), и сколько неустойчивых лет мне будет таких отпущено – продолжать сидеть как можно тише и писать, писать свою главную историю, которую никому до сих пор написать не дали, и кто ещё когда напишет? А лет мне нужно на эту работу семь или десять[26]26
Неоправданно надеялся я. Нельзя и за двадцать лет. И даже вообще целиком – нельзя. – Примеч. 1978.
[Закрыть].
Путь второй: понять, что можно так год протянуть, два, но не семь. Это внешнее обманчивое благополучие самому взрывать и дальше. Страусиную голову вытянуть из-под укрытия. Ведь Железный Шурик тоже не дремлет, он крадётся там, по закоулкам, к власти, и из первых его будет движений – оторвать мне голову эту. Так вот, накануне самой любимой работы – отложить перо и рискнуть. Рискнуть потерять и перо, и руку, и голос, и голову. Или – так безнадёжно и громогласно испортить отношения с властью, чтоб этим и укрепиться? Не туда ли судьба меня и толкает? Не заставлять её повторять предупреждение. Много десятков лет мы все вот так, из-за личных расчётов и важнейших собственных дел, – все мы берегли свои глотки и не умели крикнуть прежде, чем толкали нас в мешок.
Ещё с осени я знал, что съезд писателей опять отсрочили, теперь на май. Очень кстати! (Был бы в декабре – не отрывался бы я от Укрывища, от «Архипелага», и не было бы письма съезду.) Уж если не помогло интервью – только письмо съезду и оставалось. Только назвать теперь больше и крикнуть смелей.
Безконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную косную глыбу. Но нет другого пути, если вся материя – уже не твоя, не наша. А всё ж и от крика бывают в горах обвалы.
Ну, пусть меня и потрясёт. Может, только в захвате потрясений я и пойму сотрясённые души 17-го года?
Не рок головы ищет, сама голова на рок идёт.
__________
А ближайший расчёт мой был – ещё утвердиться окончанием и распространением 2-й части «Ракового корпуса». Уезжая на зиму, я оставил её близкой к окончанию. По возврате в шумный мир предстояло её докончить.
Но требовал долг чести ещё и эту 2-ю часть перед роспуском по Самиздату всё же показать Твардовскому, хотя заведомо ясно было, что только трата месяца, а их и так не хватает до съезда. Чтобы выиграть время, я попросил моих близких принести Твардовскому промежуточный, не вполне оконченный вариант месяцем раньше, с таким письмом, якобы из рязанского леса:
«Дорогой Александр Трифонович!
Мне кажется справедливым предложить Вам быть первым… читателем 2-й части, если Вы этого захотите… Текст ещё подвергнется шлифовке, я пока не предлагаю повесть всей редакции… Пользуюсь случаем заверить Вас, что несостоявшееся наше сотрудничество по 1-й части никак не повлияло на моё отношение к “Новому миру”. Я по-прежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала… – (Здесь натяжка, конечно.) –…Но обстановка общелитературная слишком крута для меня, чтобы я мог разрешить себе и дальше ту пассивную позицию, которую занимал четыре года…»
То есть я даже не просил рассмотреть вопрос о печатании. После ссоры и полугодового разрыва я только предлагал Твардовскому почитать.
По времени сложилось отлично: пока я в марте 67-го вернулся и доработал 2-ю часть – в «Новом мире» её не только А. Т., но все прочли, – и оставалось мне лишь получить их отказ, отказ от всяких дальнейших претензий на повесть. За год я получил из пяти советских журналов отказ напечатать даже самую безобидную главу из 1-й части – «Право лечить» (ташкентский журнал не поместил её даже в благотворительном безгонорарном номере); затем от всей 1-й части отказались – «Простор» (трусливым оттягиванием) и «Звезда» («в Русанова вложено больше ненависти, чем мастерства», – а ведь этого на страницах советских книг никогда не допускали! «ретроспекции в прошлое создают ощущение, будто культ личности полностью перечеркнул всё, что было советским народом сделано хорошего», – ведь домны вполне возмещают и гибель миллионов и всеобщее развращение; и хотелось бы «увидеть более ясно отличие авторских позиций от позиций толстовства», – так уж тем более Льва Толстого строчки бы не напечатали!).
Каждый такой отказ был перерубом ещё-ещё-ещё одной стропы, удерживающей на привязи воздушный шар моей повести. Осталось последний переруб получить от Твардовского – и никакая постылая стяга больше не удерживала бы мою повесть, рвущуюся двигаться.
Наша встреча была 16 марта. Я вошёл весёлый, очень жизнерадостный, он встретил меня подавленный, неуверенный. Естественно было нам говорить о 2-й части, но за полтора часа с глазу на глаз меньше всего разговору было о ней.
Мой путь уже был втайне определён, я шёл на свой рок, и с поднятым духом. Видя подавленность А. Т., мне хотелось подбодрить и его. За это время он потерпел несколько партийных и служебных поражений: на XXIII съезде его не выбрали больше в ЦК; сейчас не выбирали и в Верховный Совет РСФСР («народ отверг», как объяснил Демичев); с потерей этих постов ещё безпомощнее он стал перед наглой цензурой, как хотевшей, так и терзавшей наборные листы его журнала; стягивалась петля и вокруг «Тёркина на том свете» в Театре сатиры: всё реже пьесу давали и готовились совсем снять; а недавно ЦК актом внезапным и непостижимым по замыслу, минуя Твардовского, не предупредив его, снял двух вернейших заместителей – Дементьева и Закса: как когда-то из ГБ не возвращались люди домой, так и эти двое уже не вернулись из ЦК на прежнюю работу[27]27
Впрочем, Дементьев ещё долго и жалостно навещал редакцию с голосом на слезе. Он и никогда не работал здесь ради зарплаты, он выполнял общественное поручение, а сейчас, наверно, и совсем безплатно взялся бы.
[Закрыть]. Административно это было, конечно, плевком в Твардовского и во всю редакцию, но по сути это был такой же переруб строп, высвобождение ко взлёту, ибо снятые и были два вернейших внутренних охранителя, ослаблявшие энергию Твардовского. Однако А. Т. так привык доверяться Дементьеву, так верил в деловые и дипломатические качества Закса, так уже привычно был связан с ними, и ещё форма снятия так груба была даже и для всех сотрудников редакции, – что едва ли не коллективная отставка готовилась в виде протеста, сам же А. Т. никогда не был столь близок к отказу от редакторства. (Значит, не глупо рассчитали враги. Ещё, может быть, вот было их соображение: без удерживающих внутренних защёлок сорвётся в «Новом мире» вся стреляющая часть, выпалит через меру – и погубит сама себя.)
Я иначе принял отставку Дементьева и Закса: только очищение журнала. Но безполезно оказалось убеждать в этом Твардовского, да и сотрудников. Во всём же другом я старался теперь перенастроить А. Т.: что снятие из ЦК и Верхсовета было для него не общественным падением, а высвобождением: вы становитесь душевно независимее. И А. Т. сразу откликнулся: что он ничуть не жалеет о снятии его, даже рад. (Уже это было хорошо, что так говорил. В тех самых днях в Столешниковом переулке, в нетрезвом состоянии, он остановил незнакомого полковника Рыбу и открывался ему, бедняга, как больно задет.)
Я: – Тем лучше! Я рад, что вы так понимаете, что у вас уже есть внутренняя свобода. – (О, если бы)
Он (без моей наводки): – Или что медальки не дали! – (За месяц перед тем дали золотую звезду Шолохову, Федину, Леонову, Тычине, а ему – первому поэту России – ведь так же было установлено по табели о рангах – не дали, нарушили табель из-за смелых общественных шагов.) – Соболев рыдает, а я рад, что не дали. Мне позор бы был. – (Неискренно.)
Я: – Конечно позор, в такой компании!
Итак, хотя восемь месяцев мы не виделись и были как бы в разрыве, и вначале он меня встретил с обиженностью, и была взаимная боязнь новой обиды, боязнь неловко коснуться, – теперь свободно потёк разговор, интересный для него и для меня: моя цель всегда была, чтоб они хоть добровольный-то намордник сняли.
А. Т. подробно стал рассказывать, почему он не подал в отставку из-за Дементьева и Закса; как те сами отговаривали его; как наверху ему сказали: ваша отставка была бы поступком антипартийным. И ещё рассказывал благодушно, как он хорошо и умно перестроил редакцию журнала, как одним и тем же (?) выражением «сочту за честь» приняли его предложение войти в редакцию Дорош, Айтматов и Хитров. А ещё – как накануне прошло обсуждение журнала в секретариате Союза (после ругательной статьи в «Правде»): вопреки ожиданиям благопристойно и благополучно.
И после такого огляда не горе изо всего выстроилось, а радость: в который раз журнал проявил свою непотопляемость! А что бы иначе? А иначе сомкнулись бы волны и погас бы светоч.
Но на этом светло-розовом небе вот что безпокоило А. Т.: вчера на секретариате Г. Марков сказал, что «Раковый корпус» уже напечатан на Западе. И грозно посмотрел на меня Главный редактор. (Вырастил бороду… Не сам ли и «Крохотки» отдал за границу?..) Тут напомнил мне А. Т. по праву старшего, что даже некий (безымянный) буржуазный орган (ближе к моему безпартийному пониманию он давал более понятный авторитет) написал, что, конечно, Солженицына был бы недостоин образ действий Синявского и Даниэля.
Я ответил: – Сам я не собираюсь посылать за границу ничего. Но от соотечественников скрывать своих книг не буду. Давал им читать, даю и буду давать!
А. Т. вздохнул. Но признал разумно:
– В конце концов, это – право автора.
(В начале начал!!)
А откуда мог пойти слух? Пытался ему объяснить. Одна глава из «Корпуса», отвергнутая многими советскими журналами, действительно напечатана за границей – именно центральным органом словацкой компартии «Правда». Да, кстати! я же дал на днях интервью словацким корреспондентам, вам рассказать? Да! я ведь в ноябре дал интервью японцу, я вам не рассказывал… («Слышал, – хмуро кивнул Твардовский. – Вы что-то незаконное передали в японское посольство…») Да! Ведь мы же восемь месяцев не виделись, а завтра А. Т. едет в Италию, и надо ему быть осведомленным о моём новом образе действий: я ведь совсем иначе себя теперь веду! Дайте-ка расскажу!..
Но – всякий интерес потерял А. Т. к нашему разговору. Он стал звонить секретарю, связываться с Сурковым, с Бажаном, со всеми теми, о ком на полчаса раньше выразился, что «на одном поле не сел бы рядом с ними…»: ведь именно с ними ему нужно было завтра ехать спасать КОМЕСКО. Я помнил, как парижским своим интервью осени 1965 А. Т. успокаивал о моей судьбе. Теперь я очень выразительно сказал ему, как ненавижу Вигорелли за то, что тот солгал на Западе, будто недавно беседовал со мною дружески и узнал от меня, что роман и архив мне возвращены. Он помогал меня душить. (Сиречь: да вы же там завтра не помогите!..)
А делаю я теперь вот что: даю рукописи обсуждать в секцию прозы…
А. Т. качает головой: – Не следовало давать.
– …Потом – публично выступаю…
А. Т. хмурится: – Очень плохо. Зря. Своими резкими выступлениями вы ставите под удар «Новый мир». Нас упрекают: вот, значит, вы кого воспитали, вот кого вытащили на свет!
(Да Боже мой, да не только, значит, я, но и вся русская литература должна замолкнуть и самопотопиться – чтобы только не упрекали и не потопили «Новый мир»?..)
– Я защищаю и вас! Я объясняю людям громко со сцены, почему на два-три месяца задерживаются ваши номера: цензура!
– Не надо объяснять! – всё гуще хмурился он. – Мне говорили, что вы вообще против меня высказываетесь…
– Против? И вы могли – поверить?
– Я ответил: пусть! А я против него – не буду.
(Поверил! сразу поверил бедный Трифоныч! – но сам поступит благороднее!.. В том и дружба.)
И где ж во всём этом разговоре был «Раковый корпус»? Да был всё-таки, переслойкой: по две фразы, по два абзаца.
Второй части «Корпуса» он высказал высшие похвалы; что это в три раза выше первой части. Но вот что…
(Я знаю, сейчас, как раз сейчас такие условия, такая ситуация… Дорогой Александр Трифоныч! Я знаю! Я и не прошу печатать! Берегите журнал! Я и давал-то вам повесть только, чтоб вы не обижались! Я в редакцию-то – не давал!)
– …Но вот что: даже если бы печатание зависело целиком от одного меня – я бы не напечатал.
– Вот это мне уже горько слышать, Александр Трифоныч! Почему же?
– Там – неприятие советской власти. Вы ничего не хотите простить советской власти.
– Александр Трифоныч! Этот термин «советская власть» стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, только их одних, свободно ими избранную и свободно ими контролируемую. Я – руками и ногами за такую власть!.. А то вот и секретариат СП, с которым вы на одном поле не сели бы… – тоже советская власть?
– Да, – сказал он с печальным достоинством. – В каком-то смысле и они – советская власть, и поэтому надо с ними ладить и поддерживать их… Вы – ничего не хотите забыть! Вы – слишком памятливы!
– Но, А. Т.! Художественная память – основа художественного творчества! Без неё книга развалится, будет – ложь!
– У вас нет подлинной заботы о народе! – (Ну да, я же не добр к верхам!) – Такое впечатление, что вы не хотите, чтобы в колхозах стало лучше.
– Да А. Т.! Во всей книге ни слова ни о каком колхозе. – (Впрочем, не я их придумывал, почему я должен о них заботиться?..) – А что действительно нависает над повестью – так это система лагерей. Да! Не может быть здоровой та страна, которая носит в себе такую опухоль! Знаете ли вы, что система эта, едва не рассосавшаяся в 1954–55 годах, – снова укреплена Хрущёвым, и именно в годы XX и XXII съезда? И когда Никита Сергеич плакал над нашим «Иваном Денисовичем» – он только что утвердил лагеря не мягче сталинских.
Рассказываю.
Слушает внимательно. И всё равно:
– А что вы можете предложить вместо колхозов? – (Да не об этом ли был и «разбор» «Матрёны»?..) – Надо же во что-то верить. У вас нет ничего святого. Надо в чём-то уступить советской власти! В конце концов, это просто неразумно. Плетью обуха не перешибёшь.
– Ну так обух обухом, А. Т.!
– Да нет в стране общественного мнения!
– Ошибаетесь, А. Т.! Уже есть! уже растёт!
– Я боюсь, чтобы ваш «Раковый корпус» не конфисковали, как роман.
– Поздно, А. Т.! Уже тю-тю! Уже разлетелся!
(Ещё нет. Ещё для 2-й части мне два месяца скромно терпеть. Но до писательского съезда столько и осталось.)
– Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству. – (Почему ж 2-я часть вышла «в три раза лучше» той, которую он хотел печатать?) – На что вы рассчитываете? Вас не будет никто печатать.
(Да, при моём поведении «достойней Синявского и Даниэля». Хороша ловушка!..)
– Никуда не денутся, А. Т.! Умру – и каждое словечко примут, как оно есть, никто не поправит!
И вот это – обидело его глубоко:
– Это уже самоуслаждение. Легче всего представить, что «я один – смелый», а все остальные – подлецы, идут на компромисс.
– Зачем же вы так расширяете? Тут и сравнивать нельзя. Я – одиночка, сам себе хозяин, а вы – редактор большого журнала…
Берегите журнал! Берегите журнал… Литература как-нибудь и без вас…
То не последние были слова нашего разговора, и он не вышел ссорой или побранкой. Мы простились сдержанно (он – уже и рассеянно), сожалея о неисправимости взглядов и воспитания друг у друга. Такое окончание и было достойнее всего, я рад, что кончилось именно так: не характерами, не личностями мы разошлись. Советский редактор и русский прозаик, мы не могли дальше прилегать локтями, потому что круто и необратимо разбежались наши литературы.
На другой день он уехал в Италию и вскоре давал там многолюдное интервью (опять надеясь, что я не узнаю?). Его спрашивали обо мне: правда ли, что часть моих вещей ходит по рукам, но не печатается? правда ли, что и такие есть вещи, которые я из стола не смею вынуть?
«В стол я к нему не лазил, – ответил популярный редактор (в самом деле, в стол лазить – на это есть ГБ). – Но вообще с ним всё в порядке. Я видел его как раз накануне отъезда в Италию (подтверждение нашей близости и достоверности его слов!). Он окончил 1-ю часть новой большой вещи (когда, А. Т.? когда?..), её очень хорошо приняли московские писатели («не следовало давать туда»?..), теперь он работает дальше. (А – 2-ю часть потеряли, А. Т.? А как «излишняя памятливость»? А – «ничего нет святого»? Почему бы не сказать этому католическому народу: «у Солженицына ничего нет святого»?)
Не проходит поэту безнаказанно столько лет состоять в партии.
* * *
Думал в три раза тесней поместиться. Стыд, распёрло.
Я потому только писал, что ещё несколько дней – и разлетится моё письмо съезду [2], и не знаю, что будет, даже буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам.
И больно, что это никем потом не распутается, не объяснится.
Не я весь этот путь выдумал и выбрал – за меня выдумано, за меня выбрано.
Я – обороняюсь.
Охотники знают, что подранок бывает опасен.
7 апреля – 7 мая 1967Рождество-на-Истье









































