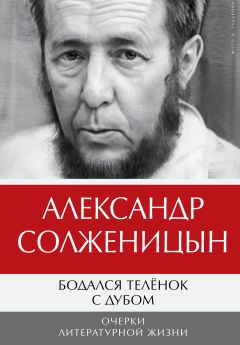
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
До того уж почувствовал журнал свои права на меня, что летом, пока я был в отъезде, Закс без моего ведома уступил цензуре из моего рассказа несколько острых выражений (вроде забастовки, которую хотят устроить студенты). Это был их частый приём и со многими авторами: надо спасать номер! надо, чтобы журнал жил! А если страдает при этом линия автора – ну что за беда… Вернувшись, я упрекнул их горько. Твардовский принял сторону Закса. Им просто непонятно было, из чего принципиальничать? Подумаешь, пощипали рассказ! Мы, авторы «Нового мира», им рождены и ему должны жертвовать.
Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал немало возбуждённых и публичных откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления.
Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному «Новому миру» надо относиться с обычной противоначальнической хитростью: не всегда-то и на глаза попадаться, сперва разведывать, чем пахнет. В этот приезд, в июле 1963, пока я горячился из-за цензурных искажений, А. Т. тщетно пытался передать мне свою радость:
– Вы легки на помине, о вас был там разговор!
Я говорю – «радость», но по-разному бывал он радостен: чист и светел, когда здоров от своей слабости, а в этот раз – с мутными глазами, полумёртв, вызывал жалость (его лишь накануне лекарственным ударом вырвали, чтобы доставить в ЦК к Ильичёву). И ещё ведь курил, курил, не щадя себя! Радость А. Т. была на этот раз в том, что он на заседании у Ильичёва ощутил некое «новое дуновение», испытал какие-то «греющие лучи». (А было это – просто очередное вихлянье агитпропа, манёвр. Но в безправной, унизительной жизни главного редактора опального журнала и при искренних толчках сердца о красную книжечку в левом нагрудном кармане – обречён был Твардовский падать духом и запивать от неласкового телефонного звонка второстепенного цекистского инструктора, и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры.)
Так вот что было там, на Старой площади. «Подрабатывался» состав советской делегации в Ленинград на симпозиум КОМЕСКО (Европейской Ассоциации писателей) о судьбах романа, и вот А. Т. удалось добиться, чтобы включили в ту делегацию меня. (А потому Ильичёв и уступил, что для симпозиума была нужна декорация.)
Он договорить ещё не успел, я уже понял: ни за что не поеду! Вот из таких карусельных мероприятий и состоит жизнь писателя на поверхности… Недорогой способ нашли они показать меня Европе (да и какая там Европа собралась под крыльями Вигорелли!): в составе делегации, конечно единой во мнении, а всякий выступ из общего мнения будет не только изменой родине, но ещё и предательством родного «Нового мира». Сказать, что́ действительно думаешь, – невозможно. И рано. А ехать мартышкой – позор. Отклоня уже столько западных корреспондентов, должен был я свою линию вытягивать и дальше.
– Зря вы хлопотали, Александр Трифоныч. Меня совсем туда не влечёт ехать, да и несручно: я недавно из Ленинграда, я так мотаться не привык.
Вот тут и шла между нами грань, не перейденная за все годы нашей литературной близости: никогда мы по-настоящему не могли понять и принять, что́ думает другой. (По скрытости моей работы и моих целей он особенно не мог понять меня.)
А. Т. обиделся. (Всю обиду он выказывал обычно не враз, но потом в жизни возвращался и возвращался к ней многажды. Как, впрочем, и я.)
– Моя задача была – отстоять справедливость. А вы можете и отказаться, если хотите. Но в интересах советской литературы вы должны там быть.
Да ведь я ей не присягал.
Случился тут и Виктор Некрасов, недавно ошельмованный на мартовской «встрече» и уже несколько месяцев под партийным следствием в Киеве, – и он, он тоже убеждал меня… ехать! Вот и ему ещё было столькое непонятно, и нельзя объяснить…
Дружный внутренний порыв влёк их обоих в ресторан, а мне было легче околеть, чем переступить тот порог. Никак не решив, мы потянулись сперва на Страстной бульвар (что теперь ещё зовут Страстным, бывший Нарышкинский, а Страстной-то большевики уничтожили нацело). Тут заметил я, как неумело переходил А. Т. проезжую часть улицы («ведь эти московские перекрестки такие опасные»). Да ведь он отвык передвигаться по улицам иначе, как в автомобиле… И седоку автомобильному нельзя, нельзя понять пешехода, даже и на симпозиуме. Стал А. Т. говорить, что симпозиум, конечно, будет пустой: нет романов, о которых хотелось бы спорить; и вообще романа сейчас нет; и «в наше время роман даже вряд ли возможен». (Уже начат был «Раковый корпус», уже год, как закончен был «Круг», но не знал я, в каком виде посметь предложить его Твардовскому. И вот так, со связанными руками и заткнутым ртом должен буду я сидеть на симпозиуме и слушать сорокоусто: умер роман! изжит роман! не может быть романа!..)
Грустно говорил А. Т. и о том, что на Западе хорошо его знают как прогрессивного издателя, но не знают как поэта. «Конечно, ведь у меня же – мерный стих, и есть содержание…» (Да нет, даже не в модерне дело, но как перевести русскость склада, крестьяность, земляность, неслышное благородство лучших стихов А. Т.?) «Правда, мои “Печники” обошли всю Европу», – утешался он.
Всё складывалось горько, и партийное следствие в Киеве, и упрямство моё туда же, – и вырвались они от меня и пошли пить лимонад. Я проводил их как потерянных: такой у века темп, а им времени некуда девать.
На том не кончилось: ещё от того симпозиума пришлось мне из дому убегать, на велосипеде, не оставив адреса. Как в школу меня раньше директор вызывал, так требовало теперь правление Союза, телеграммы и гонцы: ехать, и всё! Но не нашли.
(А Твардовский тот симпозиум использовал к делу: их повезли потом в Пицунду, на хрущёвскую дачу, и сослужил Лебедев ещё одну службу: подстроил чтение вслух «Тёркина на том свете». Иностранцы ушами хлопали, Хрущёв смеялся, – ну, значит и разрешено, протащили.)[13]13
Изворотливый Аджубей первый же и напечатал, но с таким вступлением: как эту поэму красиво слушал Шолохов (!?..). Тут и Аджубей весь, тут и нашим и вашим, тут и: своего же 30 лет ничего нет, будешь слушать…
[Закрыть]
После «Тёркина на том свете», пролежавшего (и перележавшего) 9 лет в готовом виде, 9 лет вязавшего Твардовскому руки, – они теперь как бы освободились для риска. И осенью 63-го года я выбрал четыре главы из «Круга» и предложил их «Новому миру» для пробы, под видом «Отрывка».
Отказались. Потому что «отрывок»? Не только. Опять тюремная тема… (Она же «исчерпана»? и кажется – «перепахана»?)
Тем временем нужно было им печатать проспект – что пойдёт в будущем году. Я предложил: повесть «Раковый корпус», уже пишу. Так названье не подошло! – во-первых, символом пахнет; но даже и без символа – «само по себе страшно, не может пройти».
Со своей решительностью переименовывать всё, приносимое в «Новый мир», Твардовский сразу определил: «Больные и врачи». Печатаем в проспекте.
Манная каша, размазанная по тарелке! Больные и врачи!.. Я отказался. Верно найденное название книги, даже рассказа, – никак не случайно, оно есть – часть души и сути, оно сроднено, и сменить название – уже значит ранить вещь. Если повесть Залыгина получает аморфное название «На Иртыше», если «Живой» Можаева (как глубоко! как важно!) выворачивается в «Из жизни Фёдора Кузькина», – то это неисправимое повреждение. Но А. Т. никогда этого не принимал, считал это мелочью, а редакционные льстецы и медоточивые приятели даже укрепили его в том, что он замечательно переименовывает, с первого прищура. Он давал названия понезаметней, поневыразительней, рассчитывая, что так протянет через цензуру легче, – и верно, протягивал.
Не столковались, и «Раковый корпус» не попал в обещания журнала на 1964. Зато ввязался журнал добывать для «Ивана Денисовича» ленинскую премию. За год до того все ковры были расстелены, сейчас это уже было сложно. (Ещё через полгода всем станет ясно, что то была – грубая политическая ошибка, оскорбление имени и самого института премий.)
А. Т. очень к сердцу принял эту борьбу, каждый лисий поворот Аджубея, выступавшего то так, то эдак. Правда, первый тур А. Т. не был на ногах, победа свершилась без него. Зато во втором он настойчиво взялся, рассчитывал внутрикомитетские тонкости (за кого подавать голос, чтоб иметь больше сторонников для себя). В секции литературы голоса разделились совсем не случайно, а даже пророчески: за «Ивана Денисовича» голосовали все националы и Твардовский, против – все остальные русские. Большинство оказалось против. Но по статуту учитывались ещё и результаты голосования в секции драматургии и кино, а там большинство оказалось «за». Итак, в список для тайного голосования «Иван Денисович» прошёл против голосов «русских» писателей! Успех этот очень обезпокоил врагов, и на пленарном заседании комитета премий первый секретарь ЦК комсомола Павлов выступил с клеветой против меня, – первой и самой ещё безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному. Твардовский, хотя и крикнул «неправда», был ошеломлён: а вдруг правда? Это показательно: уже более двух лет мы в редакции целовались при встречах и расставаниях, но настолько оставалась непереходима разность между нами, что не было у него толчка расспросить, а у меня повода рассказать – как же сталась моя посадка. (Да вообще, ни одного эпизода тюремно-лагерной жизни, из тех, что я направо и налево рассказывал первым встречным, ни даже из фронтовой, – не пришлось мне ему никогда рассказать. А он мне, хотя я наводил, не рассказал о ссылке семьи, что очень меня интересовало, а только – эпизоды литературно-чиновной, придворной жизни: как пятерым поэтам и пятерым композиторам Хрущёв поручил сочинять новый гимн; о случаях в барвихском санатории; о ходах редакторов «Правды», «Известий», «Октября» и ответных ходах самого А. Т. – обычно вяловатых, но всегда исполненных достоинства.)
Теперь он за одни сутки, по моему совету, получил из Военной коллегии Верховного Суда копию судебного заключения и моей реабилитации. (В век нагрянувшей свободы документы эти должны были, естественно, публиковаться сводными томами, – но они даже от самих реабилитированных были секретны, и путь к ним я узнал случайно, через встречу с Военной коллегией, – бывший зэк в Верховном Суде! знаменательная встреча, но сюда не помещается.) Это заключение на следующий день Твардовский сумел эффектно огласить на заседании комитета премий перед тайным голосованием. Прозвучало, что я – противник «культа личности» и лживой нашей литературы ещё с годов войны. Секретарю ЦК ВЛКСМ пришлось встать и извиниться. Однако уже запущена была машина. Утренняя «Правда» за два часа до голосования объявила: по высокой требовательности, которую до тех пор, оказывается, проявляли к ленинским премиям, повесть об одном лагерном дне, конечно, её недостойна. Перед самым тайным голосованием ещё отдельно обязали партгруппу внутри комитета голосовать против моей кандидатуры. (И всё равно, рассказывал Твардовский: голосов никому не собралось. Созвали комитет вторично, приехал Ильичёв и велел при себе переголосовывать – голосовать за «Тронку» Гончара. Уже неоднократный лауреат, и член комитета самого, Гончар тут же около урны сидел и безстыдно наблюдал за тайным голосованием.)
Уже тогда, в апреле 1964, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была «репетицией путча» против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели – и удалось. Это обнадёживало их, что и Сам-то не крепок.
Над статьёй «Правды» в своём новом кабинете (зданье бывших келий Страстного монастыря) утром, перед последним голосованием, Твардовский сидел совсем убитый, как над телеграммой о смерти отца. «Das ist alles», – встретил он меня почему-то по-немецки, и это кольнуло меня сходством с чеховским «Ich sterbe»: ни одного иностранного слова не слыхивал я от А. Т. ни до этого, ни после. Ленинская премия для меня, о которой Твардовский бился, себя не жалея (и удивительно – не запил даже от поражения), – была престиж журнала, как бы орден, приколотый к его синеватой обложке[14]14
Так оно и сказывалось. После отказа мне в премии, жаловался потом А. Т., стало журналу совсем невыносимо, придирались в цензуре к каждому пустяку. И чтобы журнал не опаздывал безнадёжно, приходилось уступать.
[Закрыть]. Когда отказали, он рвался (впрочем, не впервь и не впоследне) демонстративно выйти – на этот раз из комитета по премиям. Но соредакторы и родные уговорили, что его задача – беречь и вести журнал. И конечно верно, не тот был повод.
Сам я просто не знал, чего и хотеть. В получении премии были свои плюсы – утверждение положения. Но минусов больше, и та марка ко мне не приклеивается, и: утверждение положения – а для чего? Ведь моих вещей это не помогло бы мне напечатать. «Утверждение положения» обязывало к верноподданности, к благодарности, – а значит, не вынимать из письменного стола неблагодарных вещей, какими одними он только и был наполнен.
Всю эту зиму я кончал облегчённый для редакции и для публики роман «В круге первом» («Круг»-87). Облегчённый-то облегчённый, но риск показать его был почти такой же, как два года назад «Ивана Денисовича»: перешагивалась черта, которую до сих пор не переступали. До какой степени у Твардовского перехватит дыхание? – не настолько ли, что он обернётся тоже в недруга?
Во всяком случае, все эти зимние месяцы, пока он боролся за премию, я не мешал его борьбе и не показывал ему обещанного «Круга». Весной пришла пора Твардовскому читать мой роман. Но ка́к на время чтения оторвать его от главных противосоветчиков, и прежде всего – от Дементьева? Мне нужно было, чтоб над романом сформировалось собственное мнение А. Т. Я сказал:
– Александр Трифоныч! Роман готов. Но что значит для писателя отдать в редакцию роман, если всего за жизнь думаешь сделать их только два? Всё равно что сына женить. На такую свадьбу уж приезжайте ко мне в Рязань.
И он согласился, даже с удовольствием. Кажется, уникальный случай в его редакторской жизни.
В Рязани, как раз в пасхальную ночь (но А. Т. вряд ли памятовал её), мы встретили его как могли пышно – на собственном «москвиче». Однако он поёживался, влезая в этот маленький (для его фигуры взаправду маленький) автомобиль: по своему положению он не привык ездить ниже «волги». Он и приехал-то простым пассажиром местного поезда и билет взял сам в Круглой башне, не через депутатскую комнату, – может быть, со смоленских юношеских времён так не ездил.
За первым же ужином А. Т. тактично предварял меня, что у каждого писателя бывают неудачные вещи, надо это воспринимать спокойно. Со следующего утра он начал читать не очень захваченно, но от завтрака до обеда разошёлся, курить забывал, читал, почти подпрыгивая. Я заходил к нему как бы ненароком, сверяя его настроение с номером главы. Он вставал от стола: «Здо́рово! – и тут же подправлялся: – Я ничего не говорю!» (то есть не обещает такой окончательной оценки). Как я понимаю работу, ему нужно было быть трезвым до её конца, но гостеприимство требовало поставить к обеду и водку и коньяк. От этого он быстро потерял выдержку, глаза его стали бешеноватые, белые, и вырывалась из него потребность громко изговариваться. Он захотел пройти на почту, звонить в Москву (условлялась у него с женой покупка новой дачи); до почты было четыреста метров, а шли мы туда и обратно два часа: А. Т. поминутно останавливался, загораживая тротуар, и как я ни понуждал его идти или говорить тише, он громко выговаривался: что человек никому ничего не должен; что «начальство трогательно любит само себя»; о маршале Коневе (я видел его в редакции в штатском – туповатый, средний колхозный бригадир), который в виде похвалы сказал Твардовскому, что сделал бы его из подполковника запаса генерал-майором; и о таинственности московской комиссии по прописке, решающей, кому жить, кому не жить; и о тайных местах (острова в Северном море) тайной ссылки инвалидов войны (от первого Твардовского я это слышал, не сомневаюсь в достоверности; умонепостигаемо для всех, кроме советских: этих бывших героев и эти жертвы, принесшие нам победу, выбросить вон, чтоб своими обрубками не портили стройного вида советской жизни да не требовали слишком горласто прав своих); и о том, как Брежнев стал «жертвой культа» (пострадал от Сталина за то, что в Кишинёве общественный городской сад забирал себе под резиденцию); и о том, что несправедливо оплачиваются сборники стихов – массовые меньше, чем немассовые (мне пришлось замечать, что он вникал в расчёты и вычеты по своим изданиям, похвалив издание, добавлял: «да и деньги немалые», но это было не жадно, а с добродушной гордостью труженика, как крестьянин возвращается с базара); и о Булгакове («блестящий, лёгкий»); и о Леонове («его раздул, непомерно возвысил Горький»); о Маяковском («остроумие – плоское, не национален, хотя изощрялся в церковно-славянских вывертах; не заслуживает площади рядом с Пушкинской»).
В этот вечер я пытался ему объяснить, что один его заместитель ничтожен, а другой враждебен его начинаниям, лицо совсем из иного лагеря. А. Т. во всём не соглашался. «Дементьев сильно эволюционировал за десять лет». – «Да где ж эволюционировал, если с пеной у рта бился против “Ивана Денисовича”?» – «Он ушиблен очень…» Но вообще-то высказал А. Т., что мечтает иметь «первое лицо в редакции» – такого знающего и решительного заместителя, который безошибочно управлялся б и сам. (Это будущее «первое лицо» уже состояло в редакции и уже возвышалось – Лакшин.)
Второй день чтения проходил насквозь в коньячном сопровождении, а когда мы пытались сдерживать, А. Т. настаивал на «стопце». Кончал день он опять с бело-возбуждёнными глазами.
– Нет, не могли ж вы испортить роман во второй половине! – высказывал он с надеждой и страхом.
После главы «Критерий Спиридона»:
– Нет, теперь, в конце, вы уже никак не сможете его испортить!
Ещё после какой-то:
– Вы – ужасный человек. Если бы я пришёл к власти – я бы вас посадил.
– Так Алексан Трифоныч, это меня ждёт и при других вариантах.
– Но если я сам не сяду – я буду носить вам передачи. Вы будете жить лучше, чем Цезарь Маркович. Даже бутылочку коньяку…
– Там не принимают.
– А я – одну бутылочку Волковому, одну – вам…
Шутил он шутил, но тюремный воздух всё больше входил и заражал его лёгкие.
После «Освобождённого секретаря»:
– Завтра будет у нас разговор совсем в другой плоскости, чем вы предполагаете: мы будем говорить больше не о вас, а обо мне.
(О его ограниченных издательских возможностях?.. о долге совести?.. о том, как он ощущает собственные изменения?.. Такой разговор не состоялся, и я не знаю, что имел в виду Твардовский.)
Это настроение, (что, может быть, не избежать и самому садиться, верней: тоскливое шевеленье души, как у Толстого в старости: а жаль, что я не посидел, мне-то бы – надо…) в тот приезд несколько раз проявилось у него. С ним и в поезде была книга Якубовича-Мельшина «В мире отверженных», уже она готовила его. Он с большим вниманием относился к подробностям зарешёточной жизни, с любопытством спрашивал: «А зачем там лобки бреют?», «А почему стеклянную посуду не пропускают?» По поводу еврейской линии в романе сказал: «Идти на костёр – так идти, но было бы из-за чего». Несколько раз, уже теряя в парах коньяка и тон и ощущение шутки, он возвращался к обещанию носить мне передачи в тюрьму, но чтоб и я ему носил, если не сяду. А к вечеру второго дня, когда по ходу чтения посадка Иннокентия становилась уже неминуемой («теряешь чувство защищённости»), да ещё после трёх стаканов старки, он очень опьянел и требовал, чтобы я «играл» с ним «в лейтенанта МГБ», именно: кричал бы на него и обвинял, а он стоял бы по струнке.
Досадным образом чтение романа переходило в начало обычного запоя А. Т., – и это я же подтолкнул, получается. Однако чувство реальной опасности росло в нём не спьяну, а от романа.
На третий день ему оставалось уже немного глав, но он начал утро с требования: «Ваш роман без водки читать нельзя!» Кончая главу «Нет, не тебя!», он дважды вытирал слёзы: «Жалко Симочку… Шла как на причастие… А я б её утешил…» Вообще в разных местах романа его восприятие было не редакторским, а самым простодушным читательским. Смеялся над Прянчиковым или размышлял за Абакумова: «А правда, что с таким Бобыниным поделаешь?» По поводу подмосковных дач и холодильников у советских писателей: «Но ведь там же и честные были писатели. В конце концов, у меня тоже была дача».
Он кончил читать, и мы пошли с ним смотреть рязанский кремль и разговаривать о романе.
– И имея такой роман, вы ещё могли ездить собирать материалы для следующего?
Я: – Обязательно должен быть перехлёст. На рубеже реки нельзя останавливаться, надо захватывать предмостный плацдарм.
Он: – Верно. А то кончишь, отдохнёшь, сядешь за следующий, а – хре́на! не идёт!
Твардовский хвалил роман с разных сторон и в усиленных выражениях. Там были суждения художника, очень лестные мне. «Энергия изложения от Достоевского… Крепкая композиция, настоящий роман… Великий роман… Нет лишних страниц и даже строк… Хороша ирония в автопортрете, при самолюбовании себя написать нельзя… Вы опираетесь только на самых главных (то есть классиков), да и то за них не цепляетесь, а своим путём… Такой роман – целый мир, 40–70 человек, целиком уходишь в их жизнь, и что за люди!..» Хвалил краткие, без размазанности, описания природы и погоды. Но были и суждения официального редактора тоже: «Внутренний оптимизм… Отстаивает нравственные устои», и главное: «Написан с партийных позиций (!)… ведь в нём не осуждается Октябрьская революция… А в положении арестанта к этому можно было прийти».
Это «с партийных позиций» (мой-то роман!..) – примечательно очень. Это не была циничная формулировка редактора, готовящегося «пробивать» роман. Это совмещение моего романа и «партийных позиций» было искренним, внутренним, единственно-возможным путём, без чего он, поэт, но и коммунист, не мог бы поставить себе цель – напечатать роман. А он такую цель поставил – и объявил мне об этом.
Правда, он попросил некоторых изменений, но очень небольших, главным образом со Сталиным: убрать главу «Этюд о великой жизни» (где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию, что Сталин сотрудничал с царской охранкой); и не делать такими уверенно-точными детали быта монарха, в которых я уверен быть не мог. (А я считал: пусть пожнёт Сталин посев своей секретности. Он тайно жил – теперь каждый имеет право писать о нём всё по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать свою картину, заразить читателей.)
Вообще же о сталинских главах в романе он хорошо сказал: их можно было бы и изъять, но отсутствие их в романе могло бы быть воспринято как «испугался», «побоялся не справиться». В них можно допустить даже некоторую излишность, то есть сверх того, что необходимо для конструкции романа.
А Спиридон показался ему слишком коварен, хитёр, нарисован «несколько с горожанскими представлениями». Сперва я удивился: неужели я его не добротно описал? Но понял: о мужике так много плохого сказано с 20-х годов, что Твардовскому больно уже тогда, когда говорится не одно сплошь хорошее. Это уже – отзывно, идеализация нехотя.
Утром четвёртого дня мы неумело пытались пресечь заболевание А. Т. тем, что не дать ему опохмелиться, – однако он досуха лишился возможности завтракать, не мог взять куска в рот. С детской обиженностью и просительностью улыбался: «Конечно, черемисы не опохмеляются. Но ведь и что за жизнь у них? Какое низкое развитие!» Кое-как согласился позавтракать с пивом. На вокзале же с поспешностью рванул по лестнице в ресторан, выпил пол-литра, почти не заедая, и уже в блаженном состоянии ожидал поезда. Только повторял часто: «Не думайте обо мне плохо».
Все эти подробности по личной бережности, может быть, не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления, какими непостоянными, периодически слабеющими руками вёлся «Новый мир» – и с каким вбирающим, огромным сердцем.
Итак, мой замысел – завлечь Твардовского моим романом в отсутствие Дементьева – как будто удался. Твардовский не только хвалил роман – он готовился принять за него и страдания. Он даже торопил меня при расставаньи: скорей переделывать сталинские главы и привозить ему окончательный вариант.
А это уже и выходило за пределы моих ожиданий! Я не мог поверить, чтобы «Круг первый» способен был проскочить в печать в 1964 году. Но тогда зачем же я давал его Твардовскому?.. чего хотел? Пожалуй, опять как с «Иваном Денисовичем»: переложить с себя на него ответственность за эту книгу, чтобы он знал: вот есть такая. А самому не упрекаться, что ничего не сделал для продвижения? Теперь же я как будто ввязывался в ложную безплодную возню и только отвлекался от настоящей работы.
Через две недели привёз я Твардовскому роман с переделками. Как и все мои пещерные машинописи, эта была напечатана обоесторонне, без интервалов и с малыми полями. Ещё предстояло её всю перепечатывать, прежде чем что-то делать.
А. Т. встретил меня у себя дома такой чистенький, по-детскому славный, в бархатной курточке, что невозможно было и предположить, будто он когда-либо выпивает. Он был один: жена поехала ближе разглядывать новокупленную на этих днях дачу в Пахре (свою прошлую он отдал замужней старшей дочери).
А. Т. не только очнулся от запоя, но и протрезвился от восторгов по поводу романа, был настроен гораздо осмотрительнее: уже сокращал список лиц, кому надо дать прочесть. «Ал Григ» (Дементьев) был, конечно, первый читатель.
– Он, разумеется, будет против, – не упускал я ещё раз предварить. – Но ведь ему шестьдесят лет, он переживал и гонения, – до каких пор можно жаться?
– Он эволюционирует на моих глазах! – повторял А. Т.
Правда, в редакции быстро входил в доверие Твардовского Лакшин, его влияние в те годы было противоположно дементьевскому, они частенько схватывались. В одну из схваток Лакшин сказал:
– Мы с Александром Григорьевичем оба – историки литературы и должны понимать, что подлинная история литературы сейчас делается именно в «Новом мире», а не в Институте Мировой Литературы.
Это хорошо было сказано (и в иные месяцы так и было). Лакшин поддержал «Круг».
Пока роман перепечатывался, Твардовский забирал в сейф все экземпляры и зорко следил, чтобы читали только члены редакционной коллегии (даже редакторам отдела прозы, своим извечным неоценимым работягам, он не дал прочесть): пуще всего он боялся теперь, чтобы роман не распространился по рукам, как было с «Иваном Денисовичем».
Так сошлось, что три дня Пасхи он читал у меня роман, а обсуждать его редакционная коллегия собралась на Вознесение, 11 июня. Заседание шло почти четыре часа, сам А. Т. в начале объявил его «приведением к присяге». Он сказал, что все эти 40 дней роман был «предметом душевного обихода» для него, что он непрерывно его обмысливает, «считаясь не только с точкой зрения вечности, но и – как он может быть прочитан теми, от кого зависит решение». Уязвимыми объявил Твардовский только детали сталинского быта; ещё он хотел бы, чтоб я «смягчил резкие антисталинские характеристики»; опустил бы «Суд над князем Игорем» «за литературность». Вступление своё он закончил даже с торжественностью: «Для нормативной критики этот роман не только должен быть спущен под откос, но должно быть возбуждено уголовное преследование против автора. Кто же мы? Уклонимся ли от ответственности? Кто хочет сформулировать? Кто хочет разок бултыхнуться в воду?»
Так оправдало себя чтение романа Твардовским, «оторванное» от заместителей! «Самое первое обсуждение», как сказал А. Т., и было здесь, при мне, и таким торжественным приглашением начинал его главный редактор. Ещё входя на обсуждение, я постарался в таком порядке поздороваться, чтобы с Дементьевым – последним. Я ожидал от него сегодня атаки наопрокид. Он же с самого начала вместо удобного развала в кресле примостился зачем-то на подоконник раскрытого окна. За окном грохотала улица. Твардовский не преминул заметить:
– Ты что, потом скажешь: а мне не слышно было, о чём толковали?
Дементьев продолжал сидеть там же, с неудобно свешенными ногами:
– Жарко.
Твардовский не унимался:
– Так ты рассчитываешь воспаление лёгких схватить? И потом нужное время в постельке пролежать?
Пришлось Дементьеву слезть и сесть со всеми. Он так был подавлен, что даже не отшучивался. Да ведь давно и верно он предчувствовал, куда их заведёт эта игра с тихим рязанским автором.
А прения начать пришлось Кондратовичу. Лицо Кондратовича как бы приспособлено к убеждённому выражению уже имеющегося, уже названного мнения. Он тогда умеет и выступать с прямодышащей взволнованностью, заливчато, кажется и умереть за это мнение готовый, так верен службе. Но не представляю себе его лица, озаряемого самостоятельно зреющим убеждением. Нестерпимо было бы Кондратовичу начать эти прения, если б долголетнее общение с цензурой не уравняло его обоняние с обонянием цензуры. Как внутри военного бинокля уже содержится угломерная шкала и накладывается на всё видимое, так и глаза Кондратовича постоянно видели отсчёты от красной линии опасности.
Порадовался Кондратович, что «не умирал жанр романа» и вот движется. И тут же легонечко проурчал о «подрыве устоев», «чем больше художественная сила изложения, тем больше разоблачения перерастают в символ». («Да нет, – успокоил его А. Т., – об идее коммунизма здесь речь не идёт».) Но ведь освобождённый секретарь – это не просто частный парторг Степанов, это – символ! Предлагал Кондратович «вынимать шпильки раздражённости» из вещи там и сям, много таких мест. Нашёл он «лишнее» даже в главах о Большой Лубянке. Озаботило его, что ступени лубянские стёрты за тридцать лет, «значит, падает тень и на Дзержинского?» – Заключение же дал удобное в оба конца, как по «Денисовичу» когда-то: «Напечатать невозможно. Но и не напечатать морально невозможно: как допустить, чтоб эта вещь лежала, а читатели её не читали бы»
Задал им задачу Главный! Мягкое окончание чула кололось и верно говорило им, что – нельзя, а Главный понукал: можно! по этому следу!
Затем выступал медленный оглядчивый Закс. Он был так напуган, что даже обычная покорность Твардовскому сползала с него. Он начал с того, что читать надо второй раз (то есть выиграть время). Что он рад: все понимают (Твардовский-то не понимал! вот было горе, вот куда он тянул и намекал) исключительную трудность этого случая. Что, собственно, он ничего не предлагает, а ощущает. Ощущает же он вот что: не нужны и не интересны все главы за пределами тюрьмы, не нужно этого распространения на общество. И неправильно, будто солдату на войне труднее, чем корреспонденту: корреспондентов тоже сколько-то убито (Закс и сам был в такой газете). И ещё он озабочен вопросом о секретной телефонии. (Не отказал ему цензорский нюх! А Твардовский простодушно возразил: «Ну, это ж совершенно фантастическая вещь! Но придумана очень удачно!») И не нравится ему сцена с Агнией и всё это христианство. И где герои философствуют – тоже плохо. И необычно полон набор зацепок, как будто автор специально старался ничего не пропустить. И ещё ему ночь Ройтмана не понравилась очень. (Это он и отдельно потом разъяснил мне.)









































