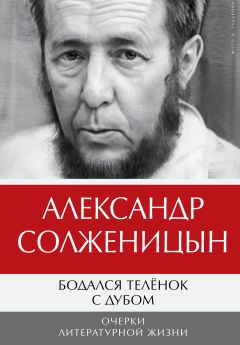
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Тут пришлось мне его прервать:
– Такое уж моё свойство, я не могу обминуть ни одного важного вопроса. Например, еврейский вопрос, – зачем бы он мне нужен? Спокойнее миновать. А я вот не могу.
Привыкли они к литературе, которая боится хоть один вопрос затронуть, – и хомутом трёт им шею литература, которая боится хоть один вопрос упустить.
А предложение своё сформулировал Закс очень дипломатично:
– Раньше времени сунемся – загубим вещь.
Он – за вещь, за! – и поэтому надо придушить её ещё здесь, в редакции!
Но знал А. Т. и такие редакционные повороты!
– Страх свой надо удерживать! – назидательно сказал он Заксу.
Лакшин говорил очень доброжелательно, но сейчас я просматриваю свои записи обсуждения (с большой скоростью пальцев я вёл их в ходе заседания, тем только и занят был), и при распухлости нынешних моих очерков не вижу, что бы стоило оттуда выписать. Лакшин принял линию Твардовского – и обо всём романе и о сталинских главах, что без них нельзя. Однако достаточно было ему в этом именно духе сказать, что публицистические заострения как бы вырываются из общего пласта романа, – Твардовский тотчас же перебил:
– Но осторожней! Это – черты его стиля!
Вот таким он умел быть редактором!
Марьямов выступил в нескольких благожелательных словах – присоединился, похвалил, возразил, что не видит подрывания устоев.
– А что думает комиссар? – спросил Твардовский настороженно. Столько раз по стольким рукописям он соглашался с этим комиссаром, прежде чем создавал своё мнение, да вместе с ним он его и создавал! – а сегодня уже предупреждал, что трудно будет Дементьеву спорить.
И Дементьев не поднялся в ту рукопашную атаку, которой я ждал. Из удручённости своей он начал даже как бы растерянно:
– О конкретных деталях говорить не буду… Трудно собрать мысли… (Уж ему-то, десятижды опытному!..) С советами такому большому художнику рискуешь попасть в неловкое положение… Публицистика иногда – на грани памфлета, фельетона…
Твардовский: – А у Толстого разве так не бывает?
Дементьев: –…но написано гигантски, конечно… Сталинские главы сжать до одной… Если мы на этом свете существуем, не отказались мыслить и переживать, – роман повергает в сомнение и растерянность… Горькая тяжёлая сокрушительная правда… Имея партийный билет в кармане…
Твардовский: – И не только в кармане!
Дементьев: –…начинаешь с ним (билетом) соприкасаться… Пашет эта правда так глубоко, что объективно или субъективно выходит за пределы культа личности… Искусство и литература – великая ценность, но не самая большая. (Разрядка моя – А. С. Для редакции литературного журнала разве диктатура пролетариата не дороже?)…Начинает выглядеть непонятно: ради чего делалась революция? (Управился! – встал в рост! И пошёл в атаку!..) По философской части нет ответов автора: что же делать? Только – быть порядочным? (Он звал меня высунуться по грудь!..)
Твардовский: – Это и Камю говорит. А здесь роман – русский.
Дементьев: – Достоевский и Толстой отвечают на ставимые ими вопросы, а Солженицын – не отвечает…
Твардовский: – Ну да, – как же будет с поставкой мяса и молока?..
Дементьев: – Я пока думаю… Ещё ничего не понимаю…
И этот не понимает!.. Залёг опять. Задал им Главный!.. Тут Марьямов и Закс о чём-то зашептались, А.Т. буркнул: «Что там шепчетесь? Мол, лучше бы нам в обход идти?» Дементьев настолько был взволнован, что принял на свой счёт: «Я не шепчусь…»
И ещё изумительно повернул Дементьев:
– Нельзя ли автору отнестись к людям и жизни подобрей?
Этот упрёк мне будут выпирать потом не раз: вы не добры, раз не добры к Русановым, к Макарыгиным, к Волковы́м, к ошибкам нашего прошлого, к порокам нашей Системы. (Ведь они ж к нам были добры!..) «Да он народа не любит!» – возмущались на закрытых семинарах агитаторов, когда их напустили на меня в 1966.
Но ещё прежде публично секли и меня, и Ивана Денисовича, и особенно несчастную мою Матрёну за то, что мы «слишком добренькие», «неразборчиво добренькие», что нельзя быть добрым ко всем окружающим (вот они к нам и не были!), что доброта ко злу только увеличивает в мире зло. («Октябрь» по дурости долго долбил пустое место «непротивленца», думая, что бьёт – меня.)
А всё вместе? А вместе это называется – диалектика…
После членов редакции слово получил я и удивился, что некоторым членам редакции кажется, будто мой роман относится не к культу личности, явлению очень разветвлённому и ещё не искоренённому, а к нашему обществу, здоровеющему на глазах, или даже к самым идеям коммунизма. Однако случай, конечно, трудный. Выбор стоит перед редакцией, не передо мной: я роман уже написал, и выбирать мне нечего. А редакция два-три раза решит не в ту сторону и, простите за безтактность, обратится в какое-нибудь «Знамя» или «Москву».
Так я наглел. Но щедролюбиво настроенный ко мне Твардовский и здесь не обиделся и не дал никому обидеться, заявив, что я им высказал комплимент: они выше тех журналов.
Всем ходом обсуждения он выдавил из редакции согласие на мой роман и теперь с большим удовольствием заключил:
– Чрезвычайно приятно, что впервые (?) никто не остался в стороне: а я, мол, умненький, сижу и помалкиваю. (Именно так все и старались!..) Сейчас за шолоховскими эполетами забыли, что его герой – не наш герой, а партию у него представляют только неприятные люди. Вопрос «Тихого Дона»: чего стоит человеку революция? Вопрос обсуждаемого романа: чего стоит человеку социализм и под силу ли цена? Содержание романа не противостоит социализму, а только нет той ясности, которой нам бы хотелось. «Война» здесь дана исчерпывающе, а вот «мир» – лучшее из того, что было в те годы, – не показан. Где же историческое творчество масс?.. Скромное моё пожелание как читателя: о, если бы хоть краем зари выступила и такая жизнь! Засветить край неба лишь в той степени, в какой это допускает художник…
Увы, мне уже там нечего было засвечивать. Я считал, что я и так представил им горизонт осветлённый, снял острый «атомный сюжет», какой в самом деле случился, и заменил на «лекарственный» из расхожего советского фильма тех лет.
А Твардовский в эту одну из своих вершинных редакторских минут тоже ни на чём не настаивал:
– Впрочем, будь Толстой на платформе РСДРП – разве мы от него получили бы больше?
В тех же днях настоянием Лакшина был заключён со мною и договор на роман (опасливый Закс почернел, съёжился и сумел как-то отпереться: свою постоянную обязанность поставить подпись пересунуть на Твардовского[15]15
В тех же днях ещё М. А. Лифшиц, ортодокс, имевший долгие годы сильнейшее влияние на Твардовского, дал письменную рецензию на мой роман. Она предваряла собой те тучи критики, которые стянулись бы над романом, будь он напечатан, и, может быть, отчасти поколебала Твардовского. Пришлось мне письменно защищаться, чтобы его подкрепить.
[Закрыть]).
И в нормальной стране – чего теперь ещё надо было ждать? Запускать роман в набор, и всё. А у нас решение редакции было – ноль, ничто. Теперь-то и надо было голову ломать: как быть?
Но кроме обычной подачи в цензуру на зарез – что мог придумать А. Т.? Опять показать тому же Лебедеву? – «Я думаю, – говорил А. Т., – если Лебедеву что в романе и пригрезится, то не пойдёт же он… Это ему самому невыгодно…»
Лебедев, разумеется, не пошёл, – но не пошёл и роман. Я наивно представлял, что для идеологической схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо, и очень пригодятся мои сталинские главы, тем более что поношение Сталина возьмёт на себя не ЦК, а какой-то писатель. Но был август 1964, и, наверно, ощущал уже Лебедев, как топка́ становится почва под ногами его шефа. Уж не раз он, наверно, раскаивался, что запятнал свою репутацию мною.
А. Т. дал ему на пробу только четверть романа, сказав: «Первая часть. Над остальными работает».
Тут сложилось так, что у А. Т. произошло столкновение с Лебедевым из-за Эренбурга. Поликарпов («отдел культуры» ЦК) и Лебедев хотели, чтоб отклонение последней части эренбурговских мемуаров взял на себя Твардовский, то есть чтоб они не были «запрещены цензурой», но «отклонены редакцией». А. Т. ответил им с достоинством: «Не я его сделал лауреатом, и депутатом, и борцом за мир. Я вообще не его поклонник. Но раз уж он и лауреат, и депутат, и всемирно известен, и за 70 лет, – значит, надо печатать, что б он ни написал».
Из-за глав моего романа раздражение ещё усилилось. Лебедев объявил их клеветой на советский строй. А. Т. попросил объяснений. Лебедев ответил единственным примером: «Разве наши министерства работали ночами? Да ещё так – в шашки играют…»[16]16
Совсем недавно мне сказали, что Лебедев был – чекистом… По расчёту времени – при Сталине. Тогда, конечно, не в шашки они играли.
[Закрыть] И посоветовал: «Спрячьте роман подальше, чтобы никто не видел». А. Т. ответил твёрдо: «Владимир Семёнович, я вас не узнаю. Ещё недавно как мы с вами относились к подобным рецензиям и рецензентам?» Лебедев: «Ах, если бы вы знали, кто недоволен теперь и жалеет, что “Иван Денисович” был напечатан!»
(Из других источников, достоверно: Н. П. Хрущёва жаловалась одному генералу-пенсионеру: «Ах, если бы вы знали, как нам досталось за Солженицына! Нет уж, больше вмешиваться не будем!»)
Да и то сказать, не проходит чудо дважды по одной тропочке. Попрекать ли Лебедева, что он отшатнулся? Не удивиться ли верней, как он первый-то раз смелость нашёл?[17]17
После свержения Хрущёва Лебедев, по новой круговой поруке верхов, только должность потерял, но не свергнут был из знатности и не впал в нищету. К. И. Чуковский встречал его в 1965 году в барвихском санатории. Бывший «ближний боярин» писал какие-то мемуары и говорил Чуковскому, что опровергает все мои неточности о сталинском быте (заели-таки его мои главы). Ещё с Новым, 1966 годом он меня поздравил письмом – и это поразило меня, так как я был на краю ареста (а может быть, он не знал?). До него дошли слухи, что мы поссорились с Твардовским, и он призывал меня к примирению. Мне было очень тошно в то время, и я не оценил, может быть, самого безкорыстного душевного движения Лебедева. А потом и с Твардовским у меня целый почти год касаний не было. Недавно же я узнал: именно в тот год, 1966, Лебедев умер, не старше лет пятидесяти. На похороны бывшего всесильного советника не пришёл никто из ЦК, никто из партии, никто из литературы, – один Твардовский. Представляю себе его дюжую широкоспинную фигуру, понурившуюся над гробом маленького Лебедева.
[Закрыть]
На том и кончилось пока «движение» «Круга». Правда, ещё в проспекте на 1965 год Твардовский посмел объявить, что я работаю «над большим романом для журнала».
Я хотел молчать и писать, я хотел воздержаться от всякого елозения моих вещей, – и сам же не выдерживал. Потому что трудно сообразить истинный смысл обстановки и свою верную линию: а вдруг я что-то упускаю? Так по нескольким театрам протаскал я «Свечу на ветру», но не имела та пьеса успеха у режиссёров. А весной 1964, вопреки своей тактике осторожности, просто толчком, я дал в несколько рук свои «Крохотки» на условии, что их можно не прятать, а «давать хорошим людям».
Эти «Крохотки», напротив, имели большой успех. Они очень скоро распространились в сотнях экземпляров, попали в провинцию. Неожиданнее всего было для меня то, что откровенная защита веры (давно ли в России такая позорная, что ни одна писательская репутация её бы не выдержала?) была душевно принята интеллигенцией. Самиздат прекрасно поработал над распространением «Крохоток» и прорисовал недурной выход для писателя, которого власти решили запретить. Распространение «Крохоток» было такое бурное, что уже через полгода – осенью 1964, они были напечатаны в «Гранях», о чём «Новый мир» и я узнали из письма одной русской эмигрантки.
Твардовскому это нелегальное движение даже самых моих мелких (и уже отвергнутых им!) вещей было болезненно неприятно: тут и ревность была, что моё что-то идёт помимо его редакторского одобрения; и опасения, что это может «испортить» роману и вообще моей легальной литературе (а в чём ещё можно было испортить?..). И вот как он менялся или какие были грани в нём самом: давно ли он превзошёл себя в усилиях выдвинуть безнадёжный мой роман, а вот уже брезгливо спрашивал по поводу одной насильно прочтённой моей крохотки (его принудили в пахринской компании, он почти с отвращением читал, – ещё и распространялось не через него!):
– Творец – и с большой буквы? Что это?..
А уж известие, что «Крохотки» напечатаны за границей, было для него громовым ударом. Со страхом прочли они в своём цензурном справочнике, какой это ужасный антисоветский журнал – «Грани». (Там же не было написано, какие в нём бывают статьи о Достоевском, о Лосском…) Впрочем, полгода понадобилось «Крохоткам», чтобы достичь Европы, – для того же, чтоб о случившемся доложили вверх по медлительным нашим инстанциям, и инстанции бы прочухались, – ещё 8 месяцев…
А пока что произошла «малая октябрьская» – сбросили Никиту. Это были тревожные дни. Такой формы «просто переворота» я не ожидал, но к возможной смерти Хрущёва приуготовлялся. Выдвинутый одним этим человеком – не на нём ли одном я и держался? С его падением не должен ли был бы загреметь и я? Естественные опасения для вечно гнаного лагерника, – ведь я и вообразить себе не мог всей истинной силы своей позиции. Беззвучный и бездеятельный до снятия Хрущёва, я намеревался теперь стать ещё беззвучней и ещё бездеятельней. Первым моим рывком была срочная поездка к Твардовскому, на новую дачу. Я был настроен тревожно, он – бодро. Решение пленума ЦК было для него обязательно не только административно, но и морально. Раз пленум ЦК почёл за благо снять Хрущёва – значит, действительно терпеть его эксперименты дальше было нельзя. Два года назад А. Т. весь заполнен был восхищением, что во главе нас стоит «такой человек». Теперь он находил весьма обнадёживающие стороны в новом руководстве (с ним «хорошо говорили наверху»). Да и то признать, последние месяцы хрущёвского правления жилось Твардовскому невыносимо. Минутами он просто не видел, как можно существовать журналу. «Москве» можно печатать и Бунина (кромсая), и Мандельштама, и Вертинского, «Новому миру» – никого, ничего, и даже булгаковский «Театральный роман» два года удерживали – «чтобы не оскорбить МХАТа». – «Нужен верноподданный рассказ от вас», – грустно говорил он, вовсе и не прося.
Я приехал с довольно паническим проектом: подменить роман романом. То есть «Круг», которого ещё пока никто не знает, кроме Лебедева, утерявшего власть, я заберу из сейфа журнала, а вместо этого вскоре дам «Раковый корпус», и это будет считаться «тот самый роман», только переименованный автором. Я опасался, что вот-вот придут проверить сейф «Нового мира», изымут мой роман – и сверзимся мы с Твардовским далеко в преисподнюю. Теперь уж я считал оплошным неразумием, что вытащил роман из подполья и дал читать в редакцию. Теперь я метался – как понезаметнее прильнуть к земле и снова слиться с серым цветом её. Как бы мне по-прежнему тихо писать, расставшись со всякими издательствами?
Но – плохо ещё я понимал Твардовского, предлагая ему такую авантюрно-лагерную затею. Он слишком уважал и свой журнал и свой пост, чтобы действовать методом «заначки» и подмены. Да и: что же прятать, если в романе «нет ничего против идеи коммунизма», как мы согласились на заседании редакции?.. Не мог же я теперь пятиться: вы не доглядели! это – опасней гораздо!
А. Т. боялся другого, он ещё с лета угрожающе выпытывал, не ходит ли роман по рукам? «Есть слухи – его читают», – на всякий случай припугивал он. Он счёл бы это с моей стороны чёрным предательством. Роману закрыли все пути, может быть многие годы он не получит никакого движения, – но я, автор, не смел никому давать его читать. В этом понимал А. Т. смысл нашего союза с редакцией.
Впрочем, в ожидании расправы и мне было не до распространения.
На сковыре Никиты я потерял один полный комплект всего своего написанного: это было второе (из двух) полное хранение, вдали от Москвы. Хранитель (Н. И. Зубов) имел от меня разрешение в случае опасности всё сжечь. Падение Хруща ему, естественно, показалось (в глуши не оценишь) такой опасностью: переворот, начнутся повальные обыски и аресты. И он сжёг. Впрочем, всего было у меня по три-четыре копии, только «Пир победителей» – в двух, и теперь остался лишь один в Москве.
Хрущёвское же падение подогнало меня спасать мои вещи: ведь все они были здесь, все могли быть задушены. В том же октябре с замиранием сердца (и удачно) я отправил «Круг первый» на Запад. Стало намного легче. Теперь хоть расстреливайте!
Однако в свержении Хрущёва было для меня и малое облегчение, – малое, почти призрачное, которое скажется не сейчас, позже гораздо, но оно было: уход Хрущёва освобождал меня от долга чести. Взнесенный Хрущёвым, я при нём не имел бы настоящей свободы действий, я должен был вести себя благодарно по отношению к нему и Лебедеву, хоть это и смешно звучит для бывшего зэка, – с простой человеческой благодарностью, которую не может отменить никакая политическая правота. Освобождённый теперь от покровительства (да было ли оно?), я освобождался и от благодарности.
Я верил, что лучшие времена будут и даже суждено мне до них дожить, что ещё наступит время полной публичности. А пока я избирал себе путь многолетнего молчания и скрытого труда. По возможности не делать ни одного общественного шага, дать себя забыть (о, если бы забыли!..). Никаких попыток печатания. А самому – писать, писать. Разве это плохо?.. Мне казалось – мудрая линия. А это было – самоуничтожение.
Полгода потом я и в «Новом мире» не был, – нечего делать. Всю зиму с 64-го на 65-й работа шла хорошо, полным ходом я писал «Архипелаг», материала от зэков теперь избывало. Торопя судьбу, нагоняя упущенные полстолетия, я бросился в Тамбовскую область собирать остатки сведений о крестьянских повстанцах, которых уже сами потомки и родственники заученно звали бандитами.
Гонений мне как будто не добавилось. Как заткнули мне глотку при Хрущёве, так уж не дотыкали плотней.
И я опять распустился, жил как неугрожаемый: затевал переезд в Обнинск, близ него купил садовый участок на реке Истье у села Рождества. Разрывался писать и «Архипелаг» и начинать «Р-17».
Впрочем, новое руководство отличалось вообще большой осмотрительностью и очень медленно что-нибудь решало или изменяло. Только в апреле 1965 у «агитпропа», или как он там называется, появился начальник – Демичев. Но тут Твардовский был в долгом упадке, в больнице и санатории (чисто русский способ! из самого безпросветного тупика, напряжения, обиды издательской работы он мог на две, на три недели, а в этот раз и на два месяца выйти по немыслимой алкогольной оси координат в мир, не существующий для его сотрудников-служащих, а для него вполне реальный, и оттуда вернуться с телом больным, но с отдохнувшей душой). Лишь в июле Твардовский явился к Демичеву на первый приём. Приём прошёл доброжелательно, и высказал Демичев, что хотел бы видеть и этого Солженицына. Где меня искать, Твардовский не знал, и не обещал, но в этот день меня с неудержимостью вдруг потянуло в «Новый мир», – толкуй, что нет передачи мыслей и воль. Оттуда А. Т. созвонился тотчас, и назавтра, 17 июля, мне был назначен приём.
Почти вся редакция сидела в кабинете Твардовского. Давно я их всех не видел, и показалось мне чуждо и скучно с ними. В голове-то был – «Архипелаг» да Тамбов 1921 года, а они хором требовали от меня «проходимого рассказика», будто бы публикация «чего-нибудь» после моего двухлетнего перерыва (и в знак лояльности к новому Руководству) сейчас очень важна.
Для них и для лояльного «Нового мира» – конечно да. А для меня «проходимый рассказик» был бы порчей имени, раковиной, дуплом. Сила моего положения была в чистоте имени от сделок – и надо было беречь его, хоть десять лет ещё молчать.
А ещё все они (вслед за Твардовским, правда; это очень наглядно было у них, как они единодушно поддерживали мнение шефа по любым пустякам) настаивали, чтобы для завтрашнего визита я сбрил недавно отпущенную бороду. Независимый и безпартийный русский писатель, идя представляться начальнику партийного агитпропа (с какой вообще стати? зачем?), я должен был непременно принять тот безликий вид, к которому привыкли в партаппарате. И так серьёзно меня в этом убеждали, будто серьёзней и дела в редакции не было. Я трижды, четырежды уклонялся (не прямо, конечно, о партаппарате), – тогда стали требовать, чтобы я шёл не в легкомысленной апашке, да ещё навыпуск, а в чёрном костюме при галстуке, – это в июльскую жару! (Конечно я так не пошёл.)
Пытался я поговорить с А. Т. вдвоём, но получилась пустота, ничего. Он возбуждён и даже окрылён был тем, что с ним ласков Демичев, и очень много возлагал на мою завтрашнюю встречу: что от неё укрепится и моё положение и новомирское.
А я шёл на встречу с такой задачей: как можно дальше продвинуть ничейное сосуществование. Я не опасен вам нисколько – и оставьте меня в покое. Я очень медленно работаю, и у меня почти ничего не написано, кроме того, что напечатано и в редакции. И, в конце концов, я – математик, и готов вернуться к этой работе, раз литература не кормит меня.
Это был – исконный привычный стиль, лагерная «раскидка чернухи»; и прошло великолепно. Сперва очень настороженный и недоверчивый, Демичев в ходе двухчасовой беседы потеплел ко мне и во всё поверил. В его тихом голосе совсем отсутствовало живое чувство, но к концу даже проявилось – облегчением. Он был крайне невзрачен, и речь его была стёртая.
К этому времени уже начала проявляться та «клевета с трибуны», которой в открытом обществе никак не применить, потому что обвиняемый может всегда ответить, а в нашем закрытом – форма безпромашная и убойная: печать хранит молчание (это – для Запада, чтобы к травле не привлекалось внимание), а на закрытых собраниях и инструктажах ораторы по единой команде произносят многозначительно и уверенно любую ложь о неугодном человеке. Он же не только доступа не имеет на те собрания и инструктажи – для ответа, но долгое время не знает даже, где и что о нём говорили, лишь застаёт себя охваченным стеною глухой клеветы.
Ещё были только начатки этой клеветы, ещё и форма не прорисовалась, но уже объявили, что я изменил родине, был в плену, был полицаем. Подавать в суд? Но клеветников слишком много, и они занимают официальные посты.
Демичев смотрел строго-сочувственно, сочувственно-осуждающим глазом (второй – не совсем в порядке).
Сам направляя разговор, я затеял отвечать на газетную критику «Матрёниного двора». Что за глупый журналистский упрёк: почему я не поехал за 20 километров показать передовой колхоз?[18]18
Критики просто не заметили, я упомянул: «соседнего председателя», который поднял колхоз на лесной спекуляции, – намёк на того самого Горшкова, которого мне критик и ставил в пример.
[Закрыть] – ведь я не журналист, а учитель, и работаю там, куда меня назначили. И потом, чем мрачна моя колхозная картина, если «Известия», разнося меня, сами подтвердили, что не одна Матрёнина деревня, но и весь куст колхозов, и не в 1953, но через 10 лет, ещё не собирает столько хлеба, сколько сам же сеет в землю?! Хорошенькое сельское хозяйство – устройство по сгноению зерна!.. А тип женщины безкорыстной, безплатно работающей хоть на колхоз, хоть на соседей? – разве не хотим мы видеть безкорыстными всех?
Он всё молчал, и я задал вопрос, который не полагается задавать снизу вверх:
– Вы – согласны со мной? Или хотите возразить?
Призыв был слишком неожиданным, мнение ещё не избрано (да и не могло быть избрано единолично им!), аргументы мои никак не подходили под установленную у них систему фраз, и он закинул вопрос далеко в сторону:
– Всегда ли вы понимаете, что́ пишете и для чего?
Тихо!.. Я-то, конечно, всегда понимаю, для этого я достаточно испорчен русской литературной традицией. Но объявлять об этом рано. Осторожными шагами я иду по скользкому:
– Смотря в каких вещах. «Для пользы дела» – да: утвердить ценность веры у молодёжи; напомнить, что коммунизм надо строить в людях прежде, чем в камнях. «Кречетовка» – с заведомой целью показать, что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейства, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе. (Впрочем, Демичев сказал позже, что ни «Пользы дела», ни «Кречетовки» не читал и не подготовлен был к разговору со мной.) А в «Матрёне» и в «Денисовиче» я… просто шёл за героями. Никакой цели себе не ставил.
(Это место окажется для него ключевым в разговоре. В нескольких публичных выступлениях он будет рассказывать одними и теми же словами, как он припёр меня к стенке вопросом – зачем я пишу, и я не нашёлся ничего сказать, кроме как повторить устаревший и уже не годный для соцреализма довод – «иду за героями». А их надо вести за собой…)
Защищая «Денисовича», я дуплетом ударил по книжке Дьякова (интеллигент-то высокий, да почему кирпичиков не кладёт на социализм? почему за 5 лет только и выполнил полчаса бабьей работы – сучья обрубал?..) и по рассказам Г. Шелеста (как его любимый герой мог брать хлеб и еду, воруемую у работяг, и притом конспектировать Ленина?). Но поведение шелестовского старого коммуниста не показалось Демичеву предосудительным, напротив, тут-то он с готовностью мне возразил:
– А разве Иван Денисович не замотал лишнюю порцию каши?
– Так то ж Иван Денисович! Он же интеллектуально не дорос, он Ленина не конспектирует! Он же лагерем испорчен! Мы ж его жалеем, что он только и борется за пайку.
– Да, – важно сказал Демичев. – Хотелось бы, чтоб он больше прислушивался к тамошним сознательным людям, которые могли бы дать ему объяснение происходящего…
(А где ты был со своим объяснением, когда это происходило? Что б вы с той повестью бедной сделали, если б я ещё всё объяснил?..)
Я: – Для охвата всей лагерной проблемы потребовалась бы ещё одна книга. Но – (выразительно) – не знаю, нужно ли?
Он: – Не нужно! Не нужно больше о лагере! Это тяжело и неприятно.
Повторяя, что я ни в чём написанном не раскаиваюсь и снова всё написал бы так же, я внедрял в него свой замысел: что очень медленно работаю и поэтому подумываю вернуться к математике (это он принял явно без тревоги за отечественную литературу); что очень бываю недоволен своими вещами и часто уничтожаю написанное.
– Скажу вам совсем нескромно: мне хочется, чтобы вещи мои жили двадцать, тридцать и даже пятьдесят лет.
Он простил мне такую нескромность и с теплотой указал на Гоголя, сжегшего вторую часть «Мёртвых душ».
– Во-во. И я так же делаю.
Очень он был доволен.
– А сколько времени вы писали «Ивана Денисовича»?
– Несколько лет, – вздохнул я. – Не сочтёшь.
Я всё ждал вопроса о «Круге», который уже год томился в сейфе «Нового мира». Я ждал вопроса о «Крохотках», напечатанных на Западе. Но руководитель агитпропа ни о чём этом не знал.
На градусе взаимной откровенности выдал я ему и свои творческие задушевные планы: «Раковый корпус».
– Не слишком ли мрачное название?
– Пока условное. Там будет работа врачей. И душевное противостояние смерти. И казахи и узбеки.
– А это не будет слишком пессимистично? – всё-таки тревожился он.
– Не-ет!
– А вы вообще – пессимист или оптимист?
– Я – неискоренимый оптимист, разве вы не видите по «Ивану Денисовичу»?
И изложил он мне, чего не надо и чего не хочет партия в произведениях (это очень чётко, уже готовое было у него в голове):
1) пессимизма; 2) очернительства; 3) тайных стрел.
(Я поразился, как точно было выражено третье, да будто прямо обо мне. Узнать бы, кто там у них формулировал?..)
«Тайные стрелы» я замял, а «очернительство» хотел термин уточнить. Вот например, богучаровские мужики, которые княжну Марью не отпускают эвакуироваться (а уж сами-то верно ждут Наполеона), – это очернительство патриотической войны или нет?
Но видно, не читал Демичев той книги, не вышло спора. А разговор складывался всё лучше и лучше.
– Мне нравится, что вы не обиделись на критику и не огорчились, – уже не без симпатии говорил он. – Я боялся, что вы озлоблены.
– Да в самые тяжёлые минуты я никогда озлоблен не был.
По мере разговора он несколько раз мне выкладывал даже и без нужды: «Вы – сильная личность», «вы – сильный человек», «к вам приковано внимание всего мира». – «Да что вы! – удивлялся я. – Да вы преувеличиваете!» (Он таки и преувеличивал: на Западе свыше политической моды почти и не понимали меня.)
– Приковано, – недоумевал он и сам. – Судьба сыграла с вами такую шутку, если можно так выразиться.
Всё более ко мне расположенный, уж он взялся меня даже утешать:
– Не всех писателей признают при жизни, даже в советское время. Например, Маяковский.
(Ну и я ж этого хочу! – не будем друг друга трогать, отложим дело до вечности.)
– Я вижу, вы действительно – открытый русский человек, – говорил он с радостью.
Я безстыдно кивал головой. Я и был бы им, если б вы нас не бросили на Архипелаг ГУЛАГ. Я и был бы им, если б за 48 лет хоть один бы день вы нам не врали, – за 48 лет, как вы отменили тайную дипломатию и тайные назначения, хоть один бы день вы были с нами нараспашку.
– Я вижу, вы действительно – очень скромный человек. С Ремарком у вас – ничего общего.
Ах вот, оказывается, чего они боялись, – с Ремарком!.. А русской литературы они уже отучились бояться. Сумеем ли вернуть им этот навык?
Я радостно подтвердил:
– С Ремарком – ничего общего.
Наконец, всеми своими откровенностями я заслужил же и его откровенность:
– Несмотря на наши успехи, у нас тяжёлое положение. Мы должны вести борьбу не только внешнюю, но и внутреннюю. У молодёжи – нигилизм, критиканство, а некоторые деятели только и толкают, и толкают её туда.
Но не я же! Я искренно воскликнул, что затянувшееся равнодушие молодёжи к общим и великим вопросам жизни меня возмущает.
Тут выяснилось, что мы с ним – и года рождения одного, и предложил он вспомнить нашу жертвенную горячую молодость.
(Была, товарищи, была… Да только история так уныло не повторяется, чтоб опять… У неё всё-таки есть вкус.)
Оба мы очень остались довольны.
Я не просил его ни печатать сборника моих рассказов, ни помочь мне с пьесами. Главный результат был тот, что совершенно неожиданно, без труда и подготовки, я укрепился при новых руководителях и теперь какое-то число лет могу спокойно писать.
– Они не получили второго Пастернака! – провожал меня секретарь по агитации.
Нет, среднему инженеру или математику XX века никогда не привыкнуть к тем черепашьим скоростям, с которыми Старая Площадь оборачивается получать информацию в собственном аппарате! Только 9 месяцев прошло, как «Крохотки» напечатаны в «Гранях», – откуда ж Демичеву знать?.. Поликарпов узнал только месяц назад, показывал Твардовскому и спрашивал – мои ли. Твардовский ответил, что он уверен: большинство – не мои.
Ведь Твардовский же не видел всех – вот и уверен, что не мои! И так уверен, что, посылая меня к Демичеву, даже не вспомнил о том разговоре, не предупредил, – а я ведь сказал бы, что все мои! Тут номенклатурная логика: подчинённому (мне) не надо знать всего, что знает начальник (он). И подчинённый (я) не мог же написать такого, о чём не поставлен в известность начальник (он).
Но вдруг случайно узнал А. Т., что журнал «Семья и школа» собирается часть из этой серии напечатать на родине. Он пришёл почти в смятение: ведь он поручился перед начальством, что «Крохотки» – не мои! К тому ж его язвила ревность: ведь никто другой (и ни сам я!) не имел прав на опубликование моих произведений, а только «Новый мир». А «Крохотки» он три года назад определил как «заготовки», – о каком же печатании речь? И наконец, раз произошло такое ужасное несчастье, что они напечатаны на Западе, значит на родине они не будут напечатаны никогда! (Это понимание зарубежных изданий как безнадёжной потери для рукописи и унижения для автора сохранялось у Твардовского все годы, что я знал его. С такой же брезгливостью он сперва относился и к Самиздату. Признавал он только то открытое казённое печатание, которое авторам его журнала было закрыто как никому.)
И стал он меня немедленно вызывать. Наверно, и в других издательствах так, но я по «Новому миру» знаю и не перестаю удивляться: что-то не так автор сделал – и вызывается в свою редакцию! Автор рассматривается, видимо, как состоящий на государственной службе в своём журнале и, как на всякой другой службе, может быть своим начальником востребован.









































