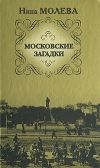Читать книгу "Пушкинские места России. От Москвы до Крыма"
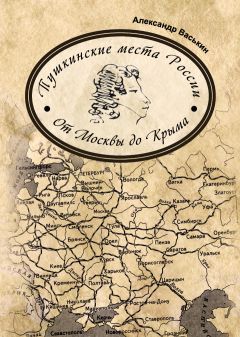
Автор книги: Александр Васькин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но это все официальная хроника. А что же было между строк? По словам очевидца, коронационные торжества проходили в тени декабристских казней: «Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, нет возможности: словно каждый лишался своего отца или брата. Вслед за этим известием (о казни. – А.В.) пришло другое – о назначении дня коронования Императора Николая Павловича. Его приезд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых московских вельможей, – все происходило под тяжелым впечатлением совершившихся казней. Весьма многие оставались у себя в деревнях; и принимали участие в упомянутых торжествах только люди, к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен; вид его производил на всех отталкивающее действие; будущее являлось более чем грустным и тревожным».
Мрачное настроение государя то ли передалось москвичам, то ли, напротив, было вызвано настороженным отношением Москвы к царю. Все все понимали, но вслух старались не произносить. Месяц, проведенный Николаем Павловичем в Москве, не изменил ситуацию в лучшую сторону. Москвичи не оценили его доброты, когда он заменил декабристам четвертование повешением. «Все это не помешало московскому населению, – свидетельствовал Н.И. Сазонов, – остаться холодным и равнодушным к молодому императору, и Николаю много раз приходилось с огорчением замечать, что среди всех его придворных единственным человеком, вызывающим сочувствие и симпатию в народе, была старая княгиня Волконская, мать генерала Волконского, приговоренного к пожизненной каторге».
Для Николая все более актуальным становился вопрос о необходимости приятия такого решения, которое в корне позволило бы ему изменить общественное мнение. Но как это продемонстрировать? Посыл должен быть знаковым, после чего москвичи задумаются – а уж такой ли лютый тиран Николай Павлович? И хочет ли он действительно превратить Россию в одну большую Петропавловку? Быть может, он не такой и деспот, а, скорее, вынужден был им стать вследствие возникших обстоятельств. На самом деле он другой (вот и либерала Жуковского назначил воспитателем наследника престола). И даже сочувствует некоторым пострадавшим, «сообразуясь с Высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленным смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определенным», – так говорилось в приговоре суда над декабристами.
Тут и пригодилось покаянное письмо Пушкина, посланное им из Михайловского. Пройдя, наконец, через бюрократическое сито и, к счастью, не застряв надолго в руках разного уровня чиновников, оно дошло до адресата и показалось Николаю I на редкость своевременным. 28 августа государь соизволил «высочайше Пушкина призвать сюда».
Почувствовал царь, что и место, и время для публичного прощения Пушкина и окончания его ссылки подходит как нельзя кстати. И это он должен сделать лично, не доверяя своим вельможам и отдавая тем самым должное таланту и авторитету поэта в глазах общества. И не в Петербурге его надобно принять, где в толпе жаждущих попасть на царскую аудиенцию поэт может и затеряться, а именно в Первопрестольной, превратив долгожданную встречу в историческую, сделав ее частью коронационных торжеств. В Петербурге он казнил, а в Москве простит. Но самое главное, что Николай решил показать: не с казни началось его истинное царствование, а с прощения Пушкина. Тем самым царь как бы переворачивал прежнюю, связанную с декабристами страницу.
Интересно, что и Пушкин с коронацией связывал определенные надежды. И здесь его опять же поддерживали друзья. Еще 7 апреля Дельвиг пишет ему в Михайловское: «Дождись коронации, тогда можно будет просить царя, тогда можно от него ждать для тебя новой жизни. Дай Бог только, чтоб она полезна была для твоей поэзии». Пушкин ждал коронации, 14 августа признавшись Вяземскому, что надеется на нее: «Повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Поэт рассчитывал на милость царя не только по отношению к себе, но и к декабристам, на возможную амнистию.
И вот к изумлению многих москвичей в привычную уже череду празднеств вмешалось совершенно неожиданное событие – царь принял в Малом Николаевском дворце Кремля (снесен в 1929 г.) не иностранного дипломата или высокого вельможу, а… ссыльного Александра Пушкина! Сам факт встречи произвел огромное впечатление и на всю Россию. Ибо Пушкин к тому моменту не находился на какой-либо службе, будь то государственная или военная: «Это было неслыханное событие! Ибо никогда еще не видано было, чтобы царь разговаривал с человеком, которого во Франции назвали бы пролетарием и который в России имел гораздо меньшее значение, чем пролетарий у нас, ибо Пушкин, хотя и был дворянского происхождения, не имел никакого чина в административной иерархии, а человек без ранга не имеет в России никакого общественного значения, его называют "homme honoraire" – существом сверхштатным», – удивлялся Адам Мицкевич.
Повеление царя исполнили точно, доставив поэта в Кремль незамедлительно: в 4 часа пополудни 8 сентября 1826 г., прямо с дороги, он даже не завез багаж в гостиницу. Ему не дали времени ни переодеться, ни побриться, как будет рассказывать брат Лев, «небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя».
А царь в это время готовился к балу, что давал прибывший на коронацию французский маршал Огюст Фредерик Луи Виесс де Мармон, герцог Рагузский. Бал должен был пройти в доме князя Куракина на Покровке. И вдруг – Пушкин! Значит, для Николая I встреча с ним имела первостепенный характер.
Тот сентябрьский день выдался холодным – всего 8 градусов, и потому в царском кабинете горел камин. Царю и поэту было о чем поговорить. Познакомиться они могли бы еще в 1811 г., ибо Царскосельский лицей и создавался с целью воспитания в нем братьев Александра I, дабы избавить их от влияния матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Но не сложилось: Николая и Михаила воспитывал граф Матвей Ламздорф, сторонник строгих педагогических методов.
Стенограмма той встречи не велась, более того, не было сделано и записи в камер-фурьерском журнале. Но осталось порядка тридцати рассказов о ней, число которых лишь множилось с течением времени. Конечно, нам было бы интересно сравнить, как рассказывал об этой встрече царь и что говорил Пушкин. Со слов царя директор Императорской публичной библиотеки М.А. Корф (кстати, соученик Пушкина по лицею) в 1848 г. записал в своем дневнике следующее:
«Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения в Москву совсем больного и покрытого ранами – от известной болезни. "Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?" – спросил его между прочим. – "Стал бы в ряды мятежников", – отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием – сделаться другим».
Гораздо больше свидетельств было сделано друзьями и знакомыми Пушкина, и даже агентами тайной полиции. Так, москвичка А.Г. Хомутова писала: «Рассказано Пушкиным. Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непроизвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет императора, который сказал мне: "А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?" Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня: "Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?" – "Неизбежно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо". – "Ты довольно шалил, – возразил император, – надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором"».
И в том, и в другом рассказе есть немало общего, сведений набралось на два абзаца, но беседа-то продолжалась больше часа. О чем же еще говорили в Малом Николаевском дворце поэт и царь? Ответить на этот вопрос помогает одна из самых поздних по времени публикаций – мемуары польского литератора Юлиуша Струтыньского, опубликованные в 1873 г. в Кракове. Они куда более подробны и рисуют образ совсем другого Пушкина, не того, который был, по выражению современников, «обольщен царем» (этой точки зрения придерживался Александр Герцен). Вот, например (если верить мемуаристу), что говорил Пушкин о Николае: «Не купил он меня золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродажен и придворных милостей не ищу; не ослепил он меня блеском царского ореола, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме совести и Бога я не боюсь никого, не дрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю, люблю свободу и славу отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил; однако я должен признать (ибо отчего же не признать), что Императору Николаю я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще долго и может быть тщетно… Вместо надменного деспота, кнутодержавного тирана я увидел человека рыцарски-прекрасного, величественно-спокойного, благородного лицом».
Важно не только то, что говорилось во дворце, но и то, что было сказано после. По словам Мицкевича, «Пушкин был тронут и ушел глубоко взволнованный. Он рассказывал своим друзьям-иностранцам, что, слушая императора, не мог не подчиниться ему. "Как я хотел бы его ненавидеть! – говорил он. – Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?"». А иные мемуаристы утверждают, что Пушкин вышел из царского кабинета со слезами на глазах от переполнявших его эмоций, видимо подвигнувших его на написание знаменитых «Стансов» в декабре 1826 г., где он сравнил Николая I с Петром Великим:
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
Что же до царя, то вечером, на том самом балу, он назвал Александра Сергеевича «умнейшим человеком в России» (в разговоре с Д.Н. Блудовым). Слова эти тотчас разошлись по Москве. Что имел в виду государь? Вероятно, что речь шла о самых разных внутриполитических вопросах, обсуждавшихся при разговоре, в частности о народном воспитании. Спустя два месяца поэт представил царю записку на эту тему. Можно предположить, что разговор в Кремле шел и о будущем учреждении «секретного комитета 6 декабря 1826 года», который должен был заниматься вопросом о положении крестьян, о планах преобразований.
Войдя в кабинет царя ссыльным, поэт вышел оттуда свободным (хотя присматривать за ним не перестали). Но и царь приобрел союзника, недаром он сказал: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин» (по воспоминаниям В.Ф. Вяземской). Вполне верится и в то, что они пожали друг другу руки. А Пушкин еще и дал царю слово, что следует из письма к нему Бенкендорфа, написанного спустя восемь месяцев: «Его величество… не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, – будет в полном смысле сдержано». Сдержать данное слово призывал Пушкина ранее и Вяземский.
«…Все прыгают и поздравляют тебя», – писал поэту Дельвиг из столицы, узнав о том, как счастливо окончилась поездка друга в Москву. Пушкин дал большую пищу не только современникам, но и исследователям своего творчества своим разговором с царем. В частности, Ю.М. Лотман утверждал, что Пушкин «желал направить молодого государя на путь реформ». Но вряд ли поэт (он был на три года моложе Николая) мог иметь такое огромное влияние на царя, чтобы куда-то его направлять. Николай I, судя по всему, не читал его стихов до этого разговора, будучи лишь много наслышан о них от тех же декабристов на допросах, приказав изъять их из следственных дел и сжечь.
После этой встречи Пушкин «подружился с правительством», получил разрешение проживать в Москве и Петербурге и освобождение от общей цензуры. Отныне его цензором стал сам Николай I, что ставило поэта в особое привилегированное положение – жаловаться оставалось только Господу Богу. Прямая связь с царем осуществлялась через Бенкендорфа (см. его письмо Пушкину от 30 сентября 1826 г.). Естественно, что такой ход событий заведомо определял Пушкина в число сторонников царя, а как же иначе – получить такое доверие монарха не могло означать ничего иного.
Та встреча, высвободившая Пушкина из ссылки, выражаясь словами Дельвига, оказалась полезной для его поэзии, дав ему возможность подняться на литературный пьедестал. В сентябре 1826 г. Пушкин приехал на свою собственную коронацию – первого поэта России. Уехавший из Москвы двенадцатилетним мальчиком, он вернулся в родной город «идолом народным»: «Москва приняла его с восторгом. Везде его носили на руках. Слава Пушкина гремела повсюду; стихи его продавались на вес золота, едва ли не по червонцу за стих; "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Цыгане" читались во всех гостиных», – вспоминал А.Н. Муравьев.
Однако нашлись и недовольные, фрондирующей части общества был нужен Пушкин ссыльный, а не свободный, о чем свидетельствовал Мицкевич: «Либералы, однако же, смотрели с неудовольствием на сближение двух потентатов (имеются в виду Пушкин и Николай I. – А.В.). Начали обвинять Пушкина в измене делу патриотическому». И в Москве, и в Петербурге стала известной оскорбительная эпиграмма А.Ф. Воейкова:
Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал,
И стал придворный лизоблюд.
Пушкин вынужден объясняться в стихотворении «Друзьям»:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
Текла в изгнаньe жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер – и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
В последней строфе выражены последствия того разговора в Кремле – Пушкин обязан посылать все свои готовящиеся к печати произведения Николаю I, отчитываться перед шефом жандармов о своих поездках, объясняться перед московским полицмейстером за «Андрея Шенье». Александр Сергеевич и это стихотворение дисциплинированно послал царю, который остался совершенно им доволен, но не пожелал, «чтобы оно было напечатано». В 1834 г. Пушкин, разочаровавшись в Николае I, запишет в дневнике: «Кто-то сказал о государе: – Il y a beaucoup du praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand. (с фр. – В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого)».
Каким увидели московские обыватели Пушкина осенью 1826 г. и насколько их ожидания оправдались? Вероятно, большая их часть представляла себе Пушкина как на портрете, помещенном в первом издании «Кавказского пленника» 1822 г., – кудрявым пухлым юношей с приятною улыбкой… Теперь это был уже совершенно другой человек: «Худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волосов. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось. Я был так поражен неожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления и уверить себя, что передо мною находился Пушкин», – писал один из впервые увидевших поэта современников.
А те, кто был знаком с Пушкиным ранее, отмечали произошедшие с ним изменения: «Пушкин очень переменился и наружностью: страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выраженье; впрочем, он все тот же, – так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению».
Да, переменился Пушкин. Но ведь и Москва изменилась, она стала другой. Если 1812-й год преобразил ее внешне, то отголоски декабристского восстания, грянувшего в 1825 г., привнесли немало нового в атмосферу московской жизни, о чем Александр Сергеевич не преминул написать в статье «Путешествие из Москвы в Петербург»:
«Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству; некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму…
Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет в Марьину Рощу в карете из кованого серебра 84-й пробы. Третий на запятки четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербургские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать. Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники – все исчезло: остались одни невесты, к которым нельзя по крайней мере применить грубую пословицу «vielles comme les rues» (франц. «стары, как улицы»): московские улицы благодаря 1812 г. моложе московских красавиц, все еще цветущих розами!
Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона – и то слава богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает.
Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейстеров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало, уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями.
Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее частию от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частию от других причин, о которых успеем еще потолковать».
Эти строки будут написаны в 1833–1834 гг., а пока 8 сентября из Кремля поэт отправился в нумера отеля «Европа», располагавшегося в доме Часовникова (не сохр.). Затем – к дяде на Старую Басманную, затем к… Ссылка кончилась, после пятнадцатилетней разлуки с Москвой Пушкин был нарасхват…
«Василья Львовича узнал ли ты манер?»
Дом П.В. Кетчер (Старая Басманная улица, № 36) построен после 1819 г. на месте сгоревшего здания. Здесь в 1826 г. жил Василий Львович Пушкин, дядя Александра Сергеевича. В ту пору фасад дома выделялся дорическим четырехколонным портиком. В конце XIX в. внешний вид здания изменился, исчезли и барельефы с фасада.
Василий Львович Пушкин совершенно не походил на одного всем известного пушкинского дядю, что жил в романе «Евгений Онегин» и был «самых честных правил». Настоящий дядя Пушкина в деревне почти никогда не жил, а обитал, в основном, в Москве, по которой мог пройти с закрытыми глазами. 8 сентября 1826 г. на Старую Басманную к «любезнейшему из всех дядей-поэтов здешнего мира», как окрестил его Пушкин еще в 1816 г., племянник совершил свой первый московский визит (не считая, конечно, аудиенции у царя). В тот день у дяди Пушкин встретился со своим давним приятелем Сергеем Александровичем Соболевским, бывшим однокашником брата Льва по Благородному пансиону, с которым Пушкин близко сошелся в Петербурге еще до ссылки. Именно Соболевскому суждено будет стать «путеводителем» и главным доверенным лицом поэта в Москве (в свой следующий приезд в Москву 19 декабря 1826 г. Пушкин поселится именно у Соболевского на Собачьей площадке, дом не сохранился).
Встреча друзей случилась так. Недалеко от дома дяди стоял особняк князя Куракина. «Самое то время, когда царская фамилия и весь двор, пребывавшие тогда в Москве по случаю коронации, съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу, маршалу Мармону, в великолепный дом кн. Куракина на Старой Басманной…Один из самых близких приятелей Пушкина (С.А. Соболевский), узнавши на бале у французского посла, от тетки его Е.Л. Солнцевой, о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме, в мундире и башмаках… Соболевский застал Пушкина за ужином. Тут же, еще в дорожном платье, Пушкин поручил ему на завтрашнее утро съездить к известному "американцу" графу Толстому с вызовом на поединок. К счастью, дело уладилось: графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противники помирились», – писал Бартенев. О причинах несостоявшейся дуэли мы еще расскажем.
Дмитриев, Карамзин, Батюшков, Пушкин – в таком порядке назвали имена лучших поэтов России в 1810-х гг. Причем Пушкин – Василий Львович. Поэтическая слава фамилии Пушкиных разнеслась по России еще до того, как впервые проклюнулся талант Александра Пушкина. Его младший брат Левушка с гордостью говорил друзьям по Благородному пансиону: «Я – родной племянник Василья Львовича!»
Владислав Ходасевич нарисовал весьма нелицеприятный портрет пушкинского дяди: «Был у Сергея Львовича старший брат, Василий Львович. Наружностью они были схожи. Оба имели рыхлые пузатые туловища на жидких ногах, волосы редкие, носы тонкие и кривые; у обоих острые подбородки торчали вперед, а губы сложены были трубочкой. У Василия Львовича были вдобавок редкие и гнилые зубы».
Не пощадил фигуру Василия Львовича и Юрий Тынянов, выведя его тщеславным фанфароном, «с косым брюхом и короткими ногами», да еще и косоглазым «от природы». Характеристики даны с такими подробностями, будто бы писались с натуры. Почему-то особенно не понравились процитированным литераторам ноги Василия Львовича.
Насколько внешний облик этого человека соответствовал его «морально-нравственным» качествам? Таким ли был Василий Львович Пушкин, поэт-карамзинец, критик, библиофил и театрал, ветеран литературных войн, член литературного общества «Арзамас» по кличке «Вотрушка»?
Московский уроженец (родился в 1766 г.), служил он в Измайловском полку, из которого в 1797 г. гвардии поручиком вышел в отставку. Более нигде не числился и не работал, полностью отдавшись сочинению элегий, басен, экспромтов и прочих поэтических миниатюр. Переломным моментом в его биографии стал вояж за границу в 1803–1804 гг., вызвавший немало толков в кругах «московской общественности». Баснописец Иван Дмитриев отозвался на сие событие ироническим стихотворением «Путешествие N.N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия» (уже в самом названии – издевка). Под инициалами N.N. автор вывел шаржированный образ Василия Львовича, хвастающего читателю:
Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе…
Мой маленький журнал читать…
…
Я вне себя от восхищенья!
В каких явлюсь к вам сапогах!
Какие фраки! Панталоны!
Всему новейшие фасоны!
После возвращения «оттуда» авторитет Василия Львовича начал расти как на дрожжах. Он «был в блеске и славе, признанный поэт и московский ветреник», – писал Тынянов. Он не только приоделся в Париже, произведя настоящий фурор среди московских модниц, но и привез с собою ценнейшую библиотеку, сразу ставшую пределом мечтаний записных библиофилов, и даже графа Бутурлина. Потянулся к книжным полкам дяди и подрастающий кучерявый племянник.
«Про него говорили: "c’est un Poete!!!", с каким благоговением я стал смотреть на него!!! Это было первое впечатление; впоследствии меня привлекли к нему рассказы о Париже, Наполеоне, других знаменитостях, с которыми меня знакомили книги; сверх того, он стал обращать внимание на меня, учил меня громко читать, как читывал Тальма, и сцены из французских трагиков, и "Певца" Жуковского, и оду Карамзина "Конец победам! Богу слава!", и даже слушал и поправлял мои вопросы! Как же мне было не любить этого доброго Василья Львовича?» – вспоминал Соболевский.
Наполеона Василий Львович и вправду видел, удостоившись у него приема: «Мы были в Сен-Клу представлены первому консулу. Физиогномия его приятна, глаза полны огня и ума; он говорит складно и вежлив. Аудиенция продолжалась около получаса».
Не только сверстники Пушкина, но и дамы более сознательного возраста с придыханием внимали доброму Василию Львовичу (во многих мемуарах той поры имя и отчество его неразрывно упоминаются с прилагательным «добрый») – ведь он захватил с собою из Франции еще и рецепты парижских ресторанов.
Как и его брат Сергей, твердой преданностью семейным устоям Василий Львович не отличался. Разведясь в июле 1806 г. с Капитолиной Михайловной Вышеславцевой, согласия Церкви на второй брак он не получил (причина развода – измена первой жене, в которой он сам же письменно и признался). Поэтому со следующей женой – вольноотпущенной Анной Николаевной Ворожейкиной – жил он гражданским браком. С ней же он и выехал в Петербург летом 1811 г., когда повез племянника для определения его в Царскосельский лицей.
В том же году Василий Львович прославился на поэтической ниве, написав фривольносатирическую поэму «Опасный сосед», чрезвычайно быстро в списках разошедшуюся по московским салонам. В ней он изобразил так знакомую ему жизнь «кофейного» дома, его доступных обитательниц и гостей, фамилия одного из которых (Буянов) вскоре стала нарицательной. Местом действия поэмы (всего-то в несколько страниц) автор избрал Москву, сложив в одну стезю «Кузнецкий мост и вал, Арбат, и Поварскую».
С восторгом встретили коллеги-литераторы постучавшегося в дверь «Опасного соседа». «Вот стихи! Какая быстрота, какое движение! И это написала вялая муза Василия Львовича!» – сострил Константин Батюшков. Ему в стихотворной форме вторил Евгений Баратынский:
Плодятся без усилья,
Горят, кипят задорные стихи,
И складные страницы у Василья
Являются в тетрадях чепухи.
Остроумная и долгое время «неудобная для печати» поэма, в которой автор по ходу дела еще и осмеял противников Карамзина, на родине была напечатана лишь в начале двадцатого века (а за границей – еще в 1815 г.!). Наложенное цензурой вето на официальную публикацию «Опасного соседа» не только не мешало, а, напротив, способствовало росту популярности поэмы. Так обычно и бывает в подобных случаях.
Кажется, что одним из первых читателей неприличной поэмы дяди стал двенадцатилетний племянник Александр. Когда вскоре после приезда Пушкиных в Петербург в 1811 г. Иван Дмитриев пригласил к себе в гости Василия Львовича, то добрый дядюшка захватил с собою и племянника. Мальчика попросили выйти на время чтения взрослых стихов, на что дерзкий Саша ответил: «Зачем вы меня прогоняете, я все знаю, я все уже слышал».
Всего через четыре года в стихотворении «Городок» в 1815 г. лицеист Пушкин напишет: «И ты, замысловатый Буянова певец, в картинах толь богатый и вкуса образец». В дальнейшем Александр Сергеевич не раз хвалил «Опасного соседа», говоря о том, что эта поэма так хороша, оригинальна и есть самое лучшее из всего дядей сочиненного. А однажды его спросили – не тот ли он Пушкин, что написал эту поэму? Было это в 1821 г. И. Липранди вспоминал, что вопрос этот вызвал у Александра Сергеевича досаду и огорчение. Быть может, поэтому Александр Сергеевич пригласил главного действующего персонажа «Опасного соседа» по фамилии Буянов на страницы своего романа «Евгений Онегин». Перекочевавший Буянов стал, в самом деле, гостем романа, попав сразу на бал к Лариным:
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком).
Двоюродный брат – так Пушкин обозначает свое «непрямое родство» с этим персонажем, подчеркивая сей факт для сомневающихся. Ведь породил Буянова родной дядя поэта, Василий Львович.
Василий Львович не мог не повлиять на формирование Пушкина-поэта: маленький Саша, в детстве часто слушая его стихи, «затвердил некоторые наизусть и радовал тем почтенного родственника», – вспоминал его отец. Племянник отдал должное дяде уже в 1815 г., написав, что «с музами сосватал» его «дядюшка-поэт» («К Дельвигу»).
В марте 1816 г. Василий Львович вместе с Карамзиным и Вяземским навестили лицеиста Пушкина. Вскоре после этого посещения Пушкин пишет дяде стихотворное послание: «Христос воскрес, питомец Феба» (Феб – один из эпитетов древнегреческого бога Аполлона как божества света).
Эпистолярный диалог продолжил Василий Львович, в письме от 17 апреля назвав племянника «братом по Аполлону». Пушкин собрался ему ответить на это письмо лишь в январе 1817 г. стихотворно-прозаическим посланием «Тебе, о Нестор Арзамаса» (5 стихов этого послания распространялись в лицейских списках как самостоятельное произведение под названием «Дяде, назвавшему сочинителя братом»):
Тебе, о Нестор Арзамаса,
В боях воспитанный поэт, —
Опасный для певцов сосед
На страшной высоте Парнаса,
Защитник вкуса, грозный Вот!
Тебе, мой дядя, в новый год
Веселья прежнего желанье
И слабый сердца перевод —
В стихах и прозою посланье.
«Нестором Арзамаса» величает Пушкин дядю как самого старшего арзамасца (старшего годами, но не талантом, что проявлялось в добродушно-ироничном к нему отношении); «Вот», «Вотрушка» – прозвище Василия Львовича среди арзамасцев. Красноречиво и название еще одного стихотворения, обращенного к В.Л. Пушкину, – «Скажи, парнасский мой отец» (1817). На этом разговор поэтов закончился. А вскоре стало ясно, что племянник заткнул дядю за пояс. И в том памятном для Москвы сентябре 1826 г. на Старой Басманной жил уже не «Пушкин», а «дядя Пушкина».